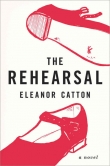Текст книги "Призраки двадцатого века"
Автор книги: Джозеф Хиллстром Кинг
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
Наверное, вы думаете, что меня переполнял восторг, что я завопил от безудержной радости полета? Ничего подобного. Мои ощущения были гораздо тоньше. Мой пульс участился. На минуту я забыл о дыхании. А потом на меня снизошел покой – как штиль на море. Я полностью ушел в себя, стал балансировать на верхушке воображаемого пузыря. (Это сравнение может создать ложное впечатление, будто я чувствовал под собой некую опору. Нет, никакой опоры не было, и именно поэтому мне приходилось переносить центр тяжести в поисках равновесия.) Инстинктивно, а также и по привычке ноги я держал поджатыми к груди, а руки расставил в стороны.
Лунный серп был узок, в первой четверти, но достаточно ярок, чтобы разбросать по земле темные тени с резкими краями. Заиндевелые дворы в сорока ярдах подо мной блестели так, словно каждая травинка покрыта хромом.
Я скользил вперед. Я выписывал петли вокруг безлистных крон красного клена. Сухой вяз давно исчез с нашего двора: лет восемь назад сильная буря переломила его надвое. Верхняя часть упала на дом, и одна длинная ветка разбила стекло в моей комнате. Должно быть, старое дерево все еще желало меня убить.
Было холодно, и чем выше я поднимался, тем ниже падала температура. Меня это не беспокоило. Я хотел вознестись выше всех.
Наш город стоял на склонах долины – грубая темная чаша, расцвеченная огоньками. Слева вдруг раздался заунывный крик, и сердце чуть не выпрыгнуло у меня из груди. Я оглядел чернильные небеса и увидел дикого гуся с черной головой и шеей поразительного изумрудного цвета. Он бил крыльями и с любопытством поглядывал на меня. Однако я заинтересовал его ненадолго; вскоре он нырнул, развернулся к югу и пропал.
Поначалу я летел, не думая о направлении. Меня заставляла нервничать мысль о том, что я не смогу спуститься с высоты восемьсот футов и упаду. И все же, когда пальцы мои перестали гнуться, а лицо потеряло чувствительность, мне пришлось поэкспериментировать. Я осторожно наклонился вперед, и земля стала приближаться – у меня получился тот плавный спуск, что я часами отрабатывал в своем полуподвале.
Внезапно подо мной показались дома Пауэлл-авеню, и я осознал, куда держу путь. Три квартала я проплыл над проезжей частью, один раз взлетев повыше, чтобы обогнуть подвешенный над дорогой светофор, затем заложил левый поворот и понесся, как во сне, к дому Энджи. Она как раз должна была вернуться после вечернего дежурства в больнице.
Но она задержалась почти на час. Я сидел на крыше гаража, когда наш старый бронзовый «сивик» вывернул на подъездную дорожку. У него по-прежнему недоставало бампера и был помят капот – после того, как я врезался в мусорный бак в неудачной попытке скрыться от полиции.
Она подкрасила глаза и губы и надела ту самую светло-зеленую юбку с тропическими цветами по подолу, которую раньше носила только на ежемесячные собрания у себя на работе. Собрания проводились в конце месяца, а до него было еще далеко. Я сидел на жестяной кровле гаража и следил за тем, как она семенит на высоких каблуках к двери и входит в дом.
Возвращаясь с работы, она всегда принимала душ. А мне больше нечем было заняться.
Я соскользнул с конька гаражной крыши, покачался с боку на бок, как воздушный шарик, и подлетел к третьему этажу высокого узкого дома ее родителей. Свет в ее спальне не горел. Я прижался к стеклу, вглядываясь в темноту, и приготовился ждать, когда откроется дверь ее комнаты. Но она уже была там и в следующий миг зажгла настольную лампу как раз у окна, на низком трюмо. Энджи посмотрела в окно прямо на меня. Мне оставалось только неподвижно висеть за стеклом и смотреть на нее. От неожиданности я не мог шевельнуться, не мог издать ни звука. В ее взгляде была усталость. Ни интереса, ни удивления. Она не видит меня. Она не видит меня из-за собственного отражения в темном стекле. Да видела ли она меня вообще когда-нибудь?
Я парил за окном, а она сняла через голову юбку, стянула скромное нижнее белье. Ванная комната примыкала к ее спальне, и Энджи оставила дверь между ними открытой. Сквозь прозрачное стекло душевой кабинки я наблюдал за тем, как она принимает душ. Купалась она долго, поднимала руки, чтобы откинуть за спину волосы цвета меда, подставляла горячим струям грудь. Я и раньше видел, как она моется, но так интересно мне еще никогда не было. Я надеялся, что она начнет мастурбировать гибкой головкой душа (она сама рассказывала мне, что делала так в юности), но она не стала.
Через некоторое время стекло запотело, и я различал только розовый силуэт, перемещающийся по комнате. Потом послышался ее голос. Она говорила по телефону. Спросила кого-то: неужели и в субботу нужно заниматься? Сказала, что ей скучно, что она хотела бы поиграть. В ее интонациях звучали нотки капризного флирта.
В центре оконного стекла появилось прозрачное пятнышко и стало расширяться – окно отпотевало, медленно раскрывая передо мной картину во всех деталях. В облегающей белой майке и черных хлопчатобумажных трусиках, с тюрбаном из полотенца на мокрых волосах она сидела за столом. Телефонный разговор она закончила и теперь раскладывала на компьютере пасьянс, время от времени отвечая на электронные сообщения. Рядом с клавиатурой стоял бокал белого вина. Я смотрел, как она пьет. В кино вуайеристы наблюдают за тем, как модели расхаживают в шикарном белье, но и повседневность возбуждает достаточно: губы на краешке винного бокала, резинка простеньких трусов на белом бедре.
Когда Энджи выключила компьютер, она казалась вполне довольной, но несколько возбужденной. Она забралась в постель, включила маленький телевизор и принялась переключать каналы. Остановилась она на программе о тюленях: показывали, как животные спариваются. Один тюлень забрался другому на спину и наяривал вовсю, тряся складками жира. Энджи с тоской оглянулась на компьютер.
– Энджи, – позвал я.
Она как будто не сразу отдала себе отчет в том, что услышала. Потом села в кровати и прислушалась к тихому дому. Я снова позвал ее по имени. Ее ресницы затрепетали. Она повернула голову к окну почти неохотно, но опять не увидела меня из-за своего отражения… пока я не постучал по стеклу.
Она испуганно вздернула плечи. Ее рот раскрылся в немом крике. Через миг она слезла с кровати и на негнущихся ногах приблизилась к окну. Она пригляделась. Я помахал ей рукой. Взглядом она поискала подо мной лестницу, затем перевела глаза на мое лицо. Она пошатнулась, и ей пришлось схватиться за трюмо, чтобы не упасть.
– Открой, – попросил я.
Энджи долго возилась с рамой, пока не подняла окно вверх.
– Боже мой, – сказала она. – Боже мой. Боже мой. Как ты это делаешь?
– Не знаю. Можно войти?
Я опустился на подоконник, сел и свесил ноги наружу, но одной рукой я уже был в ее комнате.
– Нет, – сказала она. – Я не верю.
– Да. Это правда.
– Как?
– Не знаю. Честно. – Я теребил пальцами край своего плаща. – Я умел это делать и раньше. Очень давно. Помнишь шрам у меня на груди? И колено всегда болит? Я тебе говорил, что упал с дерева, помнишь?
На лице ее читалось удивление, вдруг сменившееся пониманием.
– Да. Ветка обломилась и упала. А ты – нет, не сразу. Ты остался в воздухе. На тебе был плащ, и ты чудом не упал.
Она все знала! Она уже все знала – неизвестно откуда, потому что я ей этого не говорил. Я могу летать. Она ясновидящая.
– Мне рассказывал Никки, – пояснила она, заметив мою озадаченность. – Он сказал, что, когда сук рухнул, ты, как ему показалось, остался висеть в воздухе. Он был так в этом уверен, что сам попытался летать и поэтому повредил лицо. Мы заговорили об этом, когда он объяснял мне, почему у него все зубы вставные. Он сказал, что в те годы был совсем сумасшедшим. Вы оба были сумасшедшими.
– Когда он рассказал тебе про зубы? – спросил я.
Мой брат не преодолел свой комплекс по поводу лица, и особенно зубов. Он не любил рассказывать, что у него вставные зубы.
Она покачала головой:
– Не помню.
Я развернулся на подоконнике и поставил ноги на ее трюмо.
– Хочешь попробовать?
В ее глазах светилось недоверие. Она приоткрыла рот в растерянной, изумленной улыбке. Потом склонила голову набок и прищурилась.
– Как ты это делаешь? – спросила она. – Серьезно!
– Это связано с моим плащом. Не знаю, как именно. Что-то вроде волшебства. Когда плащ на мне, я могу летать. Вот и все.
Она прикоснулась пальцем к моему виску, и я вспомнил о своей маске, нарисованной помадой.
– Что у тебя на лице? Зачем это?
– Так я чувствую себя сексуальным.
– Да ты и вправду чокнутый. И я прожила с тобой два года! – Она смеялась.
– Так ты хочешь полетать?
Я окончательно забрался в комнату и сел на комод, свесив ноги.
– Садись ко мне на колени. Я покатаю тебя по комнате.
Она переводила взгляд с моих колен на мое лицо, в ее улыбке смешались недоверие и лукавство. В открытое окно влетел ветерок, шевельнул мой детский плащ. Энджи поежилась, обхватила свои плечи руками, а потом оглядела себя и вспомнила, что на ней почти ничего нет. Она тряхнула головой, скидывая полотенце с еще влажных волос.
– Подожди минутку, – попросила она.
Она подошла к шкафу, раздвинула двери и нырнула в ящик со свитерами. Пока она одевалась, мое внимание привлекли звуки, несущиеся с телеэкрана. Один тюлень кусал шею другого, яростно мотая головой, а его жертва надрывно выла. Голос за кадром рассказывал, что доминирующие самцы используют все данные им природой средства, чтобы не допустить потенциальных соперников к самкам стада Лед окрасился клюквенно-алыми пятнами крови.
Я так увлекся, что забыл про Энджи. Ей пришлось прокашляться, чтобы напомнить о себе, и когда я обернулся, то успел заметить раздраженно поджатую полоску губ. Со мной это случалось постоянно: миг – и я уже засмотрелся на какую-нибудь телепередачу, хотя она меня вовсе не интересует. Ничего не могу с собой поделать. Словно у меня отрицательный заряд, а у телевизора – положительный. Нас замыкает друг на друга, а все, что остается вне этой связи, перестает существовать. Так же было и с комиксами. Да, это слабость, я признаю, но ее осуждение было мне неприятно.
Она заправила за ухо влажную прядь и одарила меня быстрой эльфийской улыбкой, будто не смотрела на меня только что с раздражением. Я оперся руками о комод, и она неловко устроилась у меня на бедрах.
– Почему-то мне кажется, что все это – глупая шутка, преследующая цель усадить меня к тебе на колени, – сказала она. Я наклонил корпус вперед, готовясь взлететь. – Мы сейчас свалимся…
Я скользнул с края комода в воздух. Меня болтало в разные стороны, а Энджи обхватила меня за шею и восторженно рассмеялась: радостный и одновременно испуганный смех.
Я не особенно крепок физически, но летать с Энджи на руках – это совсем не то же, что носить ее на руках. Она словно сидела у меня на коленях, а я качался в кресле – в невидимом кресле-качалке. Изменился лишь центр тяжести, и теперь я боялся перевернуться, как перегруженное каноэ.
Мы облетели ее кровать, потом перелетели через стол. Она снова кричала, и смеялась, и опять кричала.
– Это самая безумная вещь… – бормотала она. – О боже мой, в это никто не поверит! – воскликнула она. – А знаешь, ты ведь станешь самым знаменитым человеком на всей земле!
Потом она просто уставилась мне в лицо огромными сияющими глазами – так же, как смотрела на меня раньше, когда я рассказывал ей о нашем будущем на Аляске.
Я сделал вид, будто лечу обратно к трюмо, но, добравшись до него, не остановился, а продолжил движение. Только пригнул голову, вылетая из окна. И мы очутились на улице.
– Нет! Что ты делаешь? Господи Иисусе, какой холод! – Она так крепко обнимала меня за шею, что мне было трудно дышать.
Я поднялся к бледной прорехе месяца.
– Потерпи, – сказал я. – Всего одну минутку. Разве оно того не стоит? Полетать? Как во сне?
– Да, – согласилась Энджи.
– Невероятно, правда?
– Ага.
Она вся дрожала, что сопровождалось забавной вибрацией ее грудей под тонкой тканью. Я поднимался все выше – к флотилии облаков, окаймленных ртутью. Мне нравилось, как Энджи прижимается ко мне, и нравилось, как она дрожит.
– Я хочу домой, – сказала она
– Не сейчас.
Моя рубашка немного распахнулась, и она уткнулась ледяным носом в мою голую грудь.
– Я хотела поговорить с тобой, – сказала она. – Хотела позвонить тебе сегодня вечером. Я думала о тебе.
– А кому ты позвонила вместо меня?
– Никому, – ответила она. И тут же сообразила, что я висел за окном и, вероятно, слышал разговор. – Ханне. Ты ее знаешь. С моей работы.
– Она учится где-то? Я слышал, ты говорила, что она в субботу должна заниматься.
– Давай вернемся.
– Конечно.
Она снова зарылась лицом мне в грудь. Носом она водила по моему шраму: серебряной дуге, похожей на серебряный месяц в небе. Я продолжал подъем к луне. Казалось, она уже совсем близко. Энджи прикоснулась к старому шраму пальцем.
– Это невероятно, – прошептала она. – Тебе так повезло. Подумай, что случилось бы, пройди ветка парой дюймов ниже. Она проткнула бы твое сердце.
– Она и проткнула, – сказал я, нагнулся вперед и отпустил ее.
Энджи цеплялась за меня, била ногами, и мне пришлось отрывать от себя ее пальцы один за другим, пока она не упала.
Когда мы с братом играли в супергероев, роль злодея всегда доставалась мне.
Кто-то же должен играть эту роль.
Брат сказал, что мне надо как-нибудь собраться и прилететь к нему в Бостон. И мы с ним сходим куда-нибудь выпить. Думаю, он хочет дать мне пару советов, как старший младшему. Хочет сказать, чтобы я взялся за ум и определился наконец со своей жизнью. А может, он намерен поделиться со мной своей печалью. Уверен, ему есть о чем печалиться.
Что ж, как-нибудь я действительно соберусь и… слетаю к нему. Покажу ему свой плащ. Посмотрим, не захочет ли он примерить его. Посмотрим, не захочет ли он спрыгнуть с пятого этажа.
Может быть, он не захочет. После того, что случилось в прошлый раз, скорее всего – не захочет. Может быть, ему понадобится помощь. Небольшой толчок со стороны младшего братика
И кто знает, вдруг и он взлетит в моем плаще? Поднимется, а не упадет, и поплывет в холодные неподвижные объятия неба.
Но вряд ли. Когда мы были детьми, у него ничего не получилось. Значит, и сейчас не получится. Никогда не получится.
Ведь это мой плащ.
ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ
Примерно около полудня в дверь вошла семья – мужчина, женщина и их сын. В тот день они были первыми и, насколько Элинджер знал по опыту, последними посетителями: в музей никогда не заходило много народу. Элинджер был совершенно свободен и мог провести для них экскурсию.
Он встретил их в гардеробе. Женщина одной ногой все еще стояла на лестнице, колеблясь: идти дальше или нет. С вопросительным видом она смотрела на мужа поверх головы сына. Муж в ответ хмурился. Руками он уже взялся за лацканы пальто, но, казалось, еще не решил, снимать ли его. Элинджер наблюдал эту картину сотни раз. Стоило людям войти внутрь и заглянуть из фойе в погребальный сумрак демонстрационного зала, как их начинали одолевать сомнения: а туда ли они попали, не лучше ли уйти, пока не поздно. Только мальчик не испытывал сомнений в своих действиях; он уже скинул куртку и повесил ее на один из нижних крючков – специально для детей.
Пока они не сбежали, Элинджер дал о себе знать, прокашлявшись. На его памяти никто не осмелился уйти после того, как их заметили. В битве между сомнением и правилами хорошего тона всегда побеждают последние. Он сложил ладони и улыбнулся посетителям – как он надеялся, доброжелательно и по-отечески. Однако эффект вышел обратный. Элинджер был худым, мертвенно-бледным и очень высоким стариком; его виски тонули в глубоких впадинах. Мелкие серые зубы (все свои, несмотря на восемьдесят лет) производили неприятное впечатление, как будто их подпиливали напильником. Отец семейства напрягся. Женщина взяла сына за руку.
– Добрый день. Меня зовут доктор Элинджер. Прошу вас, проходите.
– Э-э… здравствуйте, – пробормотал отец. – Извините за беспокойство.
– Никакого беспокойства. Мы открыты.
– А-а. Отлично! – откликнулся отец, не очень убедительно изображая энтузиазм. – Так что мы… – И его голос оборвался.
Мужчина замолчал, то ли забыв, что собирался сказать, то ли не находя слов, то ли испугавшись. Ему на помощь пришла жена:
– Нам сказали, что здесь анатомический музей. Что-то связанное с дыханием.
Элинджер вновь одарил их улыбкой, и правое веко отца беспомощно задергалось.
– Не совсем так, – сказал Элинджер. – Мы не занимаемся дыханием вообще. Это музей последнего вздоха.
– Чего? – не понял отец.
Женщина нахмурилась:
– Я не понимаю вас.
– Пойдем, мам, – сказал мальчик, освобождая руку из пальцев матери. – Папа, пошли. Я хочу посмотреть, что здесь.
– Прошу вас, – сказал Элинджер, отступая назад и поводя тощей рукой с длинными костлявыми пальцами в сторону экспозиции. – Буду рад провести для вас экскурсию.
Из-за опущенных гардин зал, погруженный в сумрак и отделанный панелями красного дерева, напоминал театр – перед тем, как поднимется занавес для начала представления. Однако витрины освещались тщательно направленными источниками света, утопленными в потолке. На подставках и пьедесталах стояло нечто вроде пустых стеклянных колб, отполированных до яркого блеска. Сияние их округлых боков делало полумрак еще гуще.
К каждой колбе с помощью прозрачного клея был присоединен некий прибор, напоминающий стетоскоп: так, чтобы диафрагма прижималась к стеклу. Рядом в ожидании, когда ими воспользуются, лежали наушники. Первым пошел мальчик, за ним следовали его родители, замыкал короткую процессию Элинджер. Все остановились у первой же витрины, справа у входа. В витрине на мраморном пьедестале стояла запечатанная склянка.
– Здесь ничего нет, – сказал мальчик. Он оглядел зал, уставленный такими же склянками. – Они все пустые.
– Ха, – невесело усмехнулся отец.
– Пустые, да не совсем, – сказал Элинджер. – Эти колбы герметично запечатаны. В каждой из них содержится последний вздох какого-то человека. У меня представлена самая крупная коллекций последних вздохов в мире, более сотни экземпляров. Некоторые принадлежат весьма известным людям.
Теперь засмеялась женщина – но не напоказ, а по-настоящему, от души. Она зажала рот рукой, но все равно вздрагивала, не в силах справиться со смехом. Элинджер терпеливо улыбнулся. Он уже много лет показывает свою коллекцию. Он видел все возможные реакции.
Мальчик же с интересом снова обернулся к витрине. Он взял в руки наушники прибора – они выглядели как стетоскоп.
– Что это? – спросил он.
– Это смертоскоп, – пояснил Элинджер. – Очень чувствительный прибор. Если хочешь, можешь надеть его и услышать последний вздох Уильяма Р. Сьеда.
– Он знаменитость? – спросил мальчик.
Элинджер кивнул.
– Был когда-то. Если только преступника можно назвать знаменитостью. Во всяком случае, он был объектом гнева и изумления общественности. Сорок два года назад его казнили на электрическом стуле. Я сам подписывал акт о его смерти. Его последний вздох занимает в моей коллекции почетное место – он стал первым дыханием, которое мне удалось законсервировать.
Женщина справилась с приступом смеха, хотя все еще держала у рта носовой платок и выглядела так, словно с большим трудом удерживается от того, чтобы не рассмеяться снова.
– А что он сделал?
– Он душил детей, – ответил Элинджер. – Потом хранил их в морозилке и время от времени вынимал, чтобы полюбоваться. Я всегда говорил, что люди коллекционируют самые странные вещи. – Он согнулся, чтобы его лицо оказалось на одном уровне с лицом мальчика, и они оба воззрились на банку. – Не бойся. Возьми наушники, если хочешь послушать.
Мальчик взял наушники и надел их на голову. Его немигающий взгляд замер на играющем отблесками света сосуде. Через некоторое время выражение глубокой сосредоточенности сменилось недовольством.
– Я ничего не слышу. – Он потянулся руками к наушникам, чтобы снять их.
Элинджер остановил его.
– Подожди. Существует много видов тишины. Тишина морской раковины. Тишина после ружейного выстрела. Последний вздох заключен в колбе. Твоим ушам сначала надо привыкнуть. Через несколько минут ты сумеешь различить этот особый вид тишины.
Мальчик опустил голову и закрыл глаза Взрослые наблюдали за ним
Потом глаза ребенка распахнулись, и он поднял сияющее пухлое личико.
– Услышал? – спросил Элинджер.
Мальчик сдвинул наушники с одного уха.
– Он как будто икнул, только наизнанку. Понимаете? Вроде как… – Он изобразил короткий беззвучный вздох.
Элинджер взъерошил мальчику волосы и выпрямился. Мать промокала уголки глаз платком.
– Вы врач? – поинтересовалась она.
– На пенсии.
– Вам не кажется, что это несколько ненаучно? Даже если вы и вправду сумели законсервировать ту самую последнюю молекулу окиси углерода, которую кто-то выдохнул…
– Двуокиси, – поправил он.
– В любом случае, она не издает звуков. Невозможно сохранить в бутылке звук последнего вздоха
– Нет, – согласился доктор. – Но я и не сохраняю звук. Только определенного рода тишину. Мы все производим разные типы тишины. Вот вы, дамочка, никогда не замечали, что ваш муж, когда всем доволен, молчит совсем иначе, чем когда сердится? Наши уши способны уловить разницу между конкретными видами тишины.
Ей не понравилось, что ее назвали «дамочкой». Она сузила глаза и приготовилась сказать Элинджеру что-то резкое, но ее муж заговорил раньше, давая доктору повод отвернуться. Только тогда она заметила, что муж подошел к банке на столике у стены, рядом с темным пуфиком.
– А как вы собираете эти последние дыхания?
– С помощью аспиратора. Это маленький насос, он закачивает выдох в вакуумный контейнер. Я всегда ношу его в своем врачебном саквояже. Разработал прибор я сам, хотя подобные аппараты существуют с начала девятнадцатого века.
– Тут написано «По», – сказал отец, водя пальцем по карточке цвета слоновой кости, стоящей перед банкой.
– Да, – подтвердил Элинджер и тихо кашлянул. – Последнее дыхание известных людей собирают с тех пор, как это стало технически возможным. Признаюсь, мое хобби стоит дорого. За данный выдох я заплатил двенадцать тысяч долларов. Его мне предложил правнук врача, присутствовавшего при кончине По.
Женщина снова засмеялась.
Элинджер терпеливо продолжал:
– Вам может показаться, что я потратил огромную сумму на пустоту, но поверьте, это выгодная сделка. Скримм, парижский коллекционер, заплатил за последний вздох Энрико Карузо в три раза больше.
Отец прикоснулся к смертоскопу, подсоединенному к колбе с дыханием По.
– Некоторые виды тишины каким-то образом резонируют с нашим чувственным восприятием, – сказал Элинджер. – Мы почти ощущаем, как эта тишина артикулирует некую идею. Многие из услышавших последний вздох По говорят, что они уловили некое непроизнесенное слово или невысказанное, но совершенно конкретное желание. Может быть, вы тоже почувствуете это.
Отец семейства нагнулся и надел наушники на голову.
– Это смешно, – сказала за его спиной женщина.
Отец напряженно прислушивался. Его сын нетерпеливо ждал рядом, прижавшись к его ноге.
– Можно и мне послушать, пап? – попросил мальчик. – Теперь моя очередь.
– Ш-ш, – отмахнулся отец.
Они замолчали, а женщина что-то шептала себе под нос с видом снисходительного удивления.
– Виски, – одними губами произнес наконец мужчина.
– Переверните карточку с именем, – сказал Элинджер.
Отец перевернул карточку цвета слоновой кости с именем По на верхней стороне. На обратной стороне было написано: «Виски».
С торжественным лицом, уважительно поглядывая на банку, отец снял наушники.
– Разумеется. Алкоголизм. Бедняга. Знаете, в шестом классе я выучил наизусть его «Ворона», – вспомнил отец. – И читал перед классом без единой ошибки.
– Ой, да хватит, – протянула женщина. – Это какой-то фокус. Скорее всего, под колбой спрятан микрофон. Когда ты берешь наушники, включается запись, где кто-то шепчет слово «виски».
– Я не слышал шепота, – ответил ей муж. – Мне просто подумалось… как будто в голове моей раздался чей-то голос… такое разочарование…
– Громкость стоит на минимуме, – возразила жена. – И запись действует только на подсознание. Вроде того, как делают в открытых кинотеатрах.
Мальчик тем временем тоже надел наушники, чтобы не услышать то же самое, чего не слышал его отец.
– А здесь только известные люди? – спросил мужчина.
Он побледнел, и лишь на скулах рдели два темных пятна, как будто у него начиналась лихорадка.
– Вовсе нет, – сказал Элинджер. – Я запечатываю в колбы последнее дыхание студентов, чиновников, литературных критиков – обычных людей. Одно из самых интересных молчаний в моей коллекции – это последний вздох привратника.
– Кэрри Мэйфилд, – прочитала женщина имя на карточке перед высокой пыльной пробиркой. – Это одна из ваших обычных людей? Должно быть, домохозяйка.
– Нет, – качнул головой Элинджер. – Пока в моей коллекции нет домохозяек. Кэрри Мэйфилд была юной мисс Флорида, невероятной красавицей. С женихом и родителями она направлялась в Нью-Йорк, чтобы сняться на обложке женского журнала. Большой прорыв к славе. Но их самолет упал в национальный парк Эверглейдс.[56]56
Вероятно, имеется в виду реальная авиакатастрофа 1972 года, по которой впоследствии были созданы книга и фильм «Призрак рейса 401».
[Закрыть] Погибло множество людей, про ту катастрофу много писали. Но Кэрри выжила Ненадолго. Выбираясь с места катастрофы, она упала в горящее топливо. Ожоги покрыли восемьдесят процентов ее тела. Она потеряла голос, пока звала на помощь. В реанимации она прожила неделю. В те годы я занимался преподаванием и привел своих студентов посмотреть на нее как на любопытный случай. Тогда редко можно было увидеть живого человека со столь глубокими и обширными ожогами. Некоторые части ее тела сплавились в единое целое. К счастью, мой аспиратор был при мне – она умерла, когда мы осматривали ее.
– Никогда не слышала ничего ужаснее, – сказала женщина. – А как же ее родители? И жених?
– Они умерли сразу, в момент падения самолета. Сгорели у нее на глазах. Не уверен, что их тела нашли и опознали. Аллигаторы…
– Я вам не верю. Ни единому слову. Я не верю ничему, что вы нам тут наговорили. Должна вам заметить, что существуют более умные способы выманивать деньги у честных людей.
– Дорогая, послушай… – заволновался ее муж.
– Если вы помните, платы за вход я с вас не брал, – сказал Элинджер. – Это бесплатная экспозиция.
– Ой, папа, смотри! – крикнул мальчик с другого конца зала, восторженно тыча в карточку. – Тут человек, написавший книгу «Джеймс и персик-великан»![57]57
Автор детской сказки в стихах – английский писатель Роальд Даль (1916–1990).
[Закрыть]
Элинджер повернулся к мальчику, готовый поведать историю данного экспоната, но заметил краем глаза, что женщина двинулась к колбе Кэрри Мэйфилд. Он дернулся вслед за ней.
– Я бы порекомендовал вам сначала послушать кого-нибудь другого, – торопливо заговорил Элинджер. Но она уже надевала наушники. – Большинству посетителей не очень нравится то, что они не слышат в колбе Кэрри.
Она проигнорировала его слова, поправила наушники и приготовилась слушать, поджав губы. Элинджер прижал руки к груди и склонился к ней, следя за выражением ее лица.
Вдруг, без малейшего предупреждения, она отшатнулась от колбы. Наушники были у нее на голове, и резкое движение протащило банку по столу. Элинджер перепугался и подхватил банку, спасая ее от падения на пол. Женщина сдергивала с себя наушники. Ее движения вдруг стали неуклюжими.
– Роальд Даль, – сказал отец, кладя руку на плечо сына и восхищенно глядя на банку, обнаруженную мальчиком. – В самом деле? Значит, вы интересуетесь и литературными светилами, да?
– Мне здесь не нравится, – сказала женщина. Невидящим взглядом она уставилась на склянку с последним дыханием Кэрри Мэйфилд. Похоже, ей было трудно дышать: она шумно сглатывала, прижимая к горлу руку.
– Дорогая? – позвал ее муж. Он пересек зал и озабоченно посмотрел на нее. – Ты уже хочешь уйти? Экскурсия только началась!
– Мне все равно, – ответила она. – Мы уходим.
– Ну, мама! – заныл мальчик.
– Надеюсь, вы распишетесь в моей гостевой книге, – промолвил Элинджер и последовал за супружеской парой в гардероб.
Отец семейства заботливо поддерживал жену под локоть, беспокойно поглядывал на нее.
– Ты подождешь нас в машине? Мы с Томом еще немного походим здесь.
– Я хочу, чтобы мы немедленно ушли отсюда, – произнесла женщина тусклым неживым голосом. – Мы все.
Муж помог ей с пальто. Мальчик засунул руки в карманы и обиженно пинал старый докторский саквояж, притулившийся у стойки с зонтами. Потом до него дошло, что он пинает. Он опустился на корточки и без капли стеснения расстегнул саквояж, чтобы посмотреть на аспиратор.
Женщина надела замшевые перчатки, очень тщательно натягивая каждый палец. Она, казалось, глубоко погрузилась в какие-то мысли, и Элинджер удивился, когда она вдруг поднялась, развернулась на каблуках и направила на него тяжелый взгляд.
– Вы ужасный человек, – заявила она– Ничуть не лучше тех, кто грабит могилы.
Элинджер сложил на груди руки и сочувственно улыбнулся. Он уже много лет демонстрирует свою коллекцию. Он сталкивался со всеми возможными реакциями.
– Дорогая, – вмешался ее муж. – Посмотри на это с другой точки зрения.
– Я иду в машину, – сказала она и опустила голову, вновь замыкаясь в себе. – Догоняйте.
– Подожди! – крикнул ей вслед муж. – Подожди нас.
Он еще не надел пальто, а мальчик все еще занимался аспиратором. Он сидел на коленях перед раскрытым саквояжем и кончиками пальцев ощупывал прибор, внешне напоминавший металлический термос с резиновыми трубочками и пластиковой маской для лица.
Женщина не слышала мужа и продолжала идти к выходу. Дверь за собой она не закрыла. Не поднимая глаз, она спустилась по гранитным ступеням на тротуар. Ее покачивало из стороны в сторону, как лунатика, когда она вышла на проезжую часть и направилась к их машине, припаркованной на другой стороне улице.
Элинджер доставал из шкафа гостевую книгу – он надеялся, что мужчина все-таки оставит запись, – когда раздался визг тормозов и металлический хруст, будто машина на полной скорости врезалась в дерево. Но он уже знал, что это было не дерево.
Отец издал вопль, потом еще один. Элинджер обернулся и только успел заметить, как тот летит вниз по лестнице. На улице, развернувшись под невероятным углом, стоял черный «кадиллак». Из-под смятого капота вырывались клубы пара. Водительская дверца была распахнута, и водитель стоял на дороге, теребя в руках шляпу.
Даже сквозь звон в ушах Элинджер слышал бормотание несчастного водителя:
– Она даже не посмотрела. Вышла прямо на дорогу. Боже праведный. Что я мог сделать?
Отец не слушал. Он опустился посреди улицы на колени и обнял ее. Мальчик замер в гардеробе, просунув одну руку в рукав куртки, и смотрел на улицу. На его лбу надулась и пульсировала синяя вена.
– Доктор! – крикнул отец. – Пожалуйста! Доктор! – Он оглянулся на Элинджера.