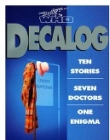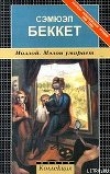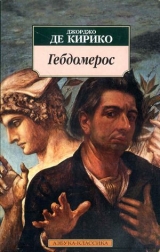
Текст книги "Гебдомерос"
Автор книги: Джорджо де Кирико
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Однако надо было возвращаться домой, Гебдомерос это понимал, и глубокая печаль затопила его сердце. Самые безумные надежды, конечно, не оправдались, и отпечатанные черными буквами выводы в иерархическом порядке триумфально выстроились на белом листе бумаге. Прямо как генералы, как высокие должностные лица и сановники, скрывающие под пышными усами злую, непристойную улыбку, которые лицемерно склонились в протокольном уничижении, стремясь лишь к тому, чтобы соблюсти внешние приличия, впрочем весьма сомнительные и никому не нужные. Остальное Гебдомерос знал. Он хорошо знал это нескончаемое дневное время в комнате (со стороны сада) с географическими картами. Да, после завтрака он отправлялся туда отдохнуть; хотя так лишь говорилось. Ибо какой покой? С самого раннего утра было жарко, нестерпимо жарко. Тогда куда же спряталось это сладостное божество – покой, младший брат сна? Тоска, бесконечная тоска; простирающиеся из окон руки; белые оконные занавески с непритязательной вышивкой, время от времени приводимые в движение дуновением теплого ветерка, доносящегося с полей, с тех самых полей, что простирались, касаясь друг друга своими похожими один на другой изгибами; их спокойная цветовая гамма представляла собой не более чем монотонную симфонию серых, серо-зеленых, серо-охристых, зелено-охристых оттенков. Но почему вдруг нужно остановиться? Зачем отказываться от счастливой судьбы и от возможности начать дело хоть и трудное, но сулящее удовольствие и внезапное, незабываемое отдохновение? И что же, если это дело не состоит в том, чтобы погрузиться в блаженный мир сна, как, иронически улыбаясь, говорил сам Гебдомерос. На нет и суда нет; дал одной рукой, беру другой. На окраинах восточных городов, под давящим раскаленным куполом неба дизентерийные торговцы суетились вокруг беспорядочно сваленных в горячей пыли товаров; над ними назойливо вились мухи с танатоносными, то есть смертоносными, хоботками, беспрерывно стрекоча своими радужными крылышками. «Да, – говорил Гебдомерос, – дела есть дела: коммерция, сделки, обмены, спекуляция, доверенности, кредиты, прибыль, и что? Сморенные усталостью, замаравшие руки презренным металлом, что имеем в качестве вознаграждения вечером? Горсть подпорченных фиников и глоток теплой воды с птичьим пометом пополам из подгнившей деревянной миски… Но сегодня вечером великая награда – это ты, маленькая мать Гракхов! Ты, пастушка с обвитыми лентами ногами и материнскими руками, ты, неуклюжая газель, ты, маленькая мать Гракхов! Если бы на грязных темных улицах плебс в ярости забрасывал камнями твоего сына, он, о трогательная и беззащитная, нагой, словно ослик без вьючного седла, угадал бы блеск глаз в бреду брошенного тобою на толпу взгляда; а тот, перед кем все расступаются, на собственных руках принес бы тебе твоего сына, окровавленного, но спасенного, твоего сына, потерявшего сознание, но живого, он принес бы его, чтобы увидеть чудо твоих слез, этот жемчуг, катящийся сначала медленно, затем все быстрее по твоим прекрасным щекам и падающий на твои чистейшие ладони. О, маленькая мать Гракхов!» [77]77
Дочь Сципиона Африканского, мать Тиберия и Гая Гракхов Корнелия пользовалась огромным уважением римского народа. По свидетельству Плутарха, в честь нее поставили бронзовое изображение с надписью: «Корнелия, мать Гракхов» (см.: Плутарх.Указ. соч. Т. И. С. 310). Ее старший сын Тиберий был убит не плебсом, а приверженцами олигархии во время волнений на Капитолии. Пал жертвой противников реформ Гракхов и младший сын Гай.
[Закрыть]
Сценарий вновь изменился. Опустились сумерки. Закоулки, из которых доносилось зловоние гниющего мусора, теперь опустели; никаких избиений. Мать Гракхов выцивилизировалась, [78]78
В оригинале: «La madre dei Gracchi s'era evoluta…» «Evoluto» в переводе с итальянского означает «высококультурный», «высокоразвитый». Предлагаемый нами перевод оборота «s'era evoluta» отчасти подсказан фрагментом из Плутарха: «Корнелия, как сообщают, благородно и величественно перенесла все эти беды… но всего больше изумления вызывала она, когда, без печали и слез, вспоминала о сыновьях и отвечала на вопросы об их делах и об их гибели словно бы повествовала о событиях седой старины. Некоторые даже думали, будто от старости или невыносимых страданий она лишилась рассудка и сделалась бесчувственной к несчастиям, но сами они бесчувственны, эти люди, которым невдомек, как много значат в борьбе со скорбью природные качества, хорошее происхождение и воспитание…» (там же. С. 318).
[Закрыть]если можно так выразиться.
Завершая прогулку в глубокой меланхолии от сознания того, что счастье свершилось и радость иссякла, опечаленные люди возвращались, таща за руки сонных детей, к домашним очагам.
Гебдомерос распахнул окно в мир, на сцене которого жизнь разыгрывала свой спектакль. Со скрещенными на груди руками, с высоко поднятой головой, словно мореплаватель, глядящий с носа корабля на открывшуюся ему неведомую землю, он замер в ожидании. Он вынужден был ожидать, поскольку это все еще длился сон, если не сон во сне. Небо на горизонте озарял последний вечерний свет. Стройными колоннами поднимались и поднимались столбы дыма… Гебдомерос повернулся в своей кровати – который час? – и продолжил разговор с самим собой вслух: «Который теперь час? Скоро встанет луна, а вместе с ней появятся звезды, поднимется ветер. Меня зажрали блохи, и гастрит скрутил мой желудок. Остатки настойки опиума и черной белены я уже выпил! На что еще можно надеяться? На что рассчитывать? Боги-мигранты; шутливые сокровища прячутся в кустарнике и подают вам оттуда знаки, и вы приближаетесь к ним, вам кажется, что делаете это успешно, но стоит приблизиться к ним на расстояние двух шагов, как они тут же оказываются вновь далеко, и даже дальше, чем прежде. Увы! Убийцы, покинувшие города; царящие повсюду мир и справедливость. И ты, которую я увидел в своем дневном сне; ты, чей взгляд мне говорил о бессмертии!»
Как всегда ничему не доверяя, он медленно опустил одну руку в карман брюк, а вторую оставил свободной, чтобы быть готовым отразить удар. Мимо в молчании проходили когорты суровых и решительных на вид гоплитов. [79]79
Гоплит – тяжеловооруженный пехотинец в Древней Греции.
[Закрыть]Бесшумно взмыли в небо ракеты; все звуки замерли. Все, что было в этом мире твердой материей: камни на земле, человеческие кости, кости животных, – казалось, дематерилизовалось навеки; все накрыла огромная неотвратимая волна бесконечной любви, а в центре этого молодого Океана со спущенными флагами парил корабль Гебдомероса. И тогда в его душе таинственным образом постепенно пробудилась новая, необыкновенная уверенность. Сначала он испугался, даже задрожал; так дрожит старик-паралитик в своем кресле, оставшись в замке глубокой ночью, в непогоду, в полном одиночестве, когда смотрит, как поворачивается дверная ручка и в комнату просовывается чья-то загадочная рука. Затем внезапно страх, тоска, сомнения были сметены неудержимым порывом, и в чудовищном вихре все исчезло за низкими изразцовыми стенами, к которым, словно навязчивая болезнь, лепились крапива и ежевика. Вздымались и опрокидывались волны, чьи гребни, как кружевами, отделаны были пеной; бесчисленные стада диких лошадей, с копытами, словно отлитыми из стали, эта лавина трущихся, толкающихся, давящих друг друга крупов скрылась в бесконечности…
И еще раз были пустыня и ночь. Снова все замерло и погрузилось в молчание. Внезапно Гебдомерос в глазах той женщины признал глаза своего отца; и тут он все понял.В беззвездной ночи с ним говорила Богиня Бессмертия.
«О Гебдомерос, – сказала она, – я – Бессмертие. [80]80
Бессмертие для Кирико, как Вечность для Ницше, – стратегия и итог вечного возвращения. Ср. с рефреном последней главы третьей книги «Так говорил Заратустра»: «О, как не стремиться мне страстно к Вечности и к брачному кольцу колец – к кольцу возвращения? (…) Ибо я люблю тебя, о Вечность!» (Ницше Ф.Соч.: В 2 т. Т. II. С. 169).
[Закрыть]Существительные имеют свой род, точнее, пол, как ты сам однажды тонко подметил, а глаголы, увы, времена. Думал ли ты о моей смерти? Думал ли ты о смерти моей смерти? Думал ли ты о моей жизни?Однажды, о брат…
Она умолкла. Расположившись рядом с Гебдомеросом на обломке колонны, она ласково положила одну руку ему на плечо, а другой сжала правую руку Героя…
Гебдомерос сидел опершись локтем на руины, подперев голову ладонью и больше не думал ни о чем… Его мысль медленно растворялась в нежных звуках услышанного голоса, отступала и наконец иссякла. Ласковая волна этого голоса подхватила ее, и на этой волне она отправилась в неизведанные, необыкновенные края… отправилась в теплоту заходящего солнца, смеющегося из своего небесно-голубого убежища…
Тем временем между небом и широко раскинувшимися морями плыли зеленые острова; эти удивительные острова проходили как эскадра проходит перед флагманским кораблем, а еще выше летели длинной вереницей и пели великолепные птицы девственной белизны.
КОНЕЦ
Метафизика и мифология Джорджо де Кирико
Если даже философияи достигнет когда-либо высшего совершенства, то все же она, при познании сущности мира, не будет исключать остальных искусств;напротив, она всегда будет в них нуждаться как в необходимом комментарии. И наоборот, она тоже представляет собою комментарий к остальным искусствам, но лишь для разума, как отвлеченное выражение содержания всех остальных искусств, а следовательно, сущности мира.
Артур Шопенгауэр
Мифотворческую практику XX столетия еще предстоит осмыслить, однако не вызывает сомнений тот факт, что она являет собой культурный феномен новейшего времени. Уже в начале прошлого века новоявленные мифотворцы как традиционалистских, так и авангардистских направлений с завидным усердием воздвигали каждый свой собственный Олимп и населяли его идолами и фантомами, казалось бы не способными соперничать в долгожительстве с богами древнего Пантеона. Но этим порождениям секуляризированной веры(К. Хюбнер) странным образом удавалось успешно конкурировать с олимпийцами, а время от времени полностью вытеснять их за горизонт художественной проблематики. Летящей Нике приходилось уступать место воспетому футуристами стремительно мчащемуся автомобилю, пьедестал богини памяти Мнемозины, благодаря которой только и возможно наследование традиционных ценностей, шатался под натиском Абсурда и Бессознательного; шокирующая образность авиньонских девушек Пикассо «затмевала» красоту античных Граций, а аполлонический принцип воплощения ясности и гармонии мира уступал приоритет холодному структурному анализу его единичных материальных форм.
Джорджо де Кирико, создатель «метафизической школы живописи» – , принадлежит к числу тех представителей новой культуры, кто, встав на этот путь, одним из первых доказал его плодотворность и обогатил духовный ареал современного человека мифологемами, заимствованными в культурных образованиях классических эпох. Датой возникновения школы назовут 1917 год, когда в Ферраре к Джорджо де Кирико и его брату Альберто Савинио примкнет, оказавшись под обаянием новой поэтики, один из бывших лидеров футуризма Карло Kappa. Дата эта весьма условна, поскольку как и иконография, так и принципы художественно образной системы метафизики складываются несколько раньше, в начале 10-х годов, но первое время Кирико остается единственным представителем нового направления. С самого начала так называемая pittura metafisica являла собой типологическую модель европейского авангарда, весьма отличную от современных ей кубизма или футуризма.
Метафизика шла путем обновления всей образной системы не через изобретение новых форм, а через поиск нового угла зрения, позволяющего увидеть знакомые объекты в необычном качестве, вне контекста их обыденного существования. Савинио обвиняет кубистов и футуристов в том, что они остановились лишь на чувственной, внешней стороне вещей, в то время как «наше интуирование внешнего мира – акт не только чувственный, но и интеллектуальный». [81]81
Цит. по: Maltese С.Storia dell'arte in Italia. Torino, 1960. P. 321.
[Закрыть]Задача метафизического гения состоит не в воспроизведении визуальной действительности, а в раскрытии некой мистической тайны инобытия. Принципиальная непознаваемость мира не должна смущать настоящего художника хотя бы уже потому, что отражение конкретного (бытийного) содержания жизни не является задачей искусства, и не призрачный фантом знания, a aenigma будит творческую фантазию и приводит в движение силы воображения и интуиции. Ключом к таинственным смыслам, кроющимся за материальными формами реальности, является, конечно же, разум, между тем понимание разума метафизиками весьма специфично. «Мир полон демонов, – утверждает Кирико, – необходимо обнажить демонизм каждой вещи». [82]82
Цит. по: Bellonzi F.Pittura italiana. Milane, 1963. V. 5 P. 77.
[Закрыть]В соответствии с поставленной целью следует рассматривать и пути ее достижения. Разум для Кирико отнюдь не средство научного познания объективной реальности, а инструмент, с помощью которого художник якобы обнажает некую фантастическую сущность этой реальности, скрытую от глаз человека. Поэтому определяющую роль в творческом процессе художник отводит интуиции и интеллекту, в то время как достоверность первичных элементов человеческого знания – чувств и ощущений, ставится под сомнение. «Мы ощущаем лишь наиболее очевидные движения, – пишет Кирико, – а тем временем определенные аспекты мирозданья, существование которых мы полностью игнорируем, неожиданно ставят нас лицом к лицу с таинствами, которые всегда лежат в пределах нашей досягаемости, однако мы не в состоянии их увидеть, так как мы слишком недальновидны и не способны их прочувствовать, так как чувства наши недостаточно развиты». [83]83
Цит. по: Readff. A Concise History of Modem Painting. New York; Washington, 1965. P. 122.
[Закрыть]В подобного рода высказываниях не трудно заметить перекличку с идеями Шопенгауэра. Кирико откровенно пишет: «Шопенгауэр и Ницше первыми указали на глубокое значение нечувственного аспекта жизни и на то, каким образом этот нечувственный мир может быть передан художественными средствами, и даже определить внутренний скелет искусства поистине нового, свободного и значительного». [84]84
Цит. по: Crispolti E.Il Surréalisme Milano, 1969. P. 14.
[Закрыть]Чувственный опыт и рациональное познание не способны открыть нам истинной сущности вещей. Согласно Шопенгауэру, физическое тело – лишь видимость, не тождественная этой сущности. Постижение ее возможно только на иррациональном уровне. В процессе художественного творчества, как и в области познания, первостепенное значение имеет интуиция. Посредством художественной интуиции познается не объективная вещь в ее практическом применении, а ее идея, вечная форма, то, что Кирико именует «демонизмом».
Метафизическая мифология Кирико инспирирована была самой биографией «всеевропейца», постоянно меняющего место жительства. Она как бы сама собой слагалась в ходе одиссеи урожденного Греции итальянца, пускавшего корни то в Мюнхене, то в Ферраре, то в Риме, то в Париже. Родился будущий художник в маленьком городке Воло в 1888 году в семье итальянского инженера, руководившего строительством железной дороги в Фессалии. Уже в раннем возрасте, испытав «одержимость демоном искусства», [85]85
De Chirico by de Chirico. New York, 1977. P. 14.
[Закрыть]Кирико начал свое художественное развитие с копирования старых гравюр и чужих рисунков, прибегнув таким образом к традиционному методу обучения, практиковавшемуся в ту пору почти во всех художественных заведениях. Отец, заметив интерес сына к рисованию, приглашает в дом молодого грека, железнодорожного служащего Мавридиса. Художника-самоучку отличало добросовестное отношение к ремеслу рисования. Скорее всего старательность и тщательность манеры, в которой он работал, лишь компенсировали отсутствие подлинного таланта, однако своему юному ученику Мавридис казался истинным магом и волшебником. «Я думал, – признается позже Кирико, – что этот человек может изобразить все, даже по памяти, даже в темноте, не глядя на объект; что он может нарисовать плывущие облака и растения, ветви деревьев, колышущиеся на ветру, и цветы самой причудливой формы; людей и животных, фрукты и овощи, рептилий и насекомых, плавающих в воде рыб и парящих в воздухе птиц; я думал, что абсолютно все может быть запечатлено волшебным карандашом этого исключительного человека». [86]86
The Memoirs of Giorgio de Chirico. New York, 1994. P. 19.
[Закрыть]Вряд ли эти восторженные слова соответствуют дарованию Мавридиса. Очевидно лишь, что наставления учителя, касающиеся техники рисования, были старательно усвоены учеником, который уже в зрелые годы, читая Рескина и находя в трудах английского критика те же мысли и практические советы, вновь и вновь испытывал чувство благодарности к наставнику детских лет. Пример Мавридиса сыграл решающую роль в формировании взглядов будущего мастера на задачи искусства и характер творческого процесса. Кирико всегда настаивал на том, что, прежде чем становиться Сезаннами или Матиссами, прежде чем обращаться к поискам новых форм выражения, живописцу следует в совершенстве овладеть секретами профессионального мастерства, научиться передавать объекты с точностью академической штудии. Для него никогда не существовало альтернативы: фигуративная живопись или отвлеченные формы и красочные пятна. Кирико продолжал хранить верность традиционной изобразительности.
Свое художественное образование Кирико продолжил в афинском Политехническом институте, где наряду с факультетами естественных наук существовали классы рисунка, живописи и скульптуры. В своих мемуарах художник резко критикует принцип работы с натуры, который утвердился в художественной практике благодаря «так называемой эволюции изобразительного языка» и «так называемому модернизму», в результате чего «нынешний студент академии даже не знает, как следует держать в руке карандаш, уголь или цветной мелок». [87]87
Ibid. P. 21.
[Закрыть]Система же образования в Политехническом институте предполагала жесткую последовательность в освоении материала. На первом курсе учащимся предлагалось копирование черно-белых графических изображений, на втором курсе – скульптур, однако только голов и торсов, на третьем и четвертом годах обучения студенты штудировали целые скульптурные композиции и лишь на пятом курсе приступали к работе с живой моделью. Кирико полагает подобный учебный процесс единственно правильной и целесообразной системой, позволяющей выработать у учащихся навык «изображать человеческую фигуру так, чтобы она выглядела действительно человеческой, и рисовать руки и ноги, которые не вызывали бы комического сходства с парой вилок или дверных ключей, как это бывает в работах наших „гениев" – модернистов». [88]88
Ibid.
[Закрыть]С годами Кирико не изменит своей точки зрения на проблему профессионального мастерства, напротив, его суждения приобретут еще более категоричный характер.
Он нередко будет обращаться к работе с натуры, однако запечатленные в эскизах и набросках непосредственные впечатления будет рассматривать как подсобный, «строительный» материал, по-прежнему полагая, что концепция художественного образа рождается в результате преломления чувственных ощущений сквозь призму художественного опыта, который приходит с изучением классического искусства. Камиль Коро любил повторять: натура – лучший учитель. Кирико не согласен с этим утверждением, он считает, что «знаменитый французский пейзажист был не прав или по крайней мере заблуждался, и когда Делакруа говорил, что натура не может научить нас, как достичь совершенства, он был значительно ближе к истине. В действительности, единственное, что может научить писать и рисовать хорошо, постоянно добиваться прогресса – это работы Старых Мастеров». [89]89
Ibid. P. 179.
[Закрыть]
В 1906 году после смерти отца семья переезжает в Мюнхен. По дороге в баварскую столицу Кирико с матерью и братом посетили некоторые итальянские города. Пребывание в Венеции осталось в памяти художника благодаря долгим часам, проведенным у полотен Тициана, Тинторетто, Веронезе. Милан запомнился грандиозной выставкой, организованной по случаю юбилея Симплонского Туннеля, один из павильонов которой был посвящен работам Сегантини и Превьяти. Пронизанные духом символизма образы итальянских дивизионистов произвели на начинающего живописца сильное впечатление. Умение понять метафизическое содержание любого произведения искусства, повествующего о чем-либо «курьезном, странном и поразительном», пришло к нему значительно раньше, чем способность наслаждаться открытием «бесконечной тайны его живописной природы», тем не менее, будучи уже зрелым мастером, Кирико признается: «Когда я сравниваю эти два удовольствия, которые дает понимание поэзии и метафизики, с одной стороны, и художественных достоинств – с другой, я чувствую, что второе удовольствие значительно глубже и полнее». [90]90
Ibid. P. 52.
[Закрыть]В признании Кирико, любителя неординарных пластических образов с таинственной семантической наполненностью, отчасти неожиданно, отчасти закономерно прозвучит мысль, созвучная творческому мышлению великого интерпретатора античной традиции Пуссена: «Новое в живописи заключается не в невиданном доселе сюжете, а в хорошей своеобразной композиции, в силе выражения: таким образом обычную и старую тему можно сделать единственной и своем роде и новой». [91]91
Цит. по: Мастера искусства об искусстве. М, 1967. С. 278–279.
[Закрыть]
Поступив в мюнхенскую Академию художеств, Кирико продолжает изучать классическое наследие и одновременно проявляет интерес к творчеству мастеров немецкого мистического романтизма. Наиболее сильное впечатление производят на него живописные фантазии Беклина. В работах своего современника Кирико ценит как визионерский способ репрезентации смыслового контекста, так и высокий профессиональный уровень исполнения. «Беклин, – полагает Кирико, – в большей степени, чем Клингер, был озабочен тем, что касалось собственно технической стороны живописи. Для Клингера вопрос техники не столь важен, в его творческом процессе первостепенную роль играет его исключительный менталитет – менталитет поэта, философа, наблюдателя, мечтателя, эрудита и психолога». [92]92
Цит. по: Crispoki E.Op. cit. P. 14.
[Закрыть]Кирико наследует у Беклина поэтический сплав реального и ирреального, существующего и воображаемого, материальности образов и их потусторонности, отрешенности от всего земного. Клингер же открывает ему способ интерпретации греческого мифа, основанный на «соединении в одной картине сцен современной жизни и античных видений». [93]93
Об этом Кирико напишет в связи со смертью Клингера в 1920 году. (См.: Ibid.)
[Закрыть]И вряд ли автора этого послесловия можно будет упрекнуть в злоупотреблении поэтической метафорой, если он предположит, что в таинственных садах и рощах, запечатленных на полотнах другого немецкого романтика – Ганса фон Маре, представляющих собой модель идеальной среды, климат которой будто бы создан специально для того, чтобы стимулировать творческий процесс, могло непосредственно формироваться самобытное художественное видение Кирико; а населяющие эти сады и рощи фигуры, словно замершие в сомнамбулическом сне, играли роль молчаливых свидетелей этого процесса.
Кроме того, именно в Германии для художника, чье детство прошло «на берегу моря, видевшего отплытие аргонавтов, у подножия гор, бывших очевидцами мужания быстроногого Ахилла и мудрых наставлений воспитателя-кентавра», [94]94
Цит. по: L'opéra compléta di Giorgio de Chirico. Presentazione e apparati critici e filologici di M. F. dcll'Arco. Milano, 1984. P. 67.
[Закрыть]памятники Греции становятся предметом поэтического осмысления и аналитического исследования. Сам Кирико позже напишет: «Германия размещается в центре Европы. ‹…› В то время как Италия и Франция своими пограничными полюсами земли соприкасаются одна с Грецией, другая с Африкой, Германия не может ощутить дыхание этих земель, воспринять их знойные или освежающие дуновения иначе как сквозь окружающие ее на юге и востоке леса и горы… Насколько я могу судить, трудно найти итальянского философа, поэта, художника или скульптора, которого бы смущалатайна Греции. Германия же при наличии мощного барьера, разделяющего ее с миром Средиземноморья и Востока, желая глубже заглянуть в этот мир, вынуждена напрячь все творческие силы… ‹…›…привести в движение весь сложный механизм взаимодействия разума и поэтического чувства». [95]95
Ibid.
[Закрыть]Здесь, в Германии, где на протяжении двух последних столетий философской мысли и поэтическому творчеству принадлежал приоритет над пластическими искусствами, формируется база метафизической мифологии, а ее создатель провозглашает себя духовным наследником Фридриха Ницше. Для Кирико отнюдь не выбором, а неизбежностью было изучение трудов философа, определивших духовный климат целой эпохи и решительным образом отразившихся на судьбах европейской культуры XX века. В начале столетия, когда классическая форма, вызревшая в подражании грекам, казалось, была полностью исчерпана, Кирико был одним из тех, у кого идеи Ницше, отстаивающие, но одновременно и мистифицирующие «самодовлеющее великолепие» древних, должны были найти самый живой отклик. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к некоторым пассажам «Рождения трагедии». Эта «дерзкая», как охарактеризовал ее сам автор, книга не могла не привлечь внимания Кирико, ибо задача проникнуть в «тайну» Греции, по-новому осветив феномен античной культуры, составляла смысл творчества самого живописца. «Каждая эпоха, – пишет философ, – каждая ступень образования хоть раз пыталась с глубоким неудовольствием отделаться от этих греков, ибо перед лицом их все самодельное, по-видимому вполне оригинальное и вызывающее совершенно искреннее удивление, внезапно теряло, казалось, жизнь и краски и сморщивалось до неудачной копии, даже до карикатуры». [96]96
Нищие Ф.Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм // Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. I. С. 231.
[Закрыть]Ницше выносит суровый приговор всей современной культуре, недостойной своего величественного пролога: «И вот мы стыдимся и боимся греков; разве что кто-нибудь ставит истину выше всего и посему отваживается сознаться и в той истине, что греки – возницы нашей и всяческой культуры, но что по большей части колесница и кони неважного разбора и недостойны славы своего возницы, который посему и считает за шутку вогнать такую запряжку в пропасть, через которую он сам переносится прыжком Ахилла». [97]97
Там же.
[Закрыть]Не наводят ли рассуждения Ницше на мысль, что в музеефобии итальянских футуристов проявляется неосознанный страх спасовать перед лицом культуры, в сравнении с которой их собственный художественный опыт может обнаружить несостоятельность? Кирико же не тщится ни сменить возницу, ни рациональным путем постичь образ его действий. По его мнению, истинный смысл и ценность иконографических и пластических образов Греции, как и нечувственной стороны реальности, раскрываются в интуитивном прозрении. Однако интуиция – это инструмент, с помощью которого постигается истина субъективной ясности, в свете ее даже устойчивые мифологемы обретают неожиданный смысл. Творчество Кирико словно подтверждает тезис Ницше: «Самое существенное в нашеммышлении – это включение нового материала в старые схемы (прокрустово ложе), уравниваниенового». [98]98
Ницше Ф.Боля к власти. М., 1994. С. 231.
[Закрыть] Уравнивание нового,иными словами актуализация старого, – таков взгляд метафизика на греческую культуру с ее мифотворческой природой. Для итальянского мастера античность не оставшаяся в прошлом культурная эпоха, а настоящее,сосуществующее в едином пространственно-временном континууме с текущим историческим моментом. Его живописные полотна изобилуют античными статуями, которые, как правило, не довольствуются ролью пластической цитаты, а, неожиданно обретя голос, становятся протагонистами разворачивающейся на картине мистерии. Мифические персонажи – боги, герои, кентавры – оживают на страницах романа «Гебдомерос», а именами мыслителей и художников древности – Пифагора, Гераклита, Зевксида – пестрят теоретические очерки художника. Для Кирико античность представляется не простым образцом для подражания, не источником для цитирования и даже не мерилом значимости единичных художественных ценностей, а наследием, в интеллектуальном диалоге с которым только и возможно познание современной культуры.
Пребывание в Мюнхене оказалось плодотворным, но недолгим. В І909 году семья возвращается в Италию, а через два года Кирико уезжает, на этот раз в Париж. Сюда он прибывает летом 1911 года вслед за своим братом Андреа, начинающим музыкантом и композитором, увлекшимся впоследствии литературной деятельностью и ставшим одним из ведущих теоретиков нового искусства. Окунувшись в культурную жизнь столицы Франции и обретя покровителя в лице Гийома Аполлинера, оба брата довольно быстро получают известность. Андреа де Кирико, успешно выступив с концертом, в котором исполнил собственные сочинения, впоследствии берет псевдоним Альберто Савинио. Он идет на этот шаг не только для того, чтобы его не путали со старшим братом, но и следуя примеру Аполлинера (Вильгельма Аполлинария Костровицкого), чей авторитет к этому времени был уже столь велик, что вызывал у окружающих желание подражать.
Джорджо де Кирико, сменив несколько мастерских, обосновывается на улице Campagne-Premier, расположенной неподалеку от Монпарнаса, знакомится с его обитателями. К двум влияниям – Греции и немецкой философии – здесь присоединится еще одно, пожалуй не столь мощное и несколько запоздалое, – это влияние парижского окружения. Друг отца Кирико, музыкальный критик Кальвокоресси, знакомит молодого живописца с французским художником Пьером Лапрадом, который помогает ему выставить свои работы в Salon d'Automne 1912 года. Причем событие это отмечено было весьма примечательным эпизодом. Поскольку Кирико, представив на суд устроителей выставки свои работы, не оставил о себе никаких прочих данных, кроме имени, члены жюри поместили его картины в зале испанской живописи. Решение организаторов салона было в высшей степени знаменательно. Французы, имевшие довольно смутное представление о художественной жизни провинциальной Италии, отдавали предпочтение испанской школе живописи, полагая ее более оригинальной и новаторской. Размещение же среди испанцев работ итальянского художника было по сути дела безоговорочным признанием их самобытности. Что же касается творческих контактов с французскими живописцами, то они не приносят практических результатов. Двадцатитрехлетний итальянец ощущает себя достаточно зрелым, для того чтобы отказаться от очередных уроков, на сей раз французской живописи, в то время как для своих парижских друзей он еще слишком молод, чтобы иметь последователей. Разумеется, жизнь на Монпарнасе, контакты с Аполлинером, Полем Гийомом, молодым коммерсантом, коллекционирующим работы Пикассо, Дерена, Пикабиа, не проходят для Кирико бесследно. Вместе с тем было бы преувеличением утверждать, что художественная жизнь Парижа, города, который он сравнивает с Афинами времен Перикла, врывается в его замкнутый мир. Атмосфера столицы европейского авангарда скорее мягко обволакивала творческую индивидуальность, без попытки офранцузитьее, принимала ее персональный эстетический опыт, включая в систему своих духовных координат. Так было с Сутином, Донгеном, Модильяни. Так было и с Кирико.
Вращаясь в среде, пронизанной идеей обновления европейской культуры, Кирико продолжает изучать классику, чему способствуют частые посещения Лувра. Художник словно заново открывает для себя мастеров итальянского Возрождения, что же касается античной пластики, то она, по его собственному признанию, предстает перед ним в некоем новом качестве, в том, «в каком она должна была выступать во мраке святилища во время свершения таинства». [99]99
Цит. по: L'opcra compléta… P. 77.
[Закрыть]Вместе с тем Париж пробуждает у Кирико живейший интерес к современности. «Современность, – пишет он, – эта великая загадка обитает в Париже повсюду». [100]100
Ibid. P. 76.
[Закрыть]Здесь даже уличная реклама, торговые вывески и светящиеся витрины магазинов способны таинственным образом удивлять и провоцировать фантазию. Полотна его обогащаются новыми пластическими элементами. Среди ставших для живописца традиционными мотивов – античных статуй, классических аркад, столь характерных для старинных итальянских городов, – все чаще мелькают кирпичные стены, дымящие паровозы, цилиндрические башни, прообразом которых послужила увиденная в районе Монпарнаса и поразившая воображение художника дымовая труба. Представленные в парижских салонах архитектурные пейзажи, в которых древняя aenigma и mistero современности сплетались в едином контексте, мгновенно оказались в фокусе аполлинеровской критики. Причина взаимного притяжения главы французского поэтического авангарда и итальянского живописца легко объяснима. «Человек нового века, чуть припудренный серебряной пылью древних дорог» (А.Луначарский), Гийом Аполлинер в сложившейся в начале 10-х годов художественной ситуации существовал одновременно в двух ипостасях. С одной стороны, как смелый реформатор, он взял на Себя роль лидера авангарда, с другой – как прекрасный знаток и ценитель античного и средневекового наследия, поэт олицетворял собой плодотворность взаимодействия культурных новообразований с традиционными художественными ценностями. Объединяя вокруг себя нигилистов и ниспровергателей старого, Аполлинер вносил в их среду элемент созидания, направлял их новаторский поиск в русло преемственности. Успешно занимаясь процессом обновления поэтической формы, он тем не менее продолжал ощущать себя носителем классического сознания,которое, по мнению поэта, есть возвышенное выражениефранцузской нации: «…во Франции вы, как правило, не встретите того „раскрепощенного слова", к которому привели крайности итальянского и русского футуризма – эти неумеренные порождения нового сознания: Франции беспорядок претит. Здесь охотно возвращаются к истокам, но испытывают отвращение к хаосу». [101]101
Аполлинер Г.Новое сознание и поэты // Писатели Франции о литературе. М., 1978. С. 54.
[Закрыть]