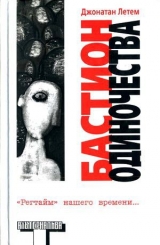
Текст книги "Бастион одиночества"
Автор книги: Джонатан Летем
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 35 страниц)
Ноябрь 1979 года. «Наслаждение рэппера» попало в сорок лучших песен. И завладело сердцами белых школьников из Стайвесанта, включая и эту троицу. Песня звучит в радиоэфире, на улицах, доносится из магазинов и проезжающих мимо автобусов – сенсация, пропустить которую невозможно.
Но для того чтобы слушать эту песню в любое время, требуется выложить наличные.
Двенадцатидюймовую пластинку в конверте «Шуга-Хилл Рекордз» трое белых школьников покупают вместе с записью Эно и Тома Робинсона. «Наслаждение рэппера» – сингл-новшество, последний писк. Делая покупку, парни ошеломлены и неожиданно для себя находят нашумевшую песню беспросветно глупой и убийственно смешной, заурядной.
Ненависть к себе изношена до дыр – предмет особой панковской гордости.
Если кто-то из этих троих и понимает, в чем тут суть, он ничего не скажет.
Поясним на примере: если бы на Сент-Марк-Плейс вместе с прочими панковскими атрибутами продавали футболки, на которых написано «ПОЖАЛУЙСТА, ДОСТАНЬ МЕНЯ», ты, естественно, купил бы себе такую.
Но домой из Манхэттена возвращался бы в глухо застегнутой куртке.
Оказываясь в безопасности квартиры, школьники откладывают все остальные записи и в радостном предвкушении ставят на проигрыватель пластинку со знаменитой песней. Они прослушивают ее раз десять, пытаясь уловить смысл монотонно произносимых рифмовок. «Не знаю, что там думаете вы, а меня так просто тошнит от этой мерзкой вонючей еды». Три белых мальчика заходятся хохотом.
– Курица… на вкус… как… дерево! – задыхаясь, смеется один.
Конверты разбросаны по полу. Любовник разведенной мамы оставил в холодильнике шесть бутылок «Хейнекена». Вот придурок! Разумеется, пиво очень скоро исчезает, равно как и содержимое коробки «Нилла Вейферс». «Наслаждение рэппера» звучит в пятнадцатый раз, панки дергаются в шутовских плясках, изображают, будто ходят по дивану на ходулях, немыслимыми зигзагами извиваются в брейк-дансе.
В песне есть строчки, высмеивающие Супермена. Рэппер называет себя «Биг Хэнк» и обращается якобы к Луис Лейн: «Да, ночи напролет он в небе балдеет, а потрястись до утра на вечеринке сумеет?» Отличный вопрос к Супермену, да и ко всем остальным летающим созданиям.
Но ты делал вид, что о полетах даже и не думаешь.
Трое белых парней начинают повторять особо понравившиеся слова, пытаясь имитировать интонации рэппера.
– Я все понимаю насчет еды, – говорит один, чуть не лопаясь от восторга. – Но мы все же друзья – я и ты!
Двое из этих безобидных розовощеких панка родились в Манхэттене и до поступления в Стайвесант учились в частных школах. Им кажется, что эта рэпперская песня создана исключительно для их веселья, они слушают ее как посторонние, как люди, свалившиеся с луны. Никогда прежде при них никто не говорил как рэппер, да и на черных они почти не обращают внимания, может быть, только на Жирного Альберта и Сэнфорда, когда случайно видят их на улице. А смешным «Наслаждение рэппера» и в целом чернокожих делает поразительное отсутствие в них иронии.
Эй, но ведь перед нами не расисты, которые считают черных слишком серьезными, как хиппи, наивными и непостижимыми, как комиксы. Эти мальчики – панки, а панки все поднимают на смех.
Отсутствие иронии как будто забавляет и третьего мальчика, панка из Говануса.
Клубок замысловатых барочных орнаментов – вот кто он такой. Создание, готовое в любой момент пройти тест на психологическую раздвоенность. Если прыгая в своих кедах на диванных подушках и шутовски двигая бедрами, он вспоминает наставления Мариллы (о том, как крутить обруч), свое страшное разочарование, потому что она оказалась не белой девочкой Солвер, и вину за это разочарование, а еще стыд за неуклюжесть собственного тела – вещи, совершенно не важные для панка, – то что это означает? Что смеясь над «Наслаждением рэппера», он не пытается кому-то мстить или злорадствовать, ведь во всем, что с ним было, нет ничьей вины. В любом случае ему сейчас весело. Дин-стрит – это совсем другая история, набор знаний, сейчас абсолютно бесполезных.
Ты почти оставил позади и Дин-стрит, и Аэромена.
Если у тебя пропало желание встречаться с человеком, который прикрывал твою задницу в двести девяносто третьей школе, на которого ты когда-то мечтал быть похожим и смотрел как на героя, если тебе уже не хочется разговаривать по телефону с мальчиком за миллион долларов – в твое отсутствие на звонки отвечает Авраам, – не значит ли это, что ты повзрослел?
Это вам не вечеринка, не дискотека и не скитания по улице без дела.
Это конец, конец семидесятых.
Глава 16
Барретт Руд-младший устроил сегодняшнее мероприятие лишь по единственному поводу, но гостям о нем ничего не сказал. Они и без объяснений с удовольствием налегли на мясо, сыр, оливки, яичный хлеб, на вишневый пирог и, разумеется, без стеснений угостились дурью. Эта толпа наркоманов – Гораций, Кроуэлл Десмонд, три девочки – никогда не искала повода для вечеринки. Когда Барретт объявил наконец, какой сегодня день, компания была уже теплой. Кто-то ответил ему кивком и рассеянной улыбкой, кто-то приподнял бокал. «Барри вроде что-то сказал. У кого-то день рождения? Это круто». Только одна из девочек, имени которой Барретт не помнил, спросила:
– И сколько ему стукнуло?
В самом начале, придя сюда с Горацием и остальными его подружками, она одарила хозяина робкой улыбкой. На ней было облегающее длинное платье с множеством пуговок на одном боку, туфли-лодочки с высокими каблуками и бряцающие серьги в ушах. Ноги росли почти от ушей, а ресницами она напоминала древних египтянок. Это был типичный образчик женщин Горация, но, наверное, из новеньких. Скорее всего Гораций позвонил ей сегодня по телефону и сказал: «Хочешь познакомиться с Барреттом Рудом-младшим? Певцом из „Дистинкшнс“? Надень что-нибудь этакое, детка». Вот она и натянула это платье, заранее предвкушая, сколько пуговок ему придется расстегивать.
Все говорило само за себя. Даже пело, если прислушаться.
Едва переступив порог, она начала суетиться: приглушила свет, полезла по ящикам в поисках свечи и все их обшарила бы, если бы Барри не сказал, что свечей нет. Тогда, сняв с плеч накидку, она бросила ее на лампу, и на потолке легла жуткая тень – разинутая зубастая пасть.
– Ты, случайно, не знакома с цыганами из «Флитвуд Мак», а, крошка?
Она опять улыбнулась, прошла к кухонной стойке, где Гораций рассыпал кокаин, изящно вдохнула дорожку порошка, прижав к носу палец с накрашенным ногтем.
Барретт не заострял на ней внимание. Поставил пластинку Стиви Вандера «Путешествие по таинственной жизни растений» и сам принялся оценивать качество кокаина. Другая девочка спросила у него о «Золотых дисках» на камине, и Барри ответил, что там должны были бы стоять еще четыре штуки. Его уже не злило это, все осталось в прошлом. Разговаривая о пластинках, он смотрел на молчаливую девицу, которая, в свою очередь, наблюдала за ним, хотя и делала вид, что ей все равно, – вела обычную игру. Торопиться не следовало, молчаливых всегда можно разговорить, если не спешить. Эта девочка неожиданно проявила интерес к его сыну, переводя разговор на тему инстинкта размножения.
Замечательно, крошка. На эту тему мы обязательно побеседуем вдвоем.
– Семнадцать. Представляете? Я совсем старик, – ответил Барретт.
Он сидел в своем кресле, обхватив руками затылок, широко расставив ноги. Девочки, устроившиеся на ковре, могли спокойно заглянуть ему в шорты, но его это ничуть не смущало. Пожалуйста, угощайтесь. Пришли сюда поглазеть на меня – любуйтесь. Я настоящий.
– А где же сам новорожденный? – проворковала одна из девиц.
Барретт взглянул в сторону лестницы.
– Позовите его.
За окном разразилась июньская гроза. Занавески колыхались, повеяло свежестью.
В ту ночь, в шестьдесят третьем, когда родился его сын, тоже шел дождь.
– Его зовут Мингус, – сказал Барретт.
Девица изумленно посмотрела на дверь – как будто Барри держал там сына под арестом.
– Весь первый этаж в распоряжении Мингуса, – объяснил он. – Я хотел позвать его сегодня, но он опять болтался на улице. Сукин сын почти не живет дома. Но от грозы, наверное, убежал. Или скоро убежит. – Блаженно прикрыв глаза, он пропел, имитируя шепелявость Эла Грина: – Не выношу дни, когда по стеклу дождь, меня уносит в прошлое, бросает в дрожь…
Девица набралась храбрости, подошла к двери и нерешительно, будто все еще не веря, позвала мальчика. Минуту спустя, словно собака, он поднялся к ним – в своей запятнанной армейской одежде, с нечесаными волосами, скрученными в жгуты – предшественники дредов. Девочки принялись рассматривать его, говоря «мм» и «хм», подзадоривая мужчин.
– Что? – спросил Мингус.
– Густофер, приятель, как поживаешь? – поинтересовался Кроуэлл Десмонд, подставляя Мингусу ладонь, по которой тот хлопнул с явной неохотой. – Почему я никогда тебя не вижу, дружище?
– Гус поднимается сюда, только если хочет стащить у меня пластинку или поживиться травкой, – сказал Барри. – Общаться с нами у него нет желания.
– Твой отец сказал, у тебя сегодня день рождения, – скептически произнесла девушка, похожая на цыганку.
Мингус кивнул.
– Что ты молчишь, будто воды в рот набрал? Представься девочкам.
Она протянула руку.
– Эланда.
– Э-э… Мингус.
– Эланда и Эмингус, – сказал Барри. – Да вы у нас близнецы.
Кроуэлл Десмонд, наполнявший кокаином стеклянную трубочку у раковины, заржал, как лошадь.
– Очень смешно, Барретт, – негромко проговорил Мингус.
– Прекрати называть меня Барретт. И взгляни на себя: опять ты в этом хипповско-вьетнамском дерьме. Вороват бы у меня шмотки, вместо пластинок.
Эланда села на софу, где уже устроились две другие девицы. А Мингус остался стоять посреди комнаты. Последняя песня на пластинке закончилась, и игла ушла на немую кольцевую дорожку возле наклейки в центре. В комнате воцарилась тишина, разбавляемая лишь тихим скрипом: вероятно, и до остальных гостей дошло наконец, у кого день рождения. Или это гроза заставила вдруг всех замереть. Барри чувствовал себя виноватым, хотя знал, что вряд ли уговорит Мингуса провести этот день в их компании. Мерзкие ощущения грызли душу.
Между ними была кровная связь, но никто, кроме него, не знал всех подробностей этой истории.
Никто не знал мать мальчика. Она оставалась неизвестным фактором.
Грязная армейская одежда скрывала стройную, уже не детскую, а мужскую фигуру Мингуса. Он косился на окно, вероятно, мечтая снова оказаться на улице. Когда Барретт в последний раз внимательно смотрел на него? Трудно сказать. По негласному обоюдному соглашению, неизвестно когда заключенному, они обычно вообще не глядели друг на друга. Барри не хотел задумываться, каким он сам видится сыну и этой девочке, Эланде, – с отросшими ногтями, брюшком и потолстевшей шеей. Если бы не кокаин, он вообще превратился бы в жирную свинью, в карикатуру Исаака Хайеса.
Надо было встать и встряхнуться, потанцевать хотя бы, а он все сидит, как приклеенный к креслу, как тысячефунтовая гора мяса.
Его вдруг опять наполнило то чувство жизни. Никакими другими словами он не мог это назвать.
– Ладно, Гус, это я так, шучу. Присядь. Мы собрались здесь, чтобы отпраздновать день рождения, друзья. Десмонд, смени же наконец чертову пластинку.
Мингус в нерешительности топтался на месте.
– У тебя внизу друзья? Ну так веди их сюда.
– Нет, простоя…
– Он, Эланда, иногда забавляется с белыми мальчиками.
Барретт сказал это просто так, ничего особенного не имея в виду. Но комната замерла, и Младшего обволокла тишина. В воздухе пахло озоном, как обычно во время грозы. Барретту показалось, еготело наполнили свинцом. Надо было начать танцевать, но музыка не играла; внезапное чувство жизни разрасталось, а вместе с ним как будто увеличивался и он сам. Если бы эта девочка, Эланда, подошла к нему сейчас, то выглядела бы по сравнению с ним маленьким котенком. По телевизору однажды показывали, как рождается и устраивается в сумке детеныш кенгуру – размером с грецкий орех. Мать для него – целая планета. Такой планетой сейчас ощущал себя и Барретт. Чем дольше он сидел в кресле, тем огромнее становился.
Мингус стоял на прежнем месте, мрачно глядя на отца.
У раковины тем временем совершалось таинство. От доносившихся оттуда звуков веяло надеждой. Барретт ожил, возгорелся желанием спеть.
– Только не воображай себя Ричардом Прайором, Гораций. Неси трубку сюда. А ты, Десмонд, включи, в конце концов, музыку. Никакого от тебя толку, чертов подхалим. Я сочиню про тебя песню, честное слово. «Эй, никчемный лизоблюд, дай закурить, не то побью».
Вероятно, задетый за живое этой импровизацией, Десмонд сменил наконец пластинку: поставил «Для тебя» Принца.
Если бы Барретта не распирало во все стороны и он не ощущал себя огромной планетой, было бы гораздо лучше.
– Я когда-нибудь рассказывал тебе, Десмонд, как меня посещает это чувство? Когда мне кажется, что я гигант, а все вокруг лилипуты?
– Гм… – Десмонд, наверное, пришел в замешательство.
– Значит, все мы превратимся сейчас в гномов, – сказал Гораций. – И что в этом такого?
– Моя бывшая жена, мать вот этого молодого человека, твердила, что в такие моменты я становлюсь помпезным. Но это не так. Мне всего лишь начинает казаться, что подушечки моих пальцев отделяет от туловища тысяча миль.
– Ну и ну, – пробормотал Десмонд, опасаясь что-нибудь не так ляпнуть.
– Это как сумасшествие, – говорил Барретт, понимая, что правдоподобно описать свое состояние все равно не сможет. – Сумасшествие. Эй, Гораций, вручи же мальчику подарок.
– Что?
– Не прикидывайся, будто ты забыл. – Голос Барретта доносился как из склепа – так казалось ему самому.
Широко раскрыв глаза, Гораций вышел из-за кухонной стойки и достал из внутреннего кармана жилета маленький сверточек. Он все еще не мог поверить, что это подарок для мальчика. Ему казалось, Барри просто шутит. Отправляясь к нему на вечеринку, Гораций всегда запасался такими сверточками.
– Бери. Побалдей, останься хоть сегодня дома.
Мингус молча таращился.
– Возьми же, что стоишь, как истукан? Гораций делится с тобой кокаином.
Мингус взял сверточек, положил в боковой карман штанов и кивнул.
– С днем рождения. Ты теперь настоящий мужчина.
Внезапно Барретт, все глубже уходивший внутрь себя, понял: подарок неполный. Неудивительно, что Мингус не особенно обрадовался. Кокаина было недостаточно. Отцу следовало отдать сыну и девочку, Эланду. Сам он в любом случае не мог сегодня с ней поразвлечься, с такими-то отяжелевшими ногами и руками. Он раздавит ее в лепешку, а если она захочет сделать минет, то покажется ему уплывшей на тысячу миль, куда-то за горизонт. Сегодня стоило побаловать Мингуса.
– Гораций, какого черта ты там копаешься? Принесешь мне наконец трубку или нет? Сам я не в состоянии оторвать от кресла задницу. Эй, Эланда!
– Да? – удивленно отозвалась Эланда – явно не ожидала, что он обратится к ней по имени.
– Не хочешь взглянуть на жилище Гуса? – Барретт произнес эти слова легко – так, будто Эланда должна была знать, что за мысль пришла ему в голову. Все уставились на него в изумлении.
– Как это понимать? – спросила Эланда. Она не поднялась с софы, напротив, закинула ногу на ногу, словно защищая свое укромное место, и метнула беспокойный взгляд на дверь.
– Черт, Барретт! – произнес Мингус, негромко и точно с сожалением.
– Барри, спокойно, – сказал Гораций, как будто его слово имело здесь какой-то вес.
– Да я не имею в виду ничего такого, расслабьтесь, черт вас побери! Сколько тебе лет, Эланда? Если по возрасту ты больше подходишь Мингусу, почему бы вам вместе не спуститься вниз, покурить там, пообщаться? У него же сегодня день рождения.
– Она не может ко мне спуститься, – решительно сказал Мингус.
– Да подожди, Гус, пусть девочка сама решит. Что скажешь, детка? В каком году ты родилась? Дракона? Крысы?
– Ты мне нравишься, Мингус, – вдруг произнесла Эланда, не глядя на Барретта. В ее голосе были и эротические, и материнские нотки, и отзвуки прочих женских уловок, которыми она хотела укорить Барри, дать ему понять, что он упускает фантастическую возможность. Точнее, уже упустил, этот шанс ускользнул от него. – Давай не позволим твоему отцу окончательно испортить тебе день рождения. Если хочешь, я пойду и взгляну на твою комнату.
Мингус не удостоил ее внимания.
– Она не может идти ко мне, – повторил он.
– Это еще почему? – спросил Барри.
– Старший в своей комнате. Я слышал его шаги.
– В своей комнате?
– Ты ведь не забрал у него ключи.
Барри умолк и теперь уже полностью отдался своему чувству жизни. Превратился в планету, которую населяли тучи людей, мельтешащих перед глазами. Значит, папаша вернулся. Старый хрен! Наверное, чем-то не угодил сутенерам и дельцам, владевшим гостиницей «Таймс Плаза», – может, затащил к себе какую-нибудь шлюху и пытался обратить ее в веру или устроил с кем-нибудь разборку в коридоре – в общем, кому-то там стал мешать и тайком вернулся обратно. Мингус и Старший были похожи – невыносимые существа, отдалившиеся от Барретта, как его собственные руки и ноги. Гораций, Десмонд, сын, отец, девочка-кошечка, «Золотые диски» – все вдруг превратилось в унылую свинцовую тучу.
Что ему сейчас нужно, так это трубка с кокаином и глубокий вдох. Один, два, три, дюжина. Хотя и это не могло спасти его от сверхизбыточного веса, равно как и увеличить всех остальных до сопоставимых с ним размеров.
А на улице, над разогретым за день асфальтом, поднимались после дождя клубы пара.
Трубка, кокаин, и будь уверен, что «Фидлерс Три» не смогут снова приписать себе соавторство.
Название этого места – «Новая школа» – напоминало об учебе и профессорах, потому-то Авраам и допустил столь серьезную ошибку. Немаловажную роль сыграл в этом и голландец, коллекционирующий оригиналы книжных обложек, названивавший Аврааму до тех пор, пока тот не сдался. А еще, наверное, собственное нездоровое любопытство, желание взглянуть на таких же, как он: некоего Говарда Зингермана и Поля Пфлюга. Очевидно, его собственная фамилия – Эбдус – казалась окружающим такой же странной, необычной, как и у этих двух. Может быть, именно эта особенность и объединяла их троих на этом мероприятии. Скорее всего Авраамом овладело тщеславие. Да, да, наверняка дело в тщеславии. И в слове «поп-культура», которое так часто звучало из уст голландца. Авраам давно стал участником поп-культуры. Поэтому и хотел узнать, что же она в действительности представляет собой, а заодно взглянуть на Зингермана и Пфлюга. Что в этом плохого?
Вскоре Авраам узнал, что именно плохо: он попал в ловушку.
В аудитории «Новой школы» народу собралось совсем немного, меньше пятидесяти человек – в основном волосатые парни. Они явились сюда, чтобы встретиться исключительно с Пфлюгом. Этому парню было лет тридцать, длинные волосы он завязывал в хвост, как и большинство его поклонников, и походил на тяжелоатлета, несмотря на то, что носил бороду, как у старика, точнее, как у волшебника.
Пфлюг творил в той области, которая возникла позднее, чем искусство оформления научно-фантастических книг, но уже имела большую популярность. Работы Авраама, по сути, никакой популярностью вообще не пользовались, разве только у художественных редакторов, которые в течение нескольких лет устраивали на Авраама настоящую охоту и, если им не удавалось заманить его в свои сети, нанимали других людей, которые соглашались рисовать подделки под его творения. По счастью, эти времена уже миновали. Авраам продолжал сотрудничать с издательствами, но мода на психоделические художества прошла. Пфлюг был типичным представителем того искусства, которое явилось им на смену. Он создавал драконов, силачей из популярных фильмов, небеса с ватными облаками Максфилда Пэрриша,[8]8
Пэрриш Максфилд Фредерик (1870–1966) – художник и иллюстратор, оформитель плакатов, журнальных обложек и календарей.
[Закрыть] варваров и гладиаторов, прорисовывал каждое перышко, каждую чешуйку, каждую прядь в прическах своих героев – все это в стиле фотореализма.
Как выяснилось, именно Пфлюг нарисовал афишу к одному из последних нашумевших фильмов. Этим-то и объяснялись похожесть и сам факт существования его поклонников. Все они с нетерпением ждали сейчас тот момент, когда им позволят облепить Пфлюга со всех сторон, чтобы он поставил на принесенных ими плакатах автограф. До искусства оформления книжных обложек никому не было дела.
За исключением голландца, который, собственно, и организовал это мероприятие. Хорошо уже то, что он приехал в Нью-Йорк из Амстердама. Его внимание сосредоточилось в основном на Зингермане. Голландец был даже моложе Пфлюга, чисто выбрит и аккуратно подстрижен. Беседуя с ним по телефону, Авраам представлял его более зрелым человеком. Разговаривал голландец спокойно и на редкость уважительно.
Зингерман был его кумиром.
Оригиналы работ этого художника он выкупал у владельцев уже не существующих издательств, художественных редакторов, присвоивших его творения, заказывал по каталогам, которые переходили от одного коллекционера к другому. По произведениям, обозначенным в этих каталогах, голландец писал монографию и мечтал получить благословение Зингермана. Вероятно, только ради встречи со своим идолом он и совершил это путешествие через океан, но, будучи человеком скромным, не отважился открыто в этом признаться и организовал в качестве маскировки конференцию «Скрытый мир оформительского искусства» с участием Зингермана, Пфлюга и Эбдуса.
Как художник Зингерман обладал некой целостностью, был пропитан реализмом Ашканской Школы[9]9
Ашканская Школа («Школа мусорного бака») – радикальное направление в реалистической живописи первой четверти XIX в., не чуждавшееся показа теневых сторон жизни большого города.
[Закрыть] и близок по духу братьям Сойер или даже раннему Филиппу Густаву. Свои работы он наполнял атмосферой городской готики и изображал людей, раздираемых страстью, – женщин, с которых мужчины срывают одежду, и наоборот, – но запечатлевал и человеческую нежность, и даже грусть, писал и собачек, и ржавые консервные банки на улицах, и неприглядность трущоб, и плейбойских кроликов. Его женщины всегда были лишь чуточку красивыми. Лица, руки, выглядывающая из-под платья грудь – на этом он сосредотачивал основное внимание, все остальное терялось в полутонах. У Зингермана была индивидуальность, его работы заслуживали гораздо больше внимания, нежели вереница аутичных творений Пфлюга.
Образцы – книги, обернутые в полиэтилен, и две картины – голландец взял из своей коллекции.
Иллюстрации Зингермана на книжных обложках – он оформлял и романы Баулза, и Калишера, и откровенную чернуху – поражали глубиной и прочувствованностью. В семидесятых он разбавил свои излюбленные серо-коричневые тона более веселыми красками: на девушках появились нарядные бикини и узорчатые юбки.
Что за человек был Зингерман? Казалось, этому великану в костюме цвета пыли неудобно и неуютно сидеть за этим столом. Из-под отложных манжет торчали густые волосы, как будто под серым костюмом был еще один – обезьяны. Бледное лицо выглядело безжизненным. Вопреки висевшим здесь всюду запретам курить, Зингерман беспрестанно дымил, зажигая одну сигарету за другой, и потому все время кашлял. Вообразить себе зажатую в этих толстых пальцах кисть было почти невозможно, но в жизни случается много невероятного, как, например, и сама эта встреча.
Зингермана, по всей видимости, ни капли не интересовал Пфлюг, а голландец так и вовсе раздражал. Быть может, они казались ему чересчур молодыми. Когда Пфлюг принялся украшать автографами плакаты – щедро добавляя к каждому маленькую картинку, – Зингерман устроился поудобнее в кресле, предложил Аврааму сигарету и поведал философию своей жизни.
– Наслаждение девочками.
– Что, простите?
Голос его прозвучал грубо, резко, и Авраам подумал, что ему послышалось, что Зингерман просто кашлянул.
– Я развлекался с девочками, с каждой из них. – Он показал на книги, лежавшие на столе, и оригиналы, повешенные на стену. – С натурщицами. Они служили мне единственным утешением, только из-за них я много лет оставался в этом грязном бизнесе. А почему вы так долго крутитесь в нем, рисуя свои… Как это называется? Геодезические формы? Ума не приложу. Вам ведь некем утешиться. Это печально.
– Натурщицы? Вы спали с ними?
– Само собой. В постели, на диване, на ковре. Я брал их прямо в нарядах из леопардовых шкур, в костюмах русалок, увешанных искусственными клыками, даже не смывал краску С рук – трахал и трахал. Такова моя политика. Нанимаешь мальчика, девочку, придумываешь позу, щелкаешь «полароидом», мальчика отправляешь домой, подходишь к девочке, поправляешь что-нибудь в наряде, кладешь руку ей на задницу, и она твоя. И так все тридцать пять лет.
– Прямо как Пикассо, – ответил Авраам, не придумав ничего более умного.
– В противном случае я не смог бы так долго рисовать эти картинки, наверное, повесился бы. Когда я говорю об этом со своим другом Шрудером, ему кажется, что я шучу. А я вполне серьезен. У вас есть жена?
– Была.
– У всех у нас была. А они и понятия об этом не имеют. Кстати, что выдумаете об этом парне? Он тоже со своими спит? Или чересчур занят вырисовыванием волосков, перышек и бликов света на воде? Если бы у меня в студии появилась крошка с мечом и такой прической, я тут же придумал бы, чем с ней заняться. А этот… Взгляните-ка на его руки. По-моему, его больше интересуют мальчики.
– Или драконы.
– Или драконы. А как насчет вас? Вы спите со своими геодезическими формами? С Пикассо все понятно. Он спал с натурщицами и после этого смотрел на них совершенно другими глазами, изображал на полотне в довольно забавном виде. А вы? Вы одиноки?
Так вот в чем, оказывается, дело. Авраама пригласили сюда, чтобы он был мостиком между безумием Ашканской Школы и фотореалистическими драконами.
Нет, о фильме здесь говорить не стоит, даже вспоминать о нем сейчас не следует.
– Да, я одинок, – честно признался Авраам.
– Я так и понял – от вас просто разит одиночеством.
– Большая карьерная ошибка. Биоморфизм.
– Скажете тоже. Взгляните на мои художества. Живите. Коллекционируйте девочек.
– Попробую.
Зингерман понизил голос, чтобы сообщить самое важное.
– Послушайте, вы не расскажете об этом Шрудеру?
– О чем?
– Я ухожу. – Он показал на себя рукой с зажатой между пальцами сигарой.
– Простите?
– Все началось с легких – мне разрезали легкие. Хотя какая разница, с чего началось, мозга или с крови?
– Гм.
– У меня чертов рак. Но это ерунда, не жалейте меня. Угадайте, почему меня не стоит жалеть. У вас одна попытка.
– Девочки?
– Мужчине достаточно и хорошей сигары.
ужасный декабрь я не шучу малыш я не сплю
положила розу у двери
из дакоты
я моржовый краб
– Гораций, твою мать, где тебя носит?
Пауза.
– Э-э… А в чем дело, Барри?
– Ты настолько занят, что не находишь времени ответить на звонок ниггера?
– Прости, Барри, я как раз собирался тебе позвонить. А что случилось?
– Мне нужна твоя помощь.
Молчание.
– О чем ты?
– Ты телевизор когда-нибудь смотришь, Гораций?
– Разумеется, смотрю.
– Слышал, что стало с одним из битлов?
– Что? А, да, конечно.
– Мне нужно собрать кое-какие вещи. Только как ты меня вытащишь отсюда, Гораций? Вот в чем вопрос.
– Приятель, ты что, умом тронулся? Ты-то здесь при чем?
– Я видел того урода – прогуливался на прошлой неделе по Дин-стрит и пялился на мой дом. Если это был не он, значит, его брат. У этого белого скота есть список.
– Ты серьезно?
– А ты как будто не знаешь, что меня многие мечтают убрать. Убрать и заполучить мои записи. Я и Десмонду уже не доверяю, черт бы его побрал. У меня пять, если не десять вещей, которые сразу стали бы хитами, думаешь, об этом никто не знает? Меня окружают враги, Рацио. Они повсюду: на улице, в студии, даже у меня на первом этаже. Ты поможешь мне выбраться из этого дерьма, или нужно обратиться к кому-нибудь другому? Только ответь честно.
Пауза.
– Нет, Барри. По-моему, ты и так хорошо защищен.
– Наконец-то ты заговорил откровенно.







