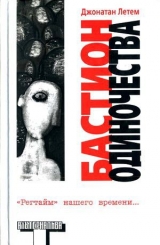
Текст книги "Бастион одиночества"
Автор книги: Джонатан Летем
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 35 страниц)
Глава 14
Кто-то покрыл здешние стены ярко-розовой блестящей краской – такой цвет стоит перед глазами, когда у вас раскалывается голова, и вы еще не успели принять болеутоляющую таблетку. На одной из этих кошмарных стен висел календарь – такие раздают в банках в качестве рекламы, отпечатанное на машинке расписание и уцелевшее годов с пятидесятых объявление с призывом вступить в общество анонимных алкоголиков. Больше ничего: ни плакатов с надписями вроде «ТЫ НЕ ОБЯЗАН СТАНОВИТЬСЯ ИДИОТОМ, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ У НАС, НО ЭТО ПОМОГАЕТ», ни фотографий жен, детей или домашних животных. У стены стоял деревянный письменный стол, покрытый следами от кофейных чашек и царапинами от скрепок, за столом друг напротив друга сидели два человека. Вероятно, это здание когда-то было школой. На боковой перекладине стола красовались несколько торопливо нацарапанных перочинным ножом меток. Тот, кто ставил их, наверное, с очень серьезным видом слушал в этот момент учителя.
На столе между мужчинами лежала папка с документами.
На дворе стоял июль 1978 года. Оба собеседника были в галстуках. У белого мужчины лет тридцати он зелено-голубой и широкий, свободно завязанный вокруг воротничка светлой рубашки с короткими рукавами. У пожилого темнокожего – старомодный узкий, черного цвета, убранный под жилет серой в полоску тройки, приобретенной в магазине эконом-класса, костюма, подходящего для банкира, если бы не клоунски широкие лацканы. Жилет был застегнут на все пуговицы, и худощавый мужчина варился в своей тройке, как сосиска в оболочке. Окна кабинета не открывались, и ему приходилось то и дело промокать платком то лоб, то нос, то стянутую галстуком шею.
– Говорю же тебе, в этом доме творится бог знает что, – сказал Барретт Руд-старший.
– А почему это так сильно тебя волнует?
– Подобное не может не волновать священника.
– Равно как и девочки на Пасифик, которых ни за что не разгонишь, – ответил тот, что в зелено-голубом галстуке. – Послушай, Барри, не думай, что я ни о чем понятия не имею. Отчеты обо всем, что происходит вокруг, регулярно ложатся мне на стол.
Наверняка вы подумали: человек в белой рубашке слишком молод, чтобы так разговаривать со Старшим. Его голос звучал жестко, будто он не с посетителем разговаривал, а участвовал в уличной разборке. Причиной подобного обращения был отнюдь не пистолет в кобуре на щиколотке, открывавшийся взгляду, когда его владелец закидывал ногу на ногу, и не наручники, позвякивавшие на поясе. Его поведение свидетельствовало лишь об одном: он относился к типу людей, с удовольствием занимающихся своей работой. Человек с зоны назвал бы их «ковбоями». Подобно охотникам или тюремщикам, «ковбои» отличаются садистскими наклонностями и с удовольствием выполняют обязанности копа. Среди полицейских, наблюдающих за досрочно освобожденными из тюрьмы, честных и добрых можно по пальцам перечесть, в основном эту работу выполняют «ковбои». А для них высокомерие и грубость – обычное дело.
Те, кто не считал близость гостиницы и тюрьмы убедительным объяснением безобразиям, творившимся на Невинс между Флэтбуш и Стейт, винили во всех смертных грехах именно здешнего копа. Сам же он преспокойно сидел на третьем этаже здания на углу Шермерхорн-стрит, в кабинете через шесть комнат от приемной, примыкающем к надежно защищенной решетками импровизированной камере. Барретт Руд-старший явился сюда, как только приехал, чтобы отметиться, и теперь приходил каждую неделю – неизменно принаряженный и тщательно выбритый. Офицер не брал с него пример: рубашку никогда не заправлял в брюки, на щетину зачастую махал рукой и разбрасывал по столу смятые обертки от бутербродов.
– Ты меня неправильно понял, – сказал Барретт Руд-старший. – Про девочек я заговорил только потому, что хочу приобщить их к учению Христа.
– В час ночи держись со своим учением подальше от Пасифик, вот что я тебе советую. Подпись принес?
Руду-старшему надлежало каждую неделю приносить бумагу, подписанную Паулеттой Джиб, под наблюдением которой он выполнял кое-какие обязанности в храме на Миртл-стрит. Условно освобожденные заключенные были обязаны выполнять какую-либо работу, и Барретт Руд-старший решил трудиться в храме Господнем. Являясь в полицию, он чувствовал страшное унижение оттого, что должен регулярно предоставлять письменное подтверждение своих дел.
– На Пасифик я хожу гулять, – произнес он, внутренне лелея уязвленное самолюбие. – Мне приходится проводить в этом ужасном доме слишком много времени, я должен на что-то переключаться.
– Ходи гулять днем, а не ночью, корми уток в парке.
– Все ясно, тебе до меня нет дела.
– А что ты хочешь услышать, Барри? – Коп глянул на бумагу и вернул ее Старшему.
– Я должен уйти из этого дома: дьявол уже пробирается в мой мозг. Я не могу больше видеть, как мой сын превращается неизвестно в кого, днями напролет тунеядствуя.
– По условиям твоего освобождения ты должен жить в доме сына. – Офицер произнес это тоном, каким рассказывают простенький рецепт: стакан риса на два стакана воды. – Если хочешь, мы отправим твое дело назад, в Роли. И тебя вместе с ним. Твое пребывание в Нью-Йорке, где ночи напролет щеголяют девочки в коротких юбках, оговорено жесткими условиями, и ты знаешь об этом.
– В таком случае я хочу сделать официальное заявление: я не в состоянии должным образом реабилитироваться в окружении законченных наркоманов и фанк-музыки. Будь добр, запиши это.
– Ладно, Барри. Расскажи все по порядку.
– Мне больно произносить это вслух, но мой сын служит сатане. Можешь и это записать. Скоро мы начнем с ним драться или вообще друг друга прикончим. Я прошу переселить меня куда-нибудь, а ответственность возложить на тебя. Я бы и мальчика с собой забрал, но он уже почти мужчина и будет возражать. Каждую ночь я слышу сверху мычание и стоны, каждую ночь отчаянно молюсь.
– Нас волнует единственное: чтобы твоя жизнь снова не пошла под уклон. Остальное – не наша забота. Мне знакомы эти дела, но я не собираюсь вмешиваться. В Бога я не верю, а арестовать твоего сына не имею оснований.
– Я хотел бы снять комнату в «Таймс Плаза» и не мучиться больше в этом доме.
– А кто будет платить?
– Надеюсь, дьявол – чтобы я отцепился от него.
– В этом клоповнике не лучше, чем в тюрьме. Половина номеров заняты уголовниками, убивающими время между ходками.
Барретт Руд-старший напрягся, будто расстроившись из-за того, что его неправильно поняли.
– Я знаю одного человека оттуда, он приходит к нам в церковь. Создание почти безгрешное. Он просто не видит всей этой грязи.
– И кто же это? Любитель птиц из Алькатраса?
На лице Старшего отразилось презрение. Во взгляде за одно-единственное мгновение промелькнуло генетическое воспоминание, полученное по наследству от предков: о заунывных песнях на хлопковых полях, об изнывающих от жары рабах, кораблях из Африки. Офицер притворился, будто все понял, и обоим вдруг почудилось, что Старший приехал сюда на муле, и в кабинет ворвался оглушительный лай своры гончих, бегущих по болотистой местности за сбежавшим рабом.
Если в офицере, наблюдающем за досрочно освобожденными, все-таки жила искра сердечности, в эту секунду именно она дала о себе знать.
– Неужели у тебя с сыном все до такой степени безнадежно, Барри? Ты в самом деле с радостью переехал бы в эту дыру, в «Таймс Плаза»?
– Я видел у него женщин, лежащих на женщинах, и много других противоестественных вещей.
– Ладно, убедил. Я подумаю, чем тебе помочь.
– Родился в Вавилонии, очутился в Калифорнии…
– Мы рыцари.
– Давайте сходить с ума, устроим фестиваль зевоты.
– Притащи… нам… вон… тот… куст…
– Эй, пойдемте в «Блимпи», я есть хочу, сейчас помру от голода. Ай! За что?!
– Я же сказал, что ущипну тебя, если ты еще раз произнесешь слово «Блимпи».
– Чертов придурок!
– А все из-за этого «блин ты».
– Пойдем.
Идя по дороге из школы, они запели тонкими голосами «Баскетбол Джоунс».
Габриель Стерн и Тимоти Вэндертус говорили и пели наперебой, подражая знаменитостям: Стиву Мартину, Марта Фельдману, «Дево», Питону, Заппе, Споку. Габ Стерн знал наизусть песни Тома Лерера, Тим Вэндертус пел «Дикого и чокнутого парня» и имитировал Питера Селлерса. Компания образовалась через полторы недели после начала учебного года, в понедельник, примерно около трех дня. Габ и Тим догнали Дилана, когда он подходил к станции метро на Четырнадцатой улице, и купили ему и себе по чизбургеру. Потом все трое направились в «Сумасшедшего Эдди» и принялись играть в понг на новеньком автомате, преувеличенно бурно расстраиваясь после каждой неудачи.
– Придурок!
– Ты ответишь за это, клянусь, ответишь!
– Не чуешь, я испортил воздух? Специально для тебя!
Щеки Габа – широкоплечего, с кудрявыми темными волосами – сплошь покрывали прыщи. Тим был рыжеватым, худощавым, долговязым, ходил размашисто, напоминая чем-то бумажного змея на ветру. По сравнению с ними Дилан казался маленьким. Он нормально рос и вытягивался, но в компании с Тимом и Габом чувствовал себя ребенком, совсем неприметным. А вообще-то внешний вид в чем-то да подводил каждого. Это легко прощалось и никогда не обсуждалось.
Дилан втерся в союз Тима и Габа как третий лишний: арбитр, слушатель, аппендикс. Порой тот и другой сосредотачивали все внимание только на нем, будто он был в состоянии разрешить их вечный спор: кто из нас двоих более забавный, шумный, неотразимый? Дилан чувствовал, что должен подыгрывать обоим, ему казалось, что если он отдаст предпочтение или как-то выделит одного, то второй тут же упадет на асфальт и, шипя, умрет, подобно Злой ведьме с Запада. А бывало, Тим и Габ занимались больше друг другом, и Дилан мог просидеть целый вечер молча, пялясь в телевизор на «Тома и Джерри».
Иногда Тим и Габ затевали на тротуаре перед школой борьбу, отшвырнув к обочине рюкзаки, будто нокаутированных неприятелей. Враждебностью в этих схватках и не пахло, на борцов никто, кроме Дилана, не обращал внимания. Когда один или другой одерживал победу, то зажимал голову поверженного под мышкой или, заламывая его руку за спину, требовал произнести какое-нибудь идиотское слово.
– Скажи «фанта».
– Нет. А-а. «Доктор Пеппер»!
– Не «Доктор Пеппер», а фанта.
– Пробка!
– Фанта.
– «Мистер Пибб»! Нет. Черт. Да пошел ты! Пусти.
– Скажи, тогда пущу.
– Ладно, ладно, ладно. Фанта.
– Теперь «Спрайт».
– Нет. Никогда. Иди к черту.
В Стайвесанте собирались получившие нужное количество баллов ученики из всех пяти районов Нью-Йорка. Выряженные в «Лакосте» вестсайдовцы, знакомые друг с другом с детсадовских времен, оцепенелые черные гении из Южного Бронкса, слонявшиеся по коридорам в раздумьях «очнусь ли я когда-нибудь от шока?». Прилежные ботаники-пуэрториканцы из Стайвесант-таун, жившие прямо напротив школы и, несмотря на это, чувствовавшие себя рабами местных хулиганов, с которыми учились прежде. Исполнительные отличники-китайцы из разных эмигрантских районов – Гринпойнт, Саннисайд, – сразу по несколько человек из одной семьи: старшая сестра на переменах должна была следить за братом, чтобы тот не примкнул к «подозрительным элементам», бегавшим в Стайвесант-парк покурить и поиграть во фрисби.[6]6
Фрисби – бросание летающих тарелок.
[Закрыть] В общем, народ подбирался со всех уголков города, некоторым несчастным приходилось ездить аж из Стейтен-Айленда и заводить будильник на пять или шесть утра.
Габриель Стерн и Тимоти Вэндертус жили в Рузвельт-Айленде, а познакомились три года назад, когда переехали туда с родителями. Рузвельт-Айленд был загадкой – там не ездили машины и не бегали собаки, бродил лишь призрак из развалин туберкулезного санатория, что возвышался когда-то на южном берегу. Все жители Рузвельт-Айленда словно принадлежали одной религиозной секте. В школу и домой Тим и Габ всегда ездили вместе, на трамвае мимо моста Пятьдесят девятой улицы. Их непоколебимая, неразрывная дружба крепчала с каждым днем – парочка чудаков, приезжавших в Манхэттен со своего далекого островка, разговаривавших на собственном языке, живших спокойно и счастливо.
Стайвесант был царством евреев, зануд, хиппи, китайцев, черных, пуэрториканцев, а главное – царством отличников-ботаников. Огромной семьей умников, сумевших пройти вступительный тест. Эти ручные зверьки учителей грызли карандаши, носили очки и уже ни от кого не прятались, не пытались, как Артур Ломб, утаить от окружающих свою жажду познаний. Воспоминания об Артуре нагоняли тоску. Учась в Сент-Энн, он был самим собой, а потом, попав на Дин-стрит, за каких-то полгода позабыл обо всех своих устремлениях. Некая непостижимая сила заставляла тех, кто только и мечтал об успешной сдаче теста, вкусив прелесть вольной жизни, превращаться в совершенно других людей – почитателей Джима Морриса и «Лед Зеппелин», разрисовывающих куртки и болтающихся по паркам.
Тимоти Вэндертус и Габриель Стерн не примыкали к «подозрительным элементам». Единственный урок, который они позволяли себе пропустить, была физкультура. Но хотя во время прогулов или на большой перемене, а иногда и после занятий эту парочку видели в парке, их не интересовали летающие тарелки. Они упорно носили короткие стрижки и не слушали ни Хендрикса, ни Морриса, ни «Зеппелин» – музыку слишком резкую и серьезную, чтобы глотать ее, не разжевывая. Томные девочки с блестящими волосами, постоянно обитавшие в парке, не обращали на Тима и Габа никакого внимания.
– Готов спорить, она посмотрела в твою сторону в тот момент, когда ты выдал голосом петуха. Так всегда и разговаривай.
Тим и Габ обсуждали все что угодно, ничуть не стесняясь девчонок, как будто тех и не было вокруг, – отплачивая тем самым за безразличие с их стороны.
– А мне показалось, она посмотрела на твои штаны. Проверь, не расстегнулась ли ширинка. А может, там засохло молоко?
– Да нет, просто я теперь ношу в трусах цуккини, это мой новый метод. Довольно эффективный, рекомендую. Абсолютно бесплатно, денег не предлагай. Сначала, конечно, прохладно, но он быстро нагревается.
Тим и Габ порой курили, порой нет. В любом случае они не вписывались в общую картину, были словно туристами, забавой для волосатиков, которые, в свою очередь, забавляли Тима и Габа. Над теми, кто не похож на других, смеялись все, но Тим и Габ двигались быстрее остальных – их мысли и действия были резкими, лихорадочными. В первые месяцы учебы в Стайвесанте они неосознанно надеялись, что их что-то или кто-то дополнит, или же наоборот, что-то или кто-то ждал, что они станут дополнением для него. Свою зашифрованную неудовлетворенность им приходилось усмирять и держать в стойле, как резвого жеребца.
– Открой дверь, приятель. Открой дверь. Открой дверь. Открой дверь.
Ты ждал, что-то предчувствуя.
А еще тебя захватили, волнуя, фильмы: вечерние сеансы в «Плейхаусе» на Восьмой улице и в «Вейверли» на Шестой авеню. «Заводной апельсин», «Розовые фламинго», «Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Голова-ластик». За шесть недель ты просмотрел все эти фильмы, кроме самого пугающего – «Головы-ластика», – к которому еще не подготовился внутренне. Тебе приходилось прятать свой страх под благовидными предлогами. На самом деле никаких благовидных предлогов у тебя в жизни никогда не было, ты даже не знал, откуда взялось в твоей голове это выражение.
Один парень приходил в школу с набеленным лицом Тима Карри и покрытыми черным лаком ногтями. Все насмехались над ним и втайне трепетали.
Каждый день по дороге от остановки метро до школы ты проходил мимо «Канзас-Сити Макс», волшебного места, – хотя ты не вполне понимал, в чем состоит это волшебство.
В воздухе пахло чем-то новым, наверное, чем-то связанным с группой «Дево» и их «монголоидами» и «распухшими зудящими мозгами» – словом, с ироническим черным ходом, выводившим в звериный мир, с уходом в сторону от жуткого пути «напрямую» Джима Моррисона.
Любой школьник ломал голову над тем, как ему выглядеть посексуальнее. Пусть даже не перед девчонками, а перед самим собой, когда подходишь к зеркалу.
Манхэттену, по счастью, все было безразлично.
А что же Мингус и Аэромен?
Возвращаясь на Дин-стрит после общения с Тимом и Габом с их «Сумасшедшим Эдди», чизбургерами, «Блимпи» и парком Вашингтон-сквер, Дилан втискивался в привычный мир, будто беглец, приходящий каждую ночь в свою старую тюремную камеру, чтобы поесть. Квартал, как ему казалось, умер. Он сам его убил, оставив школу № 293 и перейдя в Стайвесант. Ушло все, не только Мингус. И Генри, и Альберто, и Лонни, и Эрл, и Марилла, и Ла-Ла словно покинули сцену или превратились в каких-то других, совершенно незнакомых ему людей. Бывало, он проходил на улице мимо кого-нибудь из бывших своих знакомых и замечал выросшие усы или округлившуюся грудь. Все вокруг были черными, он – белым, друг другу они не говорили ни слова.
Следующего поколения детей Дин-стрит он не видел, за исключением кучки грязнуль, в основном пуэрториканцев, которые понятия не имели, что их предшественники собирались когда-то во дворе Генри или у заброшенного дома, не знали даже имени Генри. Они сидели, как жуки, вдоль обочины тротуара и ничем не занимались. Как-то раз Дилан заметил, что один из них пытается начертить примитивное поле для скалли – не на ровном месте, а на потрескавшемся, выщербленном куске асфальта. Безнадежно. На ум пришла мысль о человеке, страдающем лучевой болезнью, который пытается создать чертеж колеса. В другой раз, когда Дилан проходил мимо детей-жуков, ему крикнули вслед: «Белый» – настолько несмело и таким тоненьким голоском, что он чуть не помер со смеху. Заброшенный дом больше не был заброшенным. На стене висел плакат «ЗОЛУШКА № 3. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ БРУКЛИН ЮНИОН ГАЗ», и у здания появились глаза – скучные, безразличные окна в алюминиевых рамах. Островок чудес был уничтожен. Алкоголики еще несколько месяцев устраивались на крыльце этого дома, чтобы выпить, но со временем нашли себе местечко поспокойнее.
С Мингусом Дилан все же иногда виделся. Раз в несколько недель тот выходил на свое боковое крыльцо и сидел в полном одиночестве со стаканчиком пива в руке, напоминая тех самых переселившихся куда-то алкоголиков. После переезда Барретта Руда-старшего в гостиницу на Атлантик-авеню Мингус опять стал единственным владельцем заднего двора. С Диланом он здоровался, как и прежде – словно они виделись вчера или позавчера.
– Помнишь, я говорил тебе про ту запись? Я достал ее.
– Правда?
– Разумеется, Диллинджер, говорю же: достал. Пойдем послушаешь.
Встречались они всегда случайно, как дротики, наугад брошенные в настенный календарь – рулетку дней. Они шли в комнату Мингуса и курили травку. Тим и Габ, да и весь новый мир Дилана в эти мгновения куда-то исчезали, а Манхэттен вновь превращался в неизведанную планету, в туманное будущее.
И прихожая, и ванная на первом этаже дома Мингуса теперь пестрели тэгами, напоминая переход метро. В комнате Старшего – заброшенном святилище, где воняло запыленными свечами, – никто не обитал.
Мингус пристрастился к пиву – к «Кольту» и «Кобре». Дилан не пил, только курил марихуану.
Он знал, что Мингус до сих пор общается с Артуром Ломбом, видел на разбросанных по комнате листах бумаги метки «Арт», а иногда встречал и его самого. На Артуре лежало проклятие детскости: он до сих пор выглядел как ребенок лет одиннадцати-двенадцати, и ни «эй», ни хулиганская походка, ни замшевые кеды «Пума» не придавали ему ни капли солидности. После того как он завалил вступительный тест в Стайвесант, его мать попыталась провернуть какую-то аферу, чтобы устроить сына в Эдварда Р. Марроу – школу для белых в центре ирландско-итальянского района – и тем самым спасти его от необходимости переходить в Сару Дж. Хейл. Артур опустился, ходил в одежде, перепачканной «Крайлоном», волосы не мыл подолгу. Постоянно курил марихуану, отчего покрасневшие глаза часто казались стеклянными. Уличные замашки – это все, что осталось у Артура. Ужасно.
Возможность водить дружбу с Мингусом Дилан дарил теперь Артуру от чистого сердца: тот нуждался в Мингусе больше, чем сам Дилан когда бы то ни было. И потом, он сознавал, что отношения Мингуса с ним и с Артуром – две абсолютно разные вещи. Дилан и Мингус жили в царстве, где не было матерей, но зато имелось много тайн, оба были Аэроменами и делили друг с другом немало секретов. А у Артура наверняка даже лобковые волосы еще не выросли. К тому же Дилан и Мингус ходили в гости и знали отцов друг друга. Артур же – Дилан в этом не сомневался – никогда не осмелится пригласить Мингуса в свое бутербродное святилище.
Когда Мингусу не хватало доллара на марихуану, они с Диланом могли пошарить в поисках мелочи по кухне Эбдусов или даже подняться по скрипучим ступеням в студию Авраама. Мингус ждал приятеля за дверью, прислушиваясь к тихим звукам джаза, льющимся из радиоприемника, а Дилан просил у отца деньги. Авраам, догадываясь, что на лестнице кто-то затаился, часто спрашивал:
– Там Мингус?
– Ага.
– А почему он прячется? Пусть зайдет, поздороваемся.
В присутствии Авраама Мингус превращался в саму вежливость, называл Авраама «мистер Эбдус» и интересовался, как обстоят дела с фильмом. Авраам вздыхал и показывал какой-нибудь странный рисунок.
– Спроси у Сизифа, мой дорогой Мингус.
– У Кизифа? – Мингус молниеносно придумывал рифму к любому слову. С Авраамом они постоянно играли в эту игру: то один, то другой притворялся, что не расслышал какое-то слово.
– Кизиф, хм. А не все ли равно?
В то же время они никогда больше не поднимались к Барретту Руду-младшему. Лестницу словно забаррикадировали. Дилан догадывался, что Мингус теперь не ходит даже на кухню на втором этаже: он разогревал «Шеф Боярди» на плитке Старшего, а в мусорном ведре в ванной скапливалась гора оберток от «Слим-Джим». Когда же Мингус включал на полную мощь проигрыватель, Дилану казалось, что дверь вот-вот распахнется и нарисовавшийся на пороге Младший пропоет:
– Какого черта ты тут делаешь, Гус?
Он давно мечтал снова услышать его пение.
Но Младшего не тревожила теперь даже максимальная громкость, и в комнату никто не врывался. Они были здесь людьми-кротами, и могли рыть исследовательские ходы любой глубины.
«Фокси» в исполнении «Гет Офф» они слушали раз пятнадцать подряд, постепенно прибавляя звук, будто пытаясь убрать все препятствия и расстояния между собой и этой словно резиновой басовой партией, похожей на страницу «Плейбоя», которую хочется увеличить настолько, чтобы войти в нее.
На некоторые снимки в журналах они глядели до боли в глазах, а потом руками делали друг другу приятное, уже не придавая этому особого значения.
Кольцо и костюм хранились у Мингуса. Официальным Аэроменом был он. То и другое лежало на полке над дверью вместе с хоккейными наградами, укрытое за старым футбольным шлемом. Поэтому никто из редких гостей Мингуса, к примеру Артур, не мог видеть их. Летал ли Мингус один, без него, Дилан не знал и никогда не спрашивал об этом. Часто, проводя вечер в доме Рудов, он ни разу не прикасался к кольцу, даже не упоминал о нем – просто садился на кровать и между затяжками поглядывал на полку. Потом они шли на улицу или одаривали друг друга парой ученических ударов в стиле кунфу, или обкуренный Дилан просто возвращался домой – есть приготовленный Авраамом ужин. Наверное, Аэромен тоже был всего лишь персонажем, как герои «Омеги» и «Колдуна», или же лучшим другом, оживавшим для мести и вновь умиравшим. Или фигурой из «Золотого века», Человеком-бомбой либо Живой куклой, словом, отнюдь не супергероем, не тем, о ком становится известно всем.
Иногда Дилан говорил Аврааму, что поужинает у Мингуса, или наспех съедал отцовскую стряпню и вновь шел к Рудам. И тогда в определенный момент Мингус тоже устремлял взгляд на полку и спрашивал:
– Поборемся со злом?
– Угу.
– Ты уверен?
– Да.
Мингус улыбался.
– Я думал, ты так и не заговоришь об этом.
В ту осень Аэромен летал шесть или семь раз, принял участие в восьми или девяти происшествиях и в буквальном смысле спас жизнь трем человекам, предотвратив страшные преступления. На Стейт-стрит возле Хойт они остановили одного пуэрториканца, державшего нож у горла маленького китайца – тот судорожно вытаскивал из карманов мятые купюры. Мингус-Аэромен слетел с пожарной лестницы ближайшего здания и врезал пуэрториканцу ногами по горлу. Отлетевший в сторону нож схватил Дилан, который до того прятался в тени крыльца. Шокированные китаец и его притеснитель дали деру. Дилан поднял деньги, окликнул жертву, но тот даже голову не повернул. Переведя дух и радуясь случайным деньгам и оружию, они убрали костюм с маской в пакет и направились в ресторан «Стив» на Третьей авеню – утолить раздразненный адреналином и марихуаной аппетит и отпраздновать очередную победу. Официанты пристально следили за ними, решив, что мальчишки надумали набить живот и сбежать, но Мингус и Дилан не обращали на них внимания. У них были деньги – вполне достаточно, чтобы даже оставить чаевые.
На Смит-стрит, выкрикивая «вуу-вуу-вуу» из «ковбоев и индейцев»,[7]7
«Ковбои и индейцы» – детская игра вроде «казаков-разбойников».
[Закрыть] Аэромен распугал дерущихся у входа в клуб пьяниц. Но больше в ту долгую ночь им нечем было заняться, они прослонялись по улицам несколько часов, нанося метки на металлические двери.
На Третьей авеню как-то в середине холодного дождливого октября Аэромен разогнал грабителей, проникших в китайскую забегаловку. Те бросились врассыпную, уронив на пороге блюдо с оранжевым рисом. В другой раз Аэромен нарисовался в своем костюме перед людьми на скамейках парка в конце Хайтс Променад – людьми, которые в его защите вовсе не нуждались. На Пасифик-стрит недалеко от Корт Дилан и Аэромен нашли дом со свободным доступом к крыше. Иногда они забирались туда и, лежа на животе, наблюдали через карниз за жизнью чужого квартала.
За девочкой, тщетно звавшей подругу: «Мира! Мира», за мальчишками, бросавшими мяч в стену, за бабушками со сложенными на груди руками, выглядывавшими из окон. Наблюдали увлеченно, сосредоточенно.
Гулять по мосту после наступления темноты не рекомендовалось никому. Отправиться туда посреди ночи означало добровольно нарваться на неприятности. Для Дилана и Аэромена это как раз подходило. Дилан работал приманкой, стоя напротив украшенной уже изрядно поблекшими автографами Ли и Моно башни, а Аэромен в своем костюме ждал наверху, зависнув возле проводов. Внизу, на улицах, стояло позднее лето, наверху, в воздухе, начиналась зима, наступавшая с океана. К Дилану привязались буквально через нескольких минут, к чему он, собственно, и готовился. Когда два подростка вынырнули из темноты и заговорили с ним, ему стало смешно.
– Эй, белый парень, одолжи доллар.
Дилан с удовольствием сделал вид, будто лезет за деньгами в карман, позволяя улову зайти поглубже в сеть. Но Аэромен не появился ни через полминуты, ни через минуту.
– Какого черта ты там копаешься?
Парни занервничали. По-видимому, усмотрели в медлительности белого какой-то подвох и проследили за его взглядом, устремленным вверх, на провода над мостом. Все трое увидели человека в накидке, Мингуса, который пытался справиться с собственным телом и ветром, отнесшим его в сторону от линии электропередачи. В какой-то момент ему почти удалось это, но очередной порыв снова дернул его вбок, прибивая к воде. Перед глазами наблюдателей мелькнула накидка, маска, кеды «Пума», а затем он пропал из виду.
Его унес ветер.
Дилан резко развернулся к дощатой пешеходной дорожке и рванул прочь, следуя советам Рейчел: «Беги, мой мальчик, работай ногами, чтобы никто никогда тебя не догнал!» – впервые в жизни. У подножия моста он чуть не столкнулся с постовым копом, обогнул его, отдышался и продолжил бег, двигая руками и ногами как какой-нибудь механизм. Съезжавший с моста поток безликих машин устремлялся на Генри-стрит и Клинтон, теряясь меж дремлющих домов из бурого песчаника. Обратиться за помощью было не к кому. Мингус – Аэромен – разбился о воду, утонул вместе с серебряным кольцом. Дилан свернул на темную тропу, ведущую к воде под мостом, и побежал вниз, к заваленному мусором берегу, куда город выбрасывал разбитые полицейские машины и прочие свидетельства собственной беспомощности.
Мингус сидел на краю причала и, сгорбившись, выжимал накидку. На цементной плите под ним разрасталось темное водное пятно. Дилан, подбежав, молча уставился на него.
– Вот это да! – сказал Мингус.
– С тобой все в порядке?
– Я плавал, приятель. Хотя и понятия не имел, как это делается. – Он говорил изумленно, но спокойно и кивал на воду.
– Что ты имеешь в виду?
– Как рыба, Ди-мен.
– Думаешь, кольцо научило тебя плавать?
– Или летать под водой – не спрашивай, я не знаю. Но, черт возьми, я как будто был Акваменом.
Они побрели в сторону Дин. Запланированная на сегодня борьба со злом так и не состоялась, и в последующие дни они почему-то обходили мост стороной. Костюм Аэромена Мингус высушил, а потом закинул на полку на несколько недель, в течение которых оправлялся от падения и собирался с духом. Дилан не торопил его, размышляя о таинственной силе кольца. Каковы ее пределы? Почему Аарон К. Дойли отказался от всего этого? Дилан надевал кольцо на палец, наполнял ванну, опускал туда голову, пытался дышать, втягивал воду в легкие, кашлял, когда она обжигала ноздри.
«Рентгеновским» зрением кольцо не наделяло. Мингус и Дилан удостоверились в этом, проведя волнующий вечер в попытках рассмотреть, что находится под платьем у проституток на Пасифик и Невинс и у белых девочек в «Баскин Роббинс» на Монтегю, но так ничего и не увидев.
– Постой, постой, кое-что я все же рассмотрел.
– Теперь моя очередь.
– О черт! Она без трусов.
Последнюю операцию в тот год, когда Дилан начал учиться в Стайвесанте, они провернули во время сильного снегопада, через две недели после Дня благодарения. Дилан шел по Стейт-стрит, а Мингус следовал за ним, перепрыгивая с одной крыши на другую. С той поры, когда им удалось спасти китайца, побросавшего на тротуар деньги, они считали участок Стейт-стрит между Хойт и Бонд самым подходящим для борьбы со злом местом. От Дин и Берген его отделяло приличное расстояние, поэтому знакомые здесь практически не попадались, к тому же тут всегда было темно из-за разбитых фонарей. Сегодня, вероятнее всего, Дилана могли лишь обстрелять снежками. Так оно и вышло. Попавшийся навстречу подросток-пуэрториканец зачерпнул горсть снега с ветрового стекла припаркованной у обочины машины и, когда Дилан прошел мимо, бросил комок ему в спину.
Дилан резко развернулся.
– Какого черта тебе надо, сукин сын?
В этот момент слетевший с крыши Мингус запихнул пуэрториканцу за шиворот пригоршню снега. После этого они помчались прочь, Аэромен на ходу, прямо на морозе, стащил с себя костюм.







