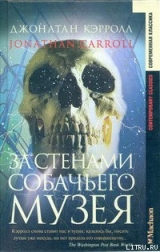
Текст книги "За стенами собачьего музея"
Автор книги: Джонатан Кэрролл
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
– Просто чтобы показать, какие они замечательные. Гордыня ни к чему хорошему не приводит. Я в отчаянии хлопнул себя по голове.
– Но тогда зачем же Господь дает нам «феррари», если на самом деле не желает, чтобы мы использовали его на полную мощность?
– Может быть, «феррари» просто не предназначены для езды со скоростью в тысячу миль в час. Уайетт Леонард на том обеде рассказал очень интересный случай. Один его знакомый много лет занимался карате и имел черный пояс. Короче говоря, был настоящим мастером. Как-то раз один из учеников спросил его, что делать если на улице к тебе вдруг пристанут несколько крутых парней и начнут задираться. Знаешь, что ответил мастер, Гарри? «Я бы сделал ноги». Разве не замечательно? Получается, вся эта самооборона сводится к одному: достигая определенного уровня, ты твердо знаешь, что можешь одним ударом убить любого, но ты уже настолько уверен в себе и так высоко себя ценишь, что просто не считаешь нужным так поступать. И делаешь ноги.
– Не вижу связи.
– Посмотри на себя. Все знают, что ты самый лучший. Ты удостоен всех премий. Ты спроектировал великие здания.
– А вот Венаск так не считал.
– Венаск был твоим учителем карате. По-моему, он пытался втолковать тебе, что следующей ступенью для тебя должен стать отказ от стремления делать себе имя. Разве не поэтому у тебя случился нервный срыв – поскольку в душе ты сознавал, что это справедливо, но ни– как не мог смириться? Помнишь, ты сам как-то говорил, мол, ты забросил работу, когда перестал видеть в своих зданиях людей? Ты достиг стадии, когда начал работать лишь для себя. Остался только ты сам, твои здания, твое эго. Я прекрасно понимаю, почему ты больше не мог видеть в них людей. Просто каждую комнату в своих зданиях ты заполнил собой.
– Ты сейчас похожа на одного из современных гуру.
– Перестань, Гарри. Ты завидуешь мне, поскольку я в принципе довольна своей жизнью. Это, конечно, не значит, что больше мне вообще ничего не нужно или что… ну, скажем, что я отказалась бы от еще более совершенной руки, если бы представилась возможность ее получить. Тем не менее мне нравится моя жизнь и… Ты вот утверждаешь, что счастлив, когда работаешь. О'кей, но это вовсе не так – ты самый неуемный из всех, кого я знаю. Даже за работой ты не можешь усидеть на месте. Разве это счастье? Удовлетворенность? Что хорошего, если ты каждый день проживаешь, будто переступая босыми ногами по раскаленному полу? Разве смысл жизни не в том, чтобы обрести наконец хоть какой-то покой?
– Нет, чтобы бороться. По мне, так ты просто счастливица, если пребываешь в мире с самой собой, но вот я отказываюсь быть в мире с твоим миром. Потеряй руку я, я бы непременно постарался сам спроектировать себе новую, причем лучшую из всех когда-либо придуманных. Разве это плохо? Разве неправильно стремиться быть самым лучшим?
– Неправильно будет, милый, если ты никогда не добьешься своего. Ты поднимаешь какую-то вещь и говоришь «Кажется, я нашел то, что искал! « Ты в восторге, но подносишь ее к свету и видишь – подобная у тебя уже была. Д это ведь так обидно.
Ты говорил, что впервые в жизни, строя здание, испытываешь подлинное вдохновение. И что это – результат магии? Но черт побери, Гарри, ты и с помощью этой магии работаешь так же, как и всегда. Испытываешь то же напряжение и то же отчаяние, которые угнетали тебя и раньше. Разве не лучше было бы использовать магию иначе? Вспомни людей, затеявших строительство Вавилонской башни, и то, как они злоупотребили дарованной им волшебной силой. Может быть, построй они ее во славу Господа или просто из радости созидания, из радости иметь возможность работать сообща, понимая друг друга с полуслова, и Бог не стал бы им мешать. Язык дан. нам для того, чтобы лучше понимать друг друга, а не соперничать между собой.
Первая смерть принесла с собой и первое волшебное событие, хотя осознал я это лишь значительно позже. Сарийский сварщик по имени Махмуд подключил неисправный ацетиленовый баллон, который, взорвавшись, как бомба, отшвырнул несчастного футов на десять. Когда я появился на месте происшествия, возле тела уже стоял на коленях Хазенхюттль, с которым мы уже давно не виделись, и, кажется, отчаянно пытался вернуть несчастного к жизни. Вокруг сгрудились люди, причем на лицах у всех застыло одно и то же странное выражение. Они были похожи на зевак, столпившихся на месте автокатастрофы – никто не шевелился и не переговаривался. Сзади подошел Палм и положил руку мне на плечо.
– Насмерть?
– Судя по его виду, от него слишком мало осталось, чтобы жить.
– А что делает Хазенхюттль?
– Понятия не имею.
– Я и не знал, что он врач.
Обернувшись к Мортону, я хотел было сказать, что вообще не знаю, кто такой этот Хазенхюттль! Но так и не раскрыл рта. Посмотреть на погибшего собиралось все больше народа, и через некоторое время, нарушая всегда поначалу воцаряющуюся при виде внезапной и ужасной смерти тишину, люди начали негромко переговариваться. Одновременно звучали сразу три языка, но через несколько мгновений я вдруг понял, что рядом со мной кто-то хриплым басовитым голосом отчетливо произнес по-английски «раздолбай». Я и сам не раз пользовался этим грубым словом для характеристики многих своих знакомых. На сей раз оно являлось частью фразы вроде: «Кому какое дело? Раздолбай он раздолбай и есть». Без малейшего акцента. Речь стопроцентного американца.
Предполагая, что говорящий имеет в виду изуродованного взрывом лежащего на земле человека, я обернулся посмотреть, кто этот бесчувственный мерзавец. Там, откуда, как мне послышалось, донеслась фраза, стоял довольно известный представитель сарийского контингента рабочих – Шарам. Известный, поскольку он весил около трехсот фунтов и был ужасно похож на Блуто, вечного антагониста Попая. Еще одной примечательной особенностью этой довольно комической личности было то, что он совершенно не говорил по-английски и, насколько мне было известно, даже по-арабски говорил крайне редко. Но я все же запомнил его голос, поскольку однажды мы с ним повздорили – через переводчика. И слово «раздолбай» было произнесено именно этим голосом.
– Это ты только что говорил по-английски?
Глядя на меня, как снулая рыба, он произнес на своем языке что-то такое, отчего его приятели прыснули и отвели глаза. Палм перевел мой вопрос на арабский, и Блуто отрицательно покачал головой.
– Почему вы спрашиваете, Гарри?
– Он недавно произнес слово «раздолбай». Я абсолютно уверен, что это был он.
– Сомневаюсь. Шарам крайне неразговорчив. Вряд ли он вообще когда-нибудь учил английский. Когда он не работает, то почти все время спит.
Тут появился вертолет компании, и меня отвлекли другие заботы, но случай этот врезался мне в память, и я часто потом его вспоминал.
Тело уложили на носилки и погрузили в вертолет. Мы наблюдали за тем, как машина поднимается в воздух. Палм похлопал меня по плечу и удалился. Подошел заметно расстроенный Хазенхюттль.
– Этого не должно было случиться. Ничего не понимаю
– Что вы имеете в виду?
– Соглашение. Когда вы заключали соглашение, ничего подобного не предполагалось.
– А что вы там возле него делали?
– Да ничего кроме того, что пытался определить почему это произошло. Но так ничего и не понял. Я совершенно сбит с толку.
Эти слова потрясли меня куда больше, чем известие о гибели рабочего. Если, уж даже этот специально приставленный ко мне надсмотрщик не понимает, что происходит, то как же быть нам, простым смертным?
– Вы хотите сказать, проект благословили или что-то в этом роде?
– Да, но я не должен был вам этого говорить. Правда, теперь уже все равно. – Он нервно облизал губы. – Теперь, Радклифф, у этой игры совсем иные правила.
– А я-то думал, что вы посланы помогать мне!
– До сих пор – да, пока я знал правила. Теперь я их больше не знаю.
– Значит, может случиться все, что угодно?
– Для меня это такая же тайна, как и для вас.
Пардон, но я очень люблю фильмы ужасов. Некоторые из моих лучших детских воспоминаний связаны именно с пребыванием в темном зале какого-нибудь сомнительного кинотеатра. В руке у меня огромный картонный стакан попкорна, я то набиваю рот жирной воздушной кукурузой, то сижу с отвалившейся челюстью и крепко зажмуренными глазами, ожидая, что героиня сейчас откроет не ту дверь или из лаборатории послышится истошный вопль. Отцу нравился рестлинг, а мне нравятся вопли и чешуйчатые монстры.
Последняя серия «Полуночи» добралась до кинотеатра Целль-ам-Зее под самый конец самой хорошей недели. Вопреки опасениям Хазенхюттля, смерть сарийского сварщика положила начало спокойному и плодотворному периоду, когда мы стали продвигаться вперед с удивительной скоростью. Конечно, без проблем не обходилось, но ничего такого, чего нельзя бы было быстро и решительно уладить, не происходило. Рабочие разных национальностей стали лучше уживаться вместе и, кажется, мало-помалу начали приспосабливаться если не к культурным особенностям друг друга, то хотя бы к тому, как работают представители других культур. Одному из монтажников-австрийцев его американские и сарийские коллеги даже устроили на удивление роскошный день рождения.
Погода тоже была на редкость благоприятна. Солнце заливало вершины гор, озеро и весенний снег каким-то тосканским светом, как будто одобряя все происходящее. Этот свет создавал такое настроение, что даже во время самой напряженной работы то и дело отвлекаешься, поднимаешь голову и с улыбкой оглядываешься вокруг. А потом, с чувством благодарности природе, освеженный и с новыми силами возвращаешься к своему делу.
Та лекция, которую прочитала мне Клэр, сильно повлияла на мое восприятие окружающего и работу. Чем больше я раздумывал над ее словами, тем яснее сознавал, что она права. Легко послать самого себя подальше и/или перейти на новый стиль жизни, зато чертовски непросто довести дело до конца. Как зарок, данный в ночь под Новый Год, все это звучит очень хорошо и крайне искренне. Но только до тех пор, пока не начинаешь жить в соответствии с новопровозглашенными принципами. Кто знает, с чего начинать? Лично я избрал самый медленный путь – попробовал хоть немного умерить свой буйный нрав, стать добрее и терпеливее, помнить о том, что мои стандарты и ожидания могут быть не такими, как у других. Это сработало примерно наполовину, но я все равно был горд собой, поскольку в душе забрезжила надежда, что продолжая в том же духе, я сумею склонить чашу весов на свою сторону. В конце концов я был вознагражден. Ко мне пришел один из подрядчиков и заявил, что один из элементов наружной отделки, который я считал исключительно важным для внешнего облика здания, изготовить не удастся. Вместо того, чтобы как обычно тут же выйти из себя, я прикрыл глаза и, вымучив улыбку, спросил, что он предлагает взамен. Его предложение оказалось просто замечательным и было значительно лучше того, что мог бы придумать я. Мне оставалось только поздравить его. С того дня многие другие также стали охотно делиться со мной своими идеями, равно как и сомнениями, и это шло только на пользу общему делу. Палм, присутствовавший при моем разговоре с подрядчиком, потом сказал, что гордится мной. Раньше я бы непременно огрызнулся, услышав такое, но Мортон уже сумел доказать, какой он бесценный помощник, и теперь его комплимент только заставил меня расправить перья. Он вообще идеально подходил на роль человека, которому в трудной ситуации всегда можно поплакаться в жилетку. И пусть он не очень разбирался в строительстве, зато был исключительно рассудительным и широко мыслящим человеком, идеи которого, всегда глубокие и созвучные моим, неизменно несли в себе зерно чего-то такого, что помогало расчищать от снега тропинки моих мыслей. Я много рассказывал ему о Клэр, а потом познакомил их, и мы провели втроем исключительно теплый вечер. Потом она сказала мне, что он показался ей очень открытым и великодушным человеком. Тут в моей голове зазвенел какой-то колокольчик, и я вслух высказал осенившую меня мысль:
– Он мне нравится потому, что похож на тебя.
С точки зрения работы, неделя оказалась крайне результативной и интересной. Через несколько дней снова должна была приехать Клэр, и перед тем как пойти в кино, мы с Мортоном плотно поужинали. По дороге в кино я обмолвился, что знаком с Филипом Стрейхорном, человеком, снявшим весь сериал «Полночь» и играющим в нем главного злодея. К моему удивлению, Палм вдруг начал подробнейшим образом расспрашивать меня о Стрейхорне. Кроме желания узнать, что он собой представляет, его, похоже, больше всего интересовало, почему этот интеллигентный и умный человек тратит столько времени на фильмы, единственное назначение которых до смерти пугать людей. Я изложил ему свою радклиффовскую теорию фильмов ужасов, которая в общих чертах сводится к следующему: общество так пресыщено, что обыденные вещи людей больше не занимают, поэтому мы переместились на более низкий уровень, где принято душить, пытать и казнить на электрическом стуле.
– Неужели вы действительно считаете, что это лучший способ развлекать людей?
Вдохновившись, я сунул руки в карманы и понес:
– Пропустите пять тысяч вольт через прекрасную блондинку, и заинтересованная аудитория вам гарантирована. То же самое и в архитектуре. Она зиждется на трех основополагающих принципах – порядке, логике и красоте. Причем меня совершенно не волнует, сколько умников попытались бы меня опровергнуть, поскольку это действительно самая суть того, к чему мы должны стремиться в проектировании любого здания. Так что разные там теоретики могут пойти куда подальше. Но в наши дни появилось и множество весьма удачливых архитекторов, которые, к примеру, готовы вырыть яму и опустить в нее здание. Причем в данном случае мы говорим вовсе не о бомбоубежище, мы говорим о самом обычном доме, уютном доме. Больше всего это похоже на остроумную оригинальную идею, интеллектуальную шутку, которые чаще всего приходят в голову студентам-первокурсникам. Но поскольку внешне идея блещет новизной и никто прежде такого не делал, целая куча людей буквально осаждают этих идиотов просьбами спроектировать им дом. Представляете, Мортон, ДОМ! «Добро пожаловать в гости. Просто спуститесь вниз по лестнице, только не забудьте шахтерскую каску». По мне, так подобное шарлатанство то же самое, что и серии «Полуночи» — совершенно сознательная попытка раскопать и превознести все, что есть в жизни уродливого, враждебного и хаотичного. Один тип даже называет это «делать видимым то, что находится между стабильностью и нестабильностью». Чушь собачья. Удел умников и циников, а ведет он лишь к гибели души.
Палм ничего не отвечал, и я почувствовал, что лицо у меня в испарине.
– Наверное, я сейчас высказался, как какой-нибудь старпер, да?
– Да нет, похоже, вы верите в то, что делаете. Но может быть, Гарри, я просто не очень хороший судья, поскольку умею делать лишь двери и лестницы. Я верю лишь в вещи, которые честно выполняют свои функции и которые можно уверенно использовать снова и снова. Я как-то читал о художнике, делающем лестницы, по которым нельзя подниматься, – ступеньки направлены в разные стороны. Очень интересная идея, она сбивает наши чувства с толку, но лишь на минуту, не больше. А потом превращается именно в то, о чем вы говорили, – в работу какого-то дешевого умника. И все же я никак не могу понять, зачем кому-то тратить значительную часть своей жизни и воображения, чтобы изо дня в день заниматься подобными вещами? Создавать лестницу, которая никуда не ведет, то же самое, что снимать фильмы о том, как люди мучают друг друга.
Я легонько хлопнул его по плечу.
– Тогда зачем же вы отправились со мной в кино?
– Просто мне нравится ваша компания. Интересно вас слушать. Даже во время глупого фильма вы вполне можете сказать нечто такое, над чем я мог бы потом поразмыслить на досуге.
Поскольку на выходные все рабочие со стройплощадки перемещались в город, этим субботним вечером Kino в Целль-ам-Зее было самым настоящим бедламом. Зал был под завязку набит австрийскими, американскими и сарийскими рабочими вперемежку с добродушными горожанами, которые уже привыкли ко всему, а все фильмы здесь шли только на немецком языке, то есть лишь третья часть зрителей понимала, о чем идет речь. Из-за этого в зале стоял неумолчный гам. Например, на экране один из героев говорит что-нибудь важное. Сариец громко на ломаном английском: «Какой такой сказал эта парень? „ Ему на не менее ломаном английском отвечает либо австриец: «Гофорит, што если што, он будет пристрелить всю ево фамилию“, либо американец: «Не знаю, Салим, может, ты мне переведешь? « Затем следует перевод с одного языка на другой, и через несколько секунд либо раздается гомерический хохот, либо следуют новые расспросы. Все это изрядно мешало слушать то, что говорится с экрана, однако даже просто сидеть в этом зале было забавно, и, как мне кажется, подобное общение здорово помогало людям сблизиться. После сеансов мы часто гурьбой вываливались из кинотеатра, со смехом обсуждая, какой из вопросов был самым забавным или насколько остроумнее реплики героя фильма оказался ответ.
Начинается фильм «Полночь неизбежна» с любовного экстаза на кладбище. Мизансцена залита темно-синим светом, от классической музыки Бернарда Германа note 75Note75
Бернард Герман (1911-1975) – знаменитый голливудский композитор. Сотрудничал с Орсоном Уэллсом (1915-1985), в том числе еще на радио, однако наиболее прославился благодаря работе с Хичкоком – например, в картинах «Человек, который знал слишком много» (1956), «Головокружение» (1958), «Психо» (1960) и др. Также писал музыку к фильмам «Седьмое путешествие Синдбада» (1958, реж. Натан Юран), «Новобрачная была в трауре» (1968, реж. Франсуа Трюффо), «Таксист» (1976, реж. Мартин Скорсезе).
[Закрыть] мурашки бегут по телу. Никаких титров поначалу нет: на экране два подростка с нетерпеливыми стонами срывают друг с друга одежду. Обычно минуты через три или четыре после начала фильма публика начинает отпускать едкие замечания, но, видимо, из-за ожидаемых сцен секса или насилия в зале пока царила тишина. Однако Стрейхорн умен и знает, что вы ждете разных страстей. Поэтому он вам их не дает, хотя музыка нарастает, и мы видим то не сулящие ничего хорошего тени, то время от времени один из юных любовников настораживается, приподнимает голову и спрашивает: «Что это было? Не знаешь?» На самом же деле в этой первой сцене так ничего и не происходит до тех пор, пока подростки, довольные и без памяти влюбленные друг в друга, не уходят с кладбища, крепко взявшись за потные руки. После этого камера перемещается на стоящий футах в трех от того места, где они занимались своим неблаговидным делом, памятник – и вот оно: Кровавик сидит и закусывает. Поначалу кажется, что он обгладывает какие-то тощие ребрышки, но камера делает наезд, и становится ясно: вовсе они не тощие. Достаточно жирные и, чтобы усилить впечатление, он ест очень деликатно и даже время от времени промакивает губы белой салфеткой. Наконец, доев, он с тяжким вздохом поднимается и отправляется туда, где кувыркалась влюбленная парочка. На земле валяется использованный презерватив. Он с улыбкой поднимает его и кладет сероватую резинку в карман.
– Может, он промышляет вторсырьем?
– Washatergesagt?
– EinesaubereUmwelt! note 76Note76
– Что он сказал? – Какую-то чушь! (нем.)
[Закрыть]
Сарийцы получают свою версию перевода, и просмотр продолжается.
Еще несколько месяцев назад Палм заметил, что когда работа идет из рук вон плохо, то во время фильмов люди отпускают гораздо больше реплик, причем гораздо громче, чем обычно. Так что о прошедшей неделе можно судить по количеству и уровню громкости комментариев. Я вспомнил об этом, поскольку в зале стояла относительная тишина, а когда кто-нибудь отпускал замечание, оно было более остроумным и менее едким, чем обычно.
Тем, что произошло со мной потом, я обязан именно этой относительной тишине. Где-то в первой трети фильма Кровавик из телефонной будки звонит героине. Телефон стоит у нее в спальне, и, услышав звонок, она нерешительно снимает трубку.
– Алло!
– Привет, Хезер. Хочу сказать тебе, что ты сегодня была очень красива. Я за тобой наблюдал. Наблюдал целый день. Особенно мне понравилось, как у тебя из-под платья выглядывают голубые трусики. А еще мне понравился запах той желтой резинки, которую ты жевала. И вообще понравился твой запах.
Это продолжалось до тех пор, пока девушка в ужасе не выронила трубку и выбежала из комнаты. И в этот момент я ошеломленно понял, что откуда-то с середины монолога этого ублюдка я вдруг начал понимать каждое его слово. Я совершенно не знаю немецкого. Конечно, я кое-как учил его в школе, но после выпускных экзаменов мигом забыл, поскольку он нисколечко меня не интересовал. А сейчас, наблюдая за освещенным серебристым светом луны невыразительным лицом маньяка, я слышал, что он говорит на практически незнакомом мне языке, и, тем не менее, в какой-то момент осознал, что прекрасно понимаю каждое слово, каждую фразу. Более того, позади меня сидела группа то и дело негромко переговаривающихся между собой сарийцев, и я, оказывается, начал понимать и их. А ведь арабского я тоже не знаю.
Удивленный, я обернулся и уставился на них, будто желая убедиться, что они действительно арабы, говорящие на арабском языке, который я понимаю. Действительно, арабы. Действительно, понимаю.
В этот момент сидящего рядом со мной Палма рассмешило что-то происходящее на экране, и он пробормотал себе под нос какую-то фразу по-шведски. Я и его понял. Мне даже не пришлось думать, вычленять слова, разбираться в синтаксисе и вдаваться в детали. Я просто понимал все, что говорилось вокруг меня на любом языке. Я обратился к Палму:
– Повторите еще раз.
– Что?
– Скажите то же самое еще раз.
– Это по-шведски. Я сказал… Я поднялся.
– Я понял, что вы сказали. Мне нужно идти. Нет, оставайтесь, я уйду один. Увидимся позже. Все в порядке… Я тоже в порядке, просто мне нужно уйти.
Спотыкаясь о ноги соседей, я выбрался в проход и едва ли не бегом бросился к выходу. Мне нужно было срочно выйти на улицу, глотнуть свежего воздуха, хоть немного проветрить мозги, попытаться понять, что со мной происходит… короче, выбраться отсюда. Я заметил удивление на лицах провожающих меня взглядами людей, но это уже не имело никакого значения.
Ледяной вечерний воздух быстро остудил меня, но этого было недостаточно. Я двинулся по главной улице, не отдавая себе отчета, куда иду, но чувствуя насущную потребность двигаться и дать мозгу немного отдохнуть, пока не вернется хоть малая толика разума, позволяя мне обдумать то, что случилось в кинозале. Я миновал громко переговаривавшихся между собой пожилых супругов. Он говорил ей по-немецки, что ему осточертел вечный запор. Я все понял. Чуть позже мне встретился сарийский рабочий, несший под мышкой маленький радиоприемник, из которого лились звуки арабской музыки. Женщина пела тем высоким «качающимся» голосом, благодаря которому арабская музыка всегда так узнаваема. Я понял слова песни.
Оказалось, что я, сам того не сознавая, направлялся к отелю и, добравшись до стоянки, сразу увидел свою машину. Ключи лежали у меня в кармане, и уже через какую-то минуту я ехал по дороге, ведущей к озеру.
Помогая мне справиться с безумием, Венаск научил меня одному трюку. «Когда почувствуешь, что дурные волны снова начинают захлестывать тебя с головой, Гарри, сосредоточься на слове, на любом слове, имеющем хоть малейшее отношение к тому, что ты чувствуешь, и повторяй его снова и снова, пока тебя не начнет от него тошнить. Сосредоточься на нем до такой степени, чтобы забыть обо всем остальном. Слово может быть каким угодно, главное, оно должно быть хоть как-то связано с твоим безумием. В этом случае твой мозг не подумает, будто ты пытаешься его перехитрить. Он просто решит, что ты хочешь немного позабавиться».
После того как я научился пользоваться этим трюком, он всегда срабатывал, и сейчас, мчась в машине сквозь величественную ночь, я постарался сосредоточиться на слове Langenscheidt. Знаете, есть такие маленькие карманные компьютеры, которые мгновенно переводят с одного языка на другой. Впечатываешь, например, слово «атомг» и на экранчике появляется «любовь». Моим же словом стало «Я – Langenscheidt. Я – Langenscheidt. « Петляя по австрийской глубинке, между похожих на свои собственные тени гор, я как какую-то странную мантру повторял это снова и снова, а в голове отбойным молотком билось воспоминание о том, что случилось в кинотеатре. Я былLangenscheidt. Мне было понятно любое слово в мире. Я наверняка смог бы понять указания даже на суахили, прочитать телефонную книгу на японском, рецепт на португальском. Я – Langenscheidt.
Я то и дело поглядывал на зеленые светящиеся цифры на приборной панели, чтобы узнать, который час, но, стоило отвести от них глаза, как я тут же начинал мучительно соображать, сколько же сейчас может быть времени? Ничто не лезло мне в голову – она была слишком переполнена, слишком напугана, слишком напряженно перебирала и запоминала, пыталась понять, настаивая, что, если я дам ей хотя бы минуту или две, она обязательно все поймет.
Немного недоезжая до Капруна я остановил машину и приоткрыл дверь, чтобы не погас свет в салоне. Читая, я всегда отмечаю неизвестные мне слова, выписываю их, а потом, оказываясь поблизости от словаря, ищу их значения. Редко когда у меня с собой либо в бумажнике, либо просто в кармане нет соответствующего списка. В тот вечер несколько слов было нацарапано на спичечном коробке. «Ленитив», «эпигон», «альпари». Я закрыл глаза и повторил их про себя.
«Ленитив – успокоительное, снимающее боль или раздражение средство. Эпигон – последователь, жалкий подражатель. Альпари – соответствие биржевой цены акций их номинальной стоимости. Матерь Божья, но ведь я их знаю. Я знаю эти слова».
Интересно, на что это было похоже: человек, в стоящей на обочине дороги машине, залитой желтым светом лампочки под потолком, с закрытыми глазами вслух повторяющий то, что записано на крепко зажатом в руке спичечном коробке? Может, он заблудился и пытается сориентироваться? Что-то забыл и силится вспомнить? Или отдыхает после долгой поездки? Сколько раз мы становились свидетелями подобных сцен и проезжали мимо, даже не удостоив их повторного взгляда и впоследствии никогда не вспоминая о них? Однако, поверьте, причина подобных остановок порой куда серьезнее, чем нам кажется. Иногда дорога – единственная твердая опора, и человек останавливается потому, что должен взглянуть на нее, взглянуть немедленно, дабы убедиться, что она здесь, на своем месте. Потому что больше у него ничего нет. Несколько часов спустя я подрулил к стройплощадке и вылез из машины. Езда наконец успокоила меня, но я не мог вернуться в отель до тех пор, пока окончательно не выбьюсь из сил и не потеряю способность думать вообще. А к музею я подъехал потому, что теперь все понял и должен был взглянуть на него заново, уже с этим новообретенным пониманием.
Виднеющийся за сетчатой оградой и залитый со всех сторон ярким светом каркас здания был очень похож на готовую к взлету ракету на стартовой площадке. Прожектора, очень резкие и мощные, как бы отказывались признать, что вокруг них и за ними царит тьма. Но лучи, стоило им миновать музей и угодить в непроглядную гущу альпийской ночи, быстро рассеивались и исчезали. Казалось, такая световая мощь легко справится с ночной темнотой, но, оказывается, и ее возможности не бесконечны.
Я отпер ворота своим ключом и медленно поплелся вверх по склону. Знал ли Венаск, когда помогал мне, то, что стало мне понятно только теперь? Наверное. А чего этот старик вообще не знал? По дороге к зданию я мучительно припоминал наши с ним разговоры, пытаясь отыскать в его словах хоть какие-нибудь намеки, которые могли бы подтвердить, что я на верном пути и что цель моей работы именно такова. Намеки. Как же много их было! Сон про Роберта Лейн-Дайера и его съедобный дом – «У каждого из нас внутри есть свой дом. Именно этот дом определяет, каким быть человеку… Ты думаешь о нем всю свою жизнь… Но возможность увидеть его воочию выпадает лишь однажды. И если ты эту возможность упускаешь или избегаешь ее, потому что тебе страшно, то дом исчезает и больше тебе никогда его не увидеть». Венаск, показывающий мне мою внутреннюю, только правильно записанную, музыку под водой бассейна в Калифорнии. Кумпол, пожертвовавший собой ради меня в Сару, мой разговор с Клэр о брейгелевской «Вавилонской башне». Как прожектора, освещающие здание, мои разум и интуиция заливали ярким светом каркас моей жизни, но стоило их лучам уйти в сторону, как все терялось во тьме. Я знал, что то же самое происходит и со многими другими людьми, но в тот момент это нисколько меня не утешало. Я не слишком застенчив, поскольку не верю в то, что смирение это ключи от врат рая. Если вы делаете свое дело действительно хорошо, вам нечего стыдиться признавать это и соглашаться с позитивной оценкой окружающих. В каждом из нас пляшет множество демонов, причиняющих нам боль, постоянно подзуживающих нас и подталкивающих нас на неправильные поступки, так почему бы нам не приветствовать (и должным образом не ценить) тех нескольких ангелов, которые также присутствуют внутри нас? Во всяком случае, до нынешнего вечера, сознавая это, я чувствовал себя весьма комфортно.
Ни один обычный человек не был способен создать то, что удалось создать мне, следовательно, высившееся передо мной на вершине холма «мое» здание, не было моим творением, плодом моего творчества, а скорее, являлось результатом деятельности сил, которые постоянно направляли меня то туда, то сюда, заставляя сделать или набросать то-то и то-то. А я все время считал его плодом своего творческого воображения. Собственным удивительным творением. На самом же деле с равным успехом я был подобен муравью, перед которым положили прутик и он пополз бы по нему, как будто это неожиданно возникшее препятствие не было чьей-то глупой шуткой, а он с самого начала так и собирался сделать. Даже не знаю, чем я больше был рассержен – тем, что мною манипулируют, или самим осознанием этого факта.
Глядя на строящееся здание, я стиснул зубы так, что, наверное, мог бы прокусить стальную балку. Поскольку в законченном виде оно стало бы одним из самых прекрасных творений рук человеческих. Сколько раз я мечтал о том, чтобы прежний султан дожил до того времени, когда его мечта воплотится в жизнь! Однажды вечером, лежа в постели, я, даже представлял себе, как веду его на экскурсию по достроенному Собачьему музею. Показываю ему, насколько удачно сочетаются некоторые материалы, демонстрирую незаметные на первый взгляд мелочи и решения, в сумме делающие здание изумительно эксцентричным.
Самый главный вопрос, который я постоянно задавал себе, это – был ли Музей лучшим из когда-либо созданных мной зданий. Думаю, все же не был. В принципе, это не слишком меня огорчает, поскольку замысел был не вполне моим собственным. После многих лет, отданных какому-либо делу, у человека вырабатывается надежное чувство объективной оценки собственной работы и понимание того, что хорошо и что плохо. Собачий музей являлся крайне оригинальным и более чем внушительным сооружением, с заложенной в него изрядной толикой юмора, что было редкостью в моей работе, но в то же время он не был коронным блюдом Радклиффа. Ни в коем случае. Учитывая все то вдохновение, волшебство и многое другое, которые потребовались для его строительства, можно было еще в самом начале предположить, что оно превзойдет все предыдущее, но этого не случилось. Конечно, музей был определенно выдающимся зданием, и люди наверняка будут обращать на него внимание и, возможно, даже спрашивать, что это такое и кто архитектор. И, тем не менее, оно не было работой, которую мне хотелось бы крепко обнять холодеющими руками и забрать с собой в могилу, как наилучшим образом характеризующую мое творчество. О нем обязательно будут говорить, поскольку людям понравится создаваемое им пространство, то, как оно дополняет и подчеркивает попадающий на него естественный свет, и все же оно не было моим лучшим произведением. Не было. А Клэр считала, что было. И Палм так сказал. Даже толстяк Хазенхюттль сказал то же самое, но за кем у нас последнее слово? За мной.








