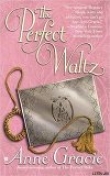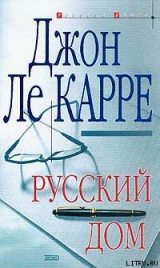
Текст книги "Русский Дом"
Автор книги: Джон Ле Карре
Жанр:
Шпионские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
– Очень мило, – сказал он, впрочем, без видимой враждебности. – Ну, и куда же мы отправимся? В Никарагуа? Чили? Сальвадор? Иран? Если вам надо ухлопать лидера какой-нибудь из стран третьего мира, я к вашим услугам.
– Не надо громких слов, – протянул Клайв, хотя уж в чем-чем, а в этом обвинить Барли было нельзя. – Мы ничем не лучше компании Боба и занимаемся тем же самым. Кроме того, у нас есть закон о неразглашении государственной тайны, которого нет у них, и мы надеемся, что вы дадите соответствующую подписку.
Тут Клайв кивнул в мою сторону, так что Барли, хоть и поздно, вынужден был заметить меня. В таких случаях я всегда стараюсь сесть чуть в стороне, что я в тот вечер и сделал. Это, как мне кажется, остатки фантазии на тему, что я все-таки блюститель закона. Барли посмотрел на меня, и бесхитростная прямота его взгляда на миг меня смутила. Это как-то не вязалось с его портретом, созданным нами весьма приблизительно. А Барли, еще раз окинув меня взглядом, – не знаю, что уж он увидел, – принялся еще внимательнее рассматривать комнату.
Отделана она была шикарно, и, возможно, Барли решил, что дом принадлежит Клайву. Несомненно, она отвечала вкусу Клайва, поскольку Клайв был мещанином, то есть был не в силах представить себе, что у кого-то вкус может быть лучше. Резные троны, диваны с веселенькой обивкой, а на стенах – электрические свечи. За столом, вокруг которого расположилась команда, свободно разместились бы все участники переговоров о перемирии 1918 года. Он стоял на возвышении в алькове, уставленном по стенам фикусами в горшках, напоминавших кувшины с сокровищами Али-Бабы.
– Почему вы не поехали в Москву? – спросил Клайв, не дождавшись, пока Барли наконец освоится с обстановкой. – Вас там ждали. Вы сняли стенд, забронировали билет на самолет и номер в гостинице, но не появились там и ничего не оплатили. А вместо этого уехали с женщиной в Лиссабон. Почему?
– Вы что, предпочли бы, чтобы я приехал сюда с мужчиной? – осведомился Барли. – И какое дело вам или ЦРУ, приехал ли я сюда с женщиной или с бутылкой русской водки?
Он отодвинул стул и сел, демонстрируя скорее протест, чем повиновение.
Клайв кивнул мне, и я исполнил свой обычный номер: встал, обошел этот нелепый стол и положил перед Барли подписку о неразглашении государственной тайны, вынул из кармана жилета внушительную ручку и с похоронной торжественностью протянул ему. Но его глаза были устремлены на какую-то точку вне этой комнаты, что, как я наблюдал и в последующие месяцы, вообще было ему свойственно, – привычка смотреть в собственный сокровенный и тревожный мир, не замечая никого вокруг. А еще вспышки шумной разговорчивости, отгонявшей призраки, которых никто, кроме него, не видел, и беспричинное щелканье пальцами, словно бы означавшее «ну, вот и договорились», хотя, насколько всем было известно, ему ничего не предлагали.
– Вы подпишете? – спросил Клайв.
– А что вы сделаете, если не подпишу? – спросил Барли.
– Ничего. Потому что сейчас, официально и в присутствии свидетелей, я заявляю вам, что этот разговор, как и сама наша встреча тут, являются секретными. Гарри – юрист.
– Боюсь, это так, – сказал я.
Барли отшвырнул неподписанный документ через стол.
– А я заявляю вам, что раструблю об этом со всех крыш, если приспичит, – произнес он не менее спокойно.
Я вернулся на свое место, забрав с собой и свою внушительную ручку.
– В Лондоне вы тоже оставили все в полном беспорядке, – заметил Клайв, возвращая документ в папку. – Кругом долги. Никто не знает, где вы. Толпы рыдающих любовниц. Вы пытаетесь покончить с собой или что?
– Я унаследовал романтическое ристалище, – сказал Барли.
– Что это, собственно, означает? – спросил Клайв, не смущаясь своего невежества. – Модное обозначение порнографии?
– Мой дед нажил себе состояние на романах для горничных. В те времена у людей были горничные. Мой отец переименовал их в «романы для масс» и продолжил традицию.
Только у Боба возникло желание его утешить.
– Черт побери, Барли, – воскликнул он, – что плохого в романтической литературе? Лучше, чем разное дерьмо, которое издают. Моя жена читает такие романы пачками. И никакого вреда они ей не причинили.
– Если вам не нравятся книги, которые вы выпускаете, то почему бы вам не издавать что-нибудь другое? – спросил Клайв, который никогда не читал ничего, кроме служебных документов и правой прессы.
– У меня есть правление, – устало ответил Барли, словно назойливому ребенку. – У меня есть директора. У меня есть семейные акционеры. У меня есть тетки. Им нравится проверенная надежная продукция. «Сделай сам». Любовные истории. Популярные логии. «Птицы Британской империи» или (взгляд на Боба) – «Внутри ЦРУ».
– Почему вы не поехали на московскую аудиоярмарку? – повторил Клайв.
– Тетки восстали.
– Не объясните ли подробнее?
– Я решил протащить в фирму аудиокассеты. Семья узнала и решила, что не допустит этого. Вот и вся история.
– И вы сбежали, – сказал Клайв. – Вы всегда так поступаете, если кто-то идет вам наперекор? Лучше объясните нам, о чем это письмо, – предложил он и, не глядя на Барли, передвинул конверт через стол к Неду.
Но не оригинал. Оригинал находился в Лэнгли и подвергался всем возможным лабораторным проверкам, начиная от отпечатков пальцев и кончая вирусом «болезни легионеров». Факсимильная копия, сделанная по подробным указаниям Неда, вплоть до запечатанного коричневого конверта, надписанного Катиным почерком: «Лично мистеру Бартоломью Скотту Блейру. Срочно», а затем взрезанного ножом для бумаг, чтобы показать, что он был вскрыт. Клайв передал конверт Неду, Нед – Барли. Уолтер поскреб затылок, а Боб взирал на них доброжелательно, как филантроп, внесший свою лепту. Барли покосился на меня, будто решился стать моим клиентом. «Что мне с ним делать? – спрашивал его взгляд. – Прочитать или кинуть им обратно?» Надеюсь, я сохранил непроницаемый вид. Клиентов у меня больше нет. У меня есть Служба.
– Прочитайте его не торопясь, – посоветовал Нед.
– Времени у вас для этого сколько угодно, Барли, – сказал Боб.
Сколько раз за последнюю неделю каждый из нас читал это письмо? – вот о чем я думал, глядя, как Барли рассматривает конверт с обеих сторон, то отодвигая подальше, то поднося к глазам, сдвинув свои очки на лоб, точно мотоциклетные. Сколько мнений выслушивалось и отвергалось? Шесть экспертов в Лэнгли определили, что письмо написано в поезде. В кровати, заключило трое в Лондоне. На заднем сиденье машины. В спешке, шутя, в порыве любви, под действием страха. Женщиной, мужчиной, установили они. Автор – левша, правша. Он привык писать русскими буквами, латинскими, и теми, и другими, ни теми, ни другими.
В заключение комедии они даже посоветовались со стариком Палфри. «По нашему закону об авторском праве само письмо принадлежит получателю, но право на него сохраняется за автором, – сказал я им. – Не думаю, однако, что вас затаскают по советским судам». Не знаю, обеспокоило или успокоило их мое мнение.
– Вы узнаете почерк или нет? – спросил Клайв у Барли.
Засунув длинные пальцы в конверт, Барли наконец выудил письмо – но без особого нетерпения, словно не исключал возможности, что это всего-навсего очередной счет. Помедлил. Снял свои нелепые круглые очки и положил на стол. Потом вместе со стулом отвернулся от всех нас, начал читать и нахмурился. Кончил первую страницу и взглянул на подпись в конце. Затем принялся за вторую страницу и уже без пауз прочел все письмо. Потом прочитал еще раз одним духом – от «Мой любимый Барли» до «Твоя любящая К.». Ревнивым движением положил письмо себе на колени, держа его обеими руками, и склонился над ним так, что (намеренно или случайно) его лицо оказалось скрытым от нас прядью волос, упавшей на лоб, и, о чем бы он ни молился про себя, молитвы эти остались его тайной.
– Она ненормальная, – произнес он куда-то в черноту перед собой. – Чокнутая, тронутая. Ее там даже не было.
Никто не спросил, кто «она» и где это – «там». Даже Клайв понимал, как важно иногда помолчать.
– «К» – значит Катя, сокращение от «Екатерина», насколько я понимаю, – подождав еще немного, пропищал Уолтер. – Отчество – Борисовна. – На нем был косо нацепленный галстук-бабочка, желтый с коричнево-оранжевым узором.
– Не знаю никакой «К», не знаю никакой Кати, не знаю никакой Екатерины, – сказал Барли. – И никакой Борисовны тоже. Никогда не спал с такой, никогда не ухаживал за такой, никогда не делал предложения и даже никогда не был женат на такой. И если меня не подводит память, никогда не был знаком с такой. А впрочем, был.
Они ждали, ждал я, и мы бы прождали всю ночь, и никто бы не кашлянул, не скрипнул стулом, пока Барли рылся в памяти, отыскивая Катю.
– Старая кляча из «Авроры», – подвел Барли итог своим раздумьям. – Хотела всучить мне альбомы русских художников. Я не клюнул. Тетки взвыли бы от ярости.
– Аврора? – спросил Клайв, не зная, то ли это город, то ли государственное агентство.
– Издательство.
– А фамилию ее вы не помните?
Барли покачал головой – лица его все еще не было видно.
– Борода, – сказал он. – Катя и борода. Тридцать градусов в тени.
Сочный голос Боба обладал стереофоничностью и свойством менять смысл слов.
– Прочтите вслух, а, Барли? – предложил он, как старый приятель. – Это освежит вашу память. Попробуйте, Барли.
Барли, Барли, друг всем, кроме Клайва, который всегда, насколько я помню, называл его только «Блейр».
– Да-да, пожалуйста! Прочитайте вслух, – сказал Клайв, превращая просьбу в приказ, и Барли, к моему удивлению, видимо, решил, что это неплохо придумано. Выпрямившись одним гибким движением спины, он устроился таким образом, что и лицо, и письмо оказались на свету. По-прежнему хмурясь, он стал читать вслух, с подчеркнутым удивлением.
– «Мой любимый Барли». – Он отстранил листок и начал снова: – «Мой любимый Барли. Помнишь обещание, которое ты дал мне однажды ночью, когда на даче наших друзей в Переделкино мы лежали на веранде и читали друг другу стихи великого русского мистика, который любил Англию? Ты поклялся мне, что всегда будешь ставить человечество выше наций и что, когда придет день, ты поступишь как порядочный человек».
Он опять смолк.
– Все неправда? – спросил Клайв.
– Я же сказал вам. Я эту бабу не знаю.
В этом отрицании прозвучала сила, какой прежде в голосе Барли не было. Он отталкивал от себя что-то угрожающее.
– «И теперь я прошу тебя выполнить обещание, хотя и не так, как мы себе представляли в ту ночь, когда стали любовниками». Сплошная хреновина, – пробормотал он. – У глупой клячи в голове помутилось. «Прошу тебя показать эту книгу тем людям в Англии, которые думают так же, как мы. Издай ее ради меня, используя аргументы, которые ты с таким жаром приводил. Покажи ее вашим ученым, художникам и интеллигенции и скажи им, что это первая глыба огромной лавины, а следующую они должны сбросить сами. Скажи им, что благодаря недавно обретенной открытости мы можем сообща предотвратить катастрофу и кастрировать чудовище, которое сами создали. Спроси у них, что опаснее для человечества: рабски подчиняться или сопротивляться, как подобает свободным людям. Барли, поступи как порядочный человек. Я люблю Англию Герцена. И тебя. Твоя любящая К.». Кто она, черт возьми? Сбрендила. Вместе с Герценом.
Оставив письмо на столе, Барли прошел в темный конец комнаты, вполголоса ругаясь и взмахивая правым кулаком.
– Что она, черт возьми, затеяла? – возмущенно сказал он. – Взяла и смешала две совершенно разные истории. Ладно, а где книга? – Он вспомнил о нашем существовании и снова повернулся к нам.
– Книга в надежном месте, – произнес Клайв, покосившись на меня.
– Будьте добры, скажите, где она? Она же принадлежит мне.
– По нашему мнению, она скорее принадлежит ее другу, – сказал Клайв.
– Ее поручили мне. Вы видели, что он написал. Его издатель – я. Она моя. У вас на нее нет прав.
Он занял позицию, которая нас меньше всего устраивала. Но Клайв быстро его отвлек.
– Он? – повторил Клайв. – То есть Катя – мужчина? Почему вы говорите «он»? Вы нас путаете. Видимо, вы большой путаник.
Я думал, что взрыв произойдет раньше. Я уже почувствовал, что уступчивость Барли – это перемирие, а не победа, и всякий раз, когда Клайв осаживал его, Барли оказывался все ближе и ближе к бунту. Поэтому, когда Барли неторопливо подошел к столу, прислонился к нему и вяло поднял руки ладонями наружу, что вполне могло выражать покорную беспомощность, я отнюдь не ожидал, что он ответит Клайву благоразумно и вежливо. Но на такой взрыв даже я не рассчитывал.
– Вы, черт возьми, не имеете никакого права! – заорал Барли прямо в лицо Клайву и так ударил ладонями по столу, что мои бумаги подпрыгнули. Из прихожей влетел Брок, и Неду пришлось отослать его назад. – Это моя рукопись. Ее прислал мне мой автор. На мое усмотрение. Вы не имеете никакого права красть ее, читать или оставлять себе. А поэтому отдайте мне книгу и отправляйтесь на ваш поганый остров. – Он махнул рукой в сторону Боба: – И вашего бостонского брамина заберите с собой!
– Это и ваш остров, – напомнил ему Клайв. – Книга, как вы ее называете, вовсе не книга, а права на нее нет ни у вас, ни у нас, – бесстрастно продолжал он, уклоняясь от истины. – Меня совершенно не интересует ваша драгоценная издательская этика. Так же, как и всех, здесь присутствующих. Нам известно только, что указанная рукопись содержит военные секреты Советского Союза, которые – при условии, что в ней все верно, – имеют жизненно важное значение для оборонной стратегии Запада. К которому, я полагаю, принадлежите и вы. Как бы вы поступили на нашем месте? Отмахнулись бы от нее? Выкинули бы в море? Или постарались бы выяснить, почему ее послали захудалому английскому издателю?
– Он хочет, чтобы ее издали! Чтобы я ее издал! А не чтобы она сгинула в ваших сейфах!
– Совершенно верно, – сказал Клайв и снова покосился на меня.
– Рукопись была официально конфискована и засекречена, – сказал я. – Она не подлежит разглашению так же, как данное совещание. И даже больше. – Мой старый наставник в правоведении перевернулся бы в гробу и, боюсь, не в первый раз. А вообще, просто поразительно, чего может добиться юрист, если никто вокруг не знает законов.
Минута четырнадцать секунд – вот сколько времени на пленке длилась тишина. Нед засек время секундомером, когда вернулся в Русский Дом. Он поджидал это место, даже предвкушал его, однако все же испугался, что это дефект записи, что магнитофон, как это нередко случается, закапризничал в самый ответственный момент. Но, прислушавшись, он уловил отдаленное рыканье машины, обрывок девичьего смеха, долетевший в окно, – к тому времени Барли уже отдернул занавески и уставился вниз на площадь. Иначе говоря, целую минуту и четырнадцать секунд мы созерцали необыкновенно выразительную спину Барли, вырисовывающуюся на фоне ночного Лиссабона. Потом раздается ужасающий звон, будто вдребезги разбилось несколько оконных стекол сразу, а после – шум водопада. Вполне можно было бы предположить, что Барли наконец-то вырвался на свободу, увлекая за собой португальские настенные тарелки и вычурные цветочные вазы. В действительности же весь этот шум возник только потому, что Барли обнаружил столик с напитками, бросил в хрустальный стакан три кубика льда и плеснул на них приличную порцию виски – всего в нескольких дюймах от микрофона, который Брок, с его неистребимой страстью к перестраховке, укрыл за одной из резных деревянных филенок.
* * *
Глава 4
Он устроился в самом дальнем углу на жестком стуле боком к нам и наклонился над стаканом с виски, держа его обеими руками, вглядываясь в него, как великий мыслитель или, на худой конец, как мыслитель одинокий. Говорил он не с нами, а сам с собой, горячо и с глубоким презрением, почти не шевелясь и лишь иногда прихлебывая виски или дергая головой в подтверждение ему одному ведомых и в основном отвлеченных моментов своего рассказа. Он говорил с той смесью педантичности и неверия, с какой люди пытаются воссоздать какой-нибудь ужасный случай – смерть или автомобильную катастрофу: «Я, значит, стоял здесь, а вы там, а он вывернул вот оттуда».
– На последней Московской книжной ярмарке. В воскресенье. В воскресенье не перед ярмаркой, после нее, – объяснил он.
– В сентябре, – подсказал Нед, и Барли, повернув голову, пробормотал «спасибо», будто и в самом деле был благодарен, что его подгоняют. Потом сморщил нос, нервно поправил очки и продолжал.
– Мы были измотаны, – сказал он. – Большинство участников отбыло еще в пятницу. Нас осталось всего ничего. Те, кто еще не разделался с подписанием контрактов или же просто не торопился домой.
Он был обаятелен и занимал центр сцены. Трудно было не почувствовать к нему симпатию – ведь он был там совсем один. Трудно было удержаться от мысли: «Только по милости божьей туда идет он, а не я». Тем более что никто из нас не знал, куда он идет.
– В субботу вечером мы напились, а в воскресенье всей компанией поехали в Переделкино в машине Джумбо. – И снова он словно бы должен был напомнить себе, что рассказывает это другим. – Переделкино – дачный поселок советских писателей, – объяснил он, будто никто из нас даже названия этого не слышал. – Дачи предоставляются им в пользование, пока они хорошо себя ведут. Союз писателей предоставляет все только своим членам – кто-то получает дачу, кто-то пишет лучше всего в тюрьме, а кто-то не пишет вовсе.
– А кто такой Джумбо? – перебил Нед (редкий случай!).
– Джумбо Олифант. Питер Олифант. Председатель правления «Люпус букс». Замаскированный шотландский фашист. Высокого ранга масон. Убежден, что нашел с Советами общий язык. Золотая карточка. – Вспомнив о Бобе, он повернул к нему голову: – Нет, не «Америкэн экспресс». А золотая карточка Московской книжной ярмарки, выданная русскими организаторами и свидетельствующая, какая он важная птица. Бесплатная машина, бесплатный переводчик, бесплатная гостиница, бесплатная икра. Джумбо родился не с серебряной ложкой, а с золотой карточкой во рту.
Боб ухмыльнулся слишком уж широко, показывая, что принял шутку как надо. Вообще-то сердце у него было доброе, и Барли уловил это. Мне пришло в голову, что Барли принадлежит к тем людям, которые всегда распознают доброту, – сам он тоже не был способен скрыть собственную мягкость.
– Ну, мы и поехали всем скопом, – продолжил Барли, возвращаясь к своим воспоминаниям. – Олифант из «Люпуса», Эмери из «Бодли хед». И девица из «Пенгуина», не помню, как ее зовут. Впрочем, нет – Магда! Черт подери, как это я мог забыть такое имя – Магда? И Блейр из «А. и Б.».
– Ехали, как набобы, в дурацком лимузине Джумбо, – вспоминал Барли, выбрасывая из сундука памяти короткие фразы, точно старую одежду. – Обыкновенная машина нашему Джумбо не подходит, ему подавай здоровенную «Чайку» с будуарными занавесочками, без тормозов, со страхолюдным шофером, у которого изо рта воняет. Мы задумали взглянуть на дачу Пастернака, поскольку ходили слухи, что ее должны вскоре превратить в музей, хотя, по другим слухам, эти сукины дети решили попросту ее снести. Ну, и на его могилу заодно. Джумбо Олифант не сразу понял, что это еще за Пастернак, но Магда шепнула ему: «Живаго», а Джумбо видел фильм, – объяснил Барли.
Они никуда не спешили, все, что им было нужно, – немного прогуляться и подышать деревенским воздухом. Но шофер Джумбо понесся по особой полосе, предназначенной для государственных лихачей в «Чайках», поэтому вместо часа они добрались туда за десять секунд, остановились в луже и пошлепали вверх по склону к кладбищу, все еще дрожа от благодарности за такую гонку.
– Кладбище на холме среди деревьев. Шофер остался в машине. Шел дождь. Несильный, но он испугался за свой поганый костюм. – Барли умолк, словно пораженный чудовищным поведением водителя. – Сумасшедшая горилла, – буркнул он.
У меня было ощущение, что Барли злился на себя, а не на шофера. Мне казалось, что я слышу целый самообвиняющий хор внутри Барли, и я пытался понять, слышат ли его другие. Внутри его прятались разные люди, которые действительно сводили его с ума.
Волей случая, объяснил Барли, они попали туда в день, когда освобожденные массы явились на кладбище дружными толпами. Прежде, по его словам, там всегда было пустынно – только огороженные решетками могилы да деревья, от которых бросает в дрожь. Но в то сентябрьское воскресенье, когда в воздухе витали непривычные запахи свободы, у могилы собрались сотни две самых разномастных поклонников (когда настало время уходить, число их заметно увеличилось). Барли сказал, что могила утопала в цветах, и груда их росла и росла. Букеты передавали через головы.
Потом началось чтение. Низенький замухрышка читал стихи. Крупногабаритная девица – прозу. Но тут паршивый самолетик пролетел над кладбищем так низко, что заглушил всех. Затем полетел обратно. И снова вернулся.
– Уы-ы-ы! – завыл Барли, взмахивая длинными кистями. – Иу-у-у! – загундосил он с отвращением.
Но самолет так же, как и дождь, не мог угасить энтузиазм толпы. Кто-то запел, толпа подхватила припев, и наконец самолет убрался, – видимо, горючее у него было на исходе. Но ощущение тогда было совсем другое, сказал Барли, ну, совершенно. Казалось, песня смела этого подлеца с неба.
Пение становилось все громче, сильнее и мистичнее. Барли знал по-русски три слова, другие не знали ни одного. Что не помешало им запеть со всеми. А Магде – выплакать все глаза. А Джумбо Олифанту – с комком в горле громогласно поклясться, когда они спускались с холма, что он издаст все написанное Пастернаком до последнего слова, – и не только фильм, но и все остальное, провалиться ему на этом месте, и субсидирует издание из своего кармана, как только вернется в свой обшитый атласом замок в краю доков.
– У Джумбо случаются такие приступы пылкого энтузиазма, – объяснил Барли с обезоруживающей улыбкой, возвращаясь к своим слушателям, но главным образом к Неду. – Иногда они длятся дольше минуты. – Он смолк, снова нахмурился, снял свои нелепые круглые очки, которые, казалось, не помогали, а мешали смотреть, и по очереди прищурился на каждого из нас, словно стараясь вспомнить, где он и что с ним происходит.
Они еще не спустились с холма, сказал он, и все еще плакали, когда к ним подскочил тот же замухрышка и, держа сигарету около лица, как свечку, спросил их по-английски, не американцы ли они.
И снова Клайв опередил всех нас. Его голова медленно поднялась. В начальственном голосе зазвучал металл:
– Тот же? Какой «тот же замухрышка»? Такого не было.
Барли, после столь неприятного напоминания о присутствии Клайва, вновь с отвращением сморщился.
– Тот, который читал стихи, разве не ясно? – сказал он. – Стихи Пастернака у могилы. Он спросил, не американцы ли мы. Я ответил, что нет, слава богу, англичане.
И тут я заметил, как, вероятно, и остальные, что Барли говорил от имени их всех, – не Олифант, Эмери или Магда, а Барли.
Теперь Барли воспроизводил разговор дословно. Слух у него был как у дрозда-пересмешника: русский акцент – для Замухрышки, шотландское тявканье – для Олифанта. Он имитировал их манеру говорить очень естественно, словно не замечал.
– Вы писатели? – спросил Замухрышка голосом, которым наделил его Барли.
– Увы, нет. Всего лишь издатели, – ответил Барли своим голосом.
– Английские издатели?
– Мы приехали на Московскую книжную ярмарку. У меня угловой стендик, под вывеской «Аберкромби и Блейр», а это сам председатель правления «Люпус букс». Очень богатый тип. Обязательно получит к своему имени титул «сэр». Имеет золотую карточку и бесплатный доступ в бар. Все верно, Джумбо?
Олифант заявил, что Барли болтает много лишнего. Но Замухрышка требовал еще и еще.
– А можно поинтересоваться в таком случае, что привело вас к могиле Пастернака? – спросил он.
– Мы попали туда случайно, – вновь вмешался Олифант. – Абсолютно случайно. Увидели толпу и подошли узнать, что происходит. Чистая случайность. Идемте.
Но Барли не собирался уходить. Его разозлил тон Олифанта, сказал он, и молча смотреть, как жирный шотландский миллионер отмахивается от тощенького русского, он не собирался.
– Нас привело то же, что и всех остальных, – ответил Барли. – Мы пришли поклониться великому писателю. И нам понравилось, как вы читали. Очень трогательно. Великолепная вещь. Первоклассная.
– Вы уважаете Бориса Пастернака? – спросил Замухрышка.
И снова вклинился Олифант, великий борец за гражданские права, которого Барли наделил хриплым голосом и перекошенным ртом:
– У нас нет определенной позиции по отношению к Борису Пастернаку или любому другому советскому писателю, – сказал он. – Мы здесь гости. Только гости. У нас нет никакого мнения о внутренних делах Советского Союза.
– Мы считаем, что он замечательный поэт, – сказал Барли. – Мирового масштаба. Звезда.
– А почему? – осведомился Замухрышка, провоцируя конфликт.
Барли и просить не надо было. Пусть он вовсе не был стопроцентно убежден, что Пастернак действительно такой уж гений, каким его объявляют, сказал он. Пусть он, наоборот, полагал, что Пастернака сильно перехваливают. Это было мнение издателя, а здесь шла война.
– Мы уважаем его талант и его творчество, – ответил Барли. – Мы уважаем его гуманность. Мы уважаем его семью и его высочайшую культуру. И в-десятых, или в каких там еще, мы уважаем его способность трогать русские сердца, хотя его и затравила свора оголтелых бюрократов – возможно, тех же самых сволочей, которые наслали на нас этот самолет.
– А вы можете его процитировать? – спросил Замухрышка.
Барли смущенно объяснил нам, что память у него очень цепкая.
– Я прочитал ему первое четверостишие «Нобелевской премии». Я решил, что оно удивительно уместно после полетов этого гнусного самолета.
– Пожалуйста, прочтите его нам, – сказал Клайв таким тоном, словно проверке подлежало решительно все.
Барли забормотал, и мне пришло в голову, что на самом деле он очень застенчив:
Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони.
Мне наружу хода нет.
Замухрышка слушал и, хмурясь, сосредоточенно смотрел на горящую сигарету, сказал Барли, и на миг ему показалось, что они действительно нарвались на провокацию, как опасался Олифант.
– Если вы так уважаете Пастернака, так почему бы вам не пойти со мной и не познакомиться с моими друзьями? – предложил Замухрышка. – Мы писатели. И у нас здесь дача. Для нас будет большой честью побеседовать с известными английскими издателями.
Стоило Олифанту услышать первую часть его речи, как с ним чуть родимчик не приключился, сказал Барли. Джумбо досконально знал, что значит принимать приглашения незнакомых русских. Он был в этих делах просто эксперт. Он знал, как они заманивают человека в ловушку, одурманивают наркотиком, шантажируют непристойными фотографиями, вынуждают вас уйти с поста председателя правления и оставить вся – кую надежду на титул баронета. К тому же он как раз вел переговоры с ВААПом о престижных совместных изданиях и вовсе не хотел, чтобы его видели в обществе нежелательных элементов. Олифант прогремел все это на ухо Барли таким театральным шепотом, будто считал, что Замухрышка глух как пень.
– И в любом случае, – торжествующе закончил Олифант, – льет дождь. И сколько может ждать машина?
Олифант посмотрел на часы. Девица Магда посмотрела себе под ноги. Молодчик Эмери посмотрел на девицу Магду и подумал, что это еще далеко не самое худшее, чем можно занять в Москве вторую половину воскресенья. Но Барли, по его словам, еще раз взглянул на незнакомца и решил, что тот ему нравится. Ни на девицу, ни на приставку «сэр» к своему имени он не претендовал. Он уже решил, что предпочтет, чтобы его сфотографировали голым с любым числом русских шлюх, чем одетым, но под руку с Джумбо Олифантом. Поэтому он отправил их восвояси в лимузине Джумбо, а сам остался с незнакомцем.
– Нежданов, – внезапно объявил Барли безмолвной комнате, сам себя перебивая. – Я запомнил его фамилию. Нежданов. Драматург. Руководил одним из театров-студий, ни одной из своих пьес поставить не мог.
Заговорил Уолтер. Его высокий голос нарушил внезапное затишье.
– Дорогой мой мальчик, Виталий Нежданов – новейший герой дня. Через пять недель у него в Москве три премьеры одноактных пьес, и все возлагают на них самые невероятные надежды. Не то чтобы он хоть чего-нибудь стоил, но об этом нам упоминать не разрешается, ибо он диссидент. То есть был им.
Впервые с тех пор, как я увидел Барли, его лицо стало неизъяснимо счастливым, и у меня возникло чувство, что наконец-то передо мной он настоящий, не скрытый облаками.
– Нет, это замечательно! – с искренним удовольствием воскликнул он, как человек, способный радоваться успеху другого. – Фантастика! Как раз то, что требовалось Виталию. Спасибо, что сказали, – произнес он, внезапно молодея.
Потом его лицо снова потемнело, и он начал прихлебывать виски маленькими глоточками.
– Ну вот, так мы все и собрались, – не слишком понятно пробормотал он. – Чем больше, тем веселее. Познакомьтесь с моей двоюродной сестрой. Возьмите колбаски. А его глаза, я заметил, как и его слова, утратили ясность, устремились вдаль, как будто он уже готовился к тяжелому испытанию.
Я обвел взглядом стол. Улыбающийся Боб. Боб будет улыбаться и на своем смертном одре, но с прямотой старого бойскаута. Клайв в профиль: лицо как лезвие топора и примерно столь же глубокомысленное. Уолтер – в вечном движении: откинув умную голову, Уолтер накручивает на гибкий указательный палец прядь волос, ухмыляется, глядя на резной потолок, ерзает и исходит потом. И Нед, лидер, – способный, изобретательный Нед, Нед – полиглот и воин, умеющий действовать и планировать, он сидит, как сел вначале, готовый к бою, и ждет сигнала атаки. Некоторые люди несут в себе проклятие вечного служения, размышлял я, глядя на него, – ведь неизбежен день, когда служить им будет нечему.
* * *
Большой, несуразный дом, продолжал Барли все в том же телеграфном стиле. Обшит деревом. Вроде английских загородных домов начала века. Резные веранды, заросший сад, березовая роща. Подгнившие скамейки, пылающие поленья, запах крикетного поля в дождливый день, плющ. Человек тридцать, в основном мужчины, сидят и стоят в саду, жарят, пьют, не обращая внимания на дождь, совсем как англичане. Вдоль дороги – жуткие драндулеты, совсем как английские машины до того, как самодовольные тэтчеровские свиньи взяли на абордаж государственный корабль. Приятные лица, выразительные голоса – литературная номенклатура. Входит Нежданов, ведя за собой Барли. Никто даже головы не повернул.