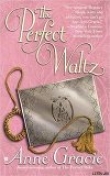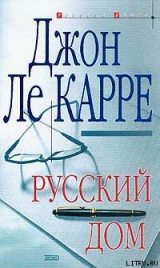
Текст книги "Русский Дом"
Автор книги: Джон Ле Карре
Жанр:
Шпионские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
Глава 9
– Новые американцы Клайва – это что? – вполголоса осведомился я у Неда, когда мы, точно верующие к заутрене, собрались вокруг броковского магнитофона в оперативном кабинете.
Лондонские часы показывали шесть. Виктория-стрит еще не разразилась утренним рыком. Брок перематывал ленту, и катушка попискивала, как хор птенцов. Ее полчаса назад привез курьер: она прибыла диппочтой в Хельсинки и на специальном самолете была доставлена в Нортхолт. Если бы Нед прислушался к сладкой песне технических сирен, мы могли бы заметно сэкономить на этой дорогостоящей процедуре; ведь маги и волшебники Лэнгли носились с новой штучкой, гарантировавшей полную безопасность устных сообщений. Но Нед не был бы Недом, если бы не предпочел собственные проверенные способы.
Он сидел за своим столом и расписывался на документе, загораживая его ладонью. Потом сложил его и сунул в конверт, который собственноручно заклеил, прежде чем отдать Высокой Эмме, одной из своих помощниц. К этому моменту я уже перестал ждать ответа на свой вопрос и даже растерялся, когда он рявкнул:
– Вонючие мародеры!
– Из Лэнгли?
– Бог ведает. Служба безопасности.
– А чья? – не сдавался я.
Он только злобно мотнул головой. Из-за документа, который сейчас подписал? Или из-за американских прилипал? Их было двое. Под водительством Джонни, из их лондонского пункта. Темно-синие блейзеры, короткая стрижка, чистенькие, как мормоны, даже до противности. Клайв встал между ними, но Боб демонстративно уселся в дальнем углу рядом с зябко нахохлившимся Уолтером (слишком рано пришлось встать, подумал я в тот момент). Их присутствие даже Джонни выбило из колеи, как тотчас же и меня. Эти тусклые непривычные лица, совершенно неуместные в нашей операции, да еще в столь решающий момент. Будто плакальщики заблаговременно явились проводить в последний путь еще не скончавшегося покойника. Но только вот – кого? Я вновь посмотрел на Уолтера, и на душе у меня стало еще тревожнее.
Я опять перевел взгляд на новых американцев, таких худощавых, таких аккуратных, таких безликих. Служба безопасности, сказал Нед. Но с какой стати? И почему именно теперь?
Почему они обозрели всех, кроме Уолтера? Почему Уолтер смотрел на всех, но только не на них? И почему Боб сел в стороне, а Джонни все рассматривает и рассматривает собственные ладони? Я с облегчением отвлекся от своих мыслей. Мы услышали грохот шагов по деревянной лестнице. Это Брок включил воспроизведение. Мы услышали лязг и ругань Барли, задевшего спиной край люка. И снова шарканье их подошв, уже по железу крыши.
Спиритический сеанс, подумал я, когда до нас донеслись их первые слова: Барли и Катя говорили с нами из потусторонности. Застывшие чужаки с лицами палачей были забыты.
Наушники были только у Неда. А они многое добавляли, как я убедился, когда позднее сам их надел. В них было слышно и как московские голуби переступают по гребню крыши, и шелест дыхания в Катином голосе. Было слышно, как бьется сердце твоего джо – в микрофонах на его теле.
Брок проиграл всю сцену на крыше, и только тогда Нед объявил перерыв. Равнодушными остались одни лишь наши новые американцы. Их карие взгляды скользнули по нашим лицам и ни на ком не задержались. Уолтер стыдливо краснел.
Брок проиграл сцену ужина, но никто не шевельнулся: ни вздоха, ни скрипа стула, ни единого хлопка, даже когда он остановил катушку и перемотал ленту.
Нед снял наушники.
– Яков Ефремович. Фамилия неизвестна, физик, в шестьдесят восьмом ему было тридцать, следовательно, родился в тридцать восьмом, – объявил он, выхватывая из стопки на столе розовый бланк запроса и начиная писать на нем. – Уолтер, есть предложения?
Уолтер заставил себя собраться. Он выглядел донельзя расстроенным, и его голос утратил обычную кипучесть.
– Ефрем, советский ученый, отчество и фамилия неизвестны, отец Якова Ефремовича, смотри выше, расстрелян в Воркуте после восстания весной пятьдесят второго, – отбарабанил он, не заглянув в блокнот. – Вряд ли так уж много ученых Ефремов казнили за переизбыток интеллектуальности даже в дни любимого Сталина, – закончил он как-то жалобно.
Глупо, конечно, но мне у него на глазах померещились слезы. Может быть, кто-то действительно скончался, подумал я, покосившись на наших двух мормонов.
– Джонни? – сказал Нед, продолжая писать.
– Нед, мы берем Бориса, отчество и фамилия неизвестны, вдовец, профессор каких-то гуманитарных наук в Ленинградском университете, около семидесяти лет, единственная дочь Екатерина, – сообщил Джонни своим ладоням.
Нед выхватил другой бланк, заполнил его и, словно щедрую милостыню, бросил на поднос для исходящих бумаг.
– Палфри! Хотите включиться в игру?
– Оставьте за мной ленинградские газеты, хорошо, Нед? – сказал я со всей легкостью, на какую был способен, учитывая, что мормоны обратили на меня всю силу своего карего взгляда. – Меня интересуют участники и победители математической олимпиады пятьдесят второго года, – сообщил я под общий смех. – А для гарантии не подбросите ли еще и пятьдесят первый, и пятьдесят третий? А может быть, и последующие – на его академические лавры? Она же сказала: «Он стал кандидатом наук, доктором наук. И всем прочим». Так нам можно взять это? Благодарю вас.
Когда все обязанности были поделены, Нед свирепо поискал взглядом Эмму, чтобы она отнесла запросы в архив. Но Уолтера это не устроило, внезапно он решил заявить о себе, вскочил и решительно двинулся к столу Неда – выпрямившись во весь свой крошечный рост, взмахивая ручонками.
– Все розыски я беру на себя, – объявил он слишком уж величественно и прижал розовую пачку к груди. – Эта война столь важна, что ее нельзя оставлять на попечение наших голубоволосых архивных генеральш, как они ни неотразимы.
Я заметил, что наши мормоны следили за ним, пока он не скрылся за дверью, а потом уставились друг на друга, а мы слушали, как его веселые каблучки дробно стучат, удаляясь по коридору. И не думаю, что мне задним числом чудится, как похолодела кровь у меня в жилах от страха за Уолтера, хотя я тогда и не понял – почему.
* * *
– Подышим деревенским воздухом, – час спустя предложил мне Нед по внутреннему телефону, когда я только-только успел водвориться за свой стол в Управлении. – Скажите Клайву, что вы мне нужны.
– Так поезжайте, в чем, собственно, дело? – разрешил Клайв, уединившийся со своими мормонами.
Мы взяли из служебного гаража быстроходный «Форд». Машину вел Нед. Отмахнувшись от моих не слишком рьяных попыток завязать разговор, он вручил мне папку для ознакомления. За стеклами уже замелькали сельские пейзажи Беркшира, но Нед все так же отмалчивался. А когда ему позвонил Брок и подтвердил что-то, о чем он запрашивал, Нед только буркнул: «Так скажите ему», – и опять погрузился в свои мысли.
Мы находились в сорока милях от Лондона на самой гнусной из планет, открытых человеком. В трущобах современной науки, где трава всегда аккуратно подстригается. На старинных воротах возлежали изъеденные климатом львы из песчаника. Дверцу Неда открыл любезный мужчина в коричневой спортивной куртке. Его товарищ пошарил детектором под шасси. С той же любезностью они быстро пробежали ладонями по нашим фигурам.
– «Дипломат» берете с собой, джентльмены?
– Да, – сказал Нед.
– Не пожелаете ли его открыть?
– Нет.
– А поставить его в ящик можно, джентльмены? Полагаю, неэкспонированных пленок там не имеется, сэр?
– Хорошо, поставьте его в ящик, – сказал я.
Мы смотрели, как они погрузили «дипломат» в подобие зеленого бункера для угля и вновь его оттуда извлекли.
– Благодарю вас, – сказал я, забирая «дипломат».
– Не стоит благодарности, сэр. Был рад помочь.
Синий пикап объявил: «Следуй за мной». Сквозь его заднее забранное решеткой стекло на нас хмурилась немецкая овчарка. Створки ворот автоматически открылись – за ними лежали кучки срезанной травы, точно заросшие бурьяном бугры общих могил. Бутылочно-зеленые холмы уходили в закат. Грибовидное облако выглядело бы тут удивительно уместным. Мы въехали в парк. Пара ястребов кружила в безоблачном небе. За высокой проволочной изгородью тянулись луга. В уютных выемках прятались бездымные кирпичные здания. Указатель настойчиво призывал не входить в зоны от «Д» до «К» без защитного костюма. Череп над скрещенными костями провозглашал: «Вы предупреждены!» Пикап двигался перед нами с похоронной скоростью. Мы скорбно выехали за поворот и увидели пустые теннисные корты и алюминиевые башни. По сторонам ползли разноцветные трубы, направляя нас к скоплению зеленых сараев. В центре их на вершине холма виднелся последний обломок доатомного века – беркширский коттедж из кирпича и мелкозернистого песчаника. Калитку украшала надпись: «Администратор». Навстречу нам по выложенной плитками дорожке спешил дюжий мужчина в блейзере, зеленом, как камзол жокея, представляющего Англию на международных скачках. По галстуку рассыпаны золотые теннисные ракетки, за манжету засунут носовой платок.
– Вы из фирмы. Отлично, отлично. Я О'Мара. Кто из вас кто? Он будет прохлаждаться в лаборатории, пока мы его не свистнем.
– Прекрасно, – сказал Нед.
У О'Мары были светлые с проседью волосы и зычный голос сержанта, но со спиртной надтреснутостью. Опухшая шея и пальцы атлета с пятнами цвета мореного дуба от никотина. («О'Мара держит долгогривых ученых в узде, – сообщил мне Нед во время одной из редких вспышек разговора по дороге сюда. – Наполовину кадровик, наполовину охранник, а в целом дерьмо».)
Гостиную как будто бы все еще убирали французские пленные эпохи Наполеоновских войн. Даже кирпичи в камине были отчищены, а полоски известки между ними любовно прочеркнуты белой краской. Мы сидели в креслах с узорами из роз, пили джин с тоником и большим количеством льда. Медные бляхи конской сбруи подмигивали нам с глянцевитых черных балок.
– А я только что из Штатов, – сообщил О'Мара, словно поясняя, почему мы последнее время не виделись. Он поднял свой бокал, нагибая к нему голову, так что перехватил его на полпути. – Вы, ребята, туда часто ездите?
– Иногда, – ответил Нед.
– Случается, – ответил я. – По зову долга.
– Мы, собственно, отправляем туда немало наших, взаймы. Оклахома, Невада, Юта. Многие только рады. Ну, а кое-кто пугается и сбегает домой. – Он пил медленными и обстоятельными глотками. – Посетили их военную лабораторию в Ливерморе, ну, в Калифорнии. Место приятное. Гостиница вполне приличная. Денег не жалеют. Пригласили нас на семинар по смерти. Если подумать, так жуть берет, но психоложцы постановили, что это всем только на пользу. А уж вина были – на редкость! «Собираясь предать пламени порядочный кус человечества, уясни по крайней мере, на что это похоже». – Он снова приложился к бокалу. Да и куда было торопиться? Вершина холма в этот час казалась удивительно тихим местом. – Просто поразительно, сколько их ни о чем таком никогда не задумывались. Особенно молодые. Старички – те поконфузливее. Они еще помнят век невинности, если таковой вообще существовал. Если погибнешь сразу, то – мгновенный летальный исход, а если постепенно, то отдаленный. Мне и в голову не приходило. Начинаешь по-новому ценить, что ты, так сказать, в центре событий. Ну, а с другой стороны, уже до четвертого поколения дело дошло. Острота как-то попритупилась. А вы, ребята, в гольф играете?
– Нет, – ответил Нед.
– Боюсь, что нет, – ответил я. – Даже брал уроки, но без толку.
– Хорошее тут поле, но играющие обязаны передвигаться на картах, а я лучше в гроб лягу, чем сяду в эту дрянь. – Он снова отпил все с той же ритуальной обстоятельностью. – Уинтл с приветом, – объяснил он, завершив последний глоток. – Они тут все с приветами, но уж Уинтл каждому сто очков вперед даст. Обсосал социализм, обсосал Христа, а теперь взялся за созерцание и тайцзи[15]15
Полностью: тайцзиюань – китайская гимнастика
[Закрыть]. Благодарение богу, хоть женат. Кончал обычную школу, но выговор приличный. Ему еще три года осталось.
– Что вы ему сказали? – спросил Нед.
– Им всегда мерещится, будто они под подозрением. Я сказал, что его ни в чем не подозревают, и еще сказал, чтобы он потом держал свою идиотскую пасть на запоре.
– И, по-вашему, он будет молчать? – спросил я.
О'Мара мотнул головой.
– Этого они не умеют, почти никто, вбивай им в голову, не вбивай.
В дверь постучали, и вошел Уинтл, вечный студент пятидесяти семи лет. Высокий, но ссутуленный, так что курчавая седая голова выдавалась над плечами вперед, и полный почти угасшего интеллектуального блеска. На нем – вязаная безрукавка, широкие брюки по былой оксфордской моде и сандалии. Он сидел, сдвинув колени, а рюмку с хересом держал на отлете, словно реторту, которая неизвестно как себя поведет.
Нед тотчас стал профессионалом. Свой сплин он на время отложил.
– Наша обязанность – следить за советскими учеными, – объяснил он, умудрившись придать этому занятию оттенок зеленой скуки. – Мы следим за передвижением фишек в их оборонном комплексе. Боюсь, ничего пикантного.
– А, так вы разведка! – сказал Уинтл. – Я так и подумал, хотя и промолчал.
Мне почудилось, что он на редкость одинок.
– На хрена вам знать, кто они, – ласково объяснил ему О'Мара. – Англичане они и занимаются своим делом, как вы – своим.
Нед выудил из папки пару отпечатанных на машинке листов и протянул Уинтлу, и тот поставил рюмку, чтобы их взять. Его кисти имели обыкновение повисать, а пальцы скрючивались, как у человека, который умоляет, чтобы его отпустили.
– Нам надо поднять кое-какой старый, убранный на полку материал, – сказал Нед, переходя на профессиональный жаргон, которого обычно избегал. – Это резюме вашего опроса, когда вы вернулись из Академгородка в шестьдесят третьем году. Вы помните некоего майора Воксхолла? Литературным шедевром это не назовешь, но вы упомянули фамилии двух-трех советских ученых, о которых мы с благодарностью выслушали бы все, что можно, если они еще функционируют и вы их помните.
Словно защищаясь от газовой атаки, Уинтл водрузил на нос на редкость безобразные очки в стальной оправе.
– Если мне не изменяет память, майор Воксхолл дал слово чести, что только от меня зависит, буду ли я говорить, и что беседа наша строго конфиденциальна, – дидактически пробубнил он. – Поэтому я весьма удивлен, обнаружив, что моя фамилия и сказанное мной валяются в открытых министерских архивах двадцать пять лет спустя.
– Другого бессмертия вам, приятель, пожалуй, не дождаться, так что прикусили бы язык да радовались, – посоветовал О'Мара.
Тут вмешался я, точно разводя сцепившихся родственников. Не может ли Уинтл пополнить слишком уж сухие записи его собеседника? Добавить немножко плоти и крови одному-двум советским ученым, чьи фамилии наряду с другими перечислены на последней странице? И, пожалуй, заодно пролить некоторый свет на кембриджскую бригаду? Не согласится ли он ответить на один-два вопроса, которые, возможно, перевесят чашу весов?
– Бригада, прошу учесть, отнюдь не тот термин, который употребил бы в такой связи я, – возразил Уинтл, набрасываясь на это слово, как отощалый хищник. – Во всяком случае, если речь идет об англичанах. Бригада подразумевает единую цель. Мы были кембриджской группой, не спорю. Но никак не бригадой. Некоторым просто захотелось проветриться, другим – самовозвеличиться. В первую очередь это относится к профессору Коллоу, который имел весьма преувеличенное мнение о своем подходе к проблеме ускорителей, с тех пор отвергнутом. – Тут бирмингемский выговор Уинтла вырвался наружу. – И всего лишь горсткой действительно руководили идеологические убеждения. Они верили в науку без границ. В свободный обмен знаниями для блага всего человечества.
– Вонючки, – любезно пояснил нам О'Мара.
– Среди нас были французы, множество американцев, шведы, голландцы и один-два немца, – продолжал Уинтл, не замечая шпильки О'Мары. – У всех у них, по-моему, была надежда, а уж у русских ее было хоть отбавляй. Это мы, британцы, еле волочили ноги. Как и сейчас.
О'Мара застонал и подкрепился джином. Но мягкая улыбка Неда, хотя и чуть поувядшая по краям, подвигла Уинтла на дальнейшие воспоминания.
– Это был расцвет хрущевской эры, как вы, без сомнения, помните. Кеннеди – на этой стороне, Хрущев – на той. Впереди – золотой век, пророчествовали некоторые. Люди в те дни говорили о Хрущеве, ну, совсем как теперь о Горбачеве. Хотя, по-моему, наш энтузиазм тогда был более искренним и непосредственным, чем так называемый энтузиазм теперь.
О'Мара зевнул, и его глаза бесцеремонно уставились из своих мешков на меня.
– Мы сообщали им о том, что открыто нами. А они – что открыто ими, – говорил Уинтл, и голос его набирал уверенность. – Мы читали наши доклады. Они читали свои. Должен сказать, Коллоу сел в лужу. Его они разгромили в один момент. Но у нас был Пэнсон с кибернетикой – он утвердил флаг на вершине, и у нас был я. Моя скромная лекция имела большой успех, хотя не мне об этом упоминать. Честно говоря, таких оваций мне с тех пор вообще слышать не доводилось. Не удивлюсь, если они там все еще об этом вспоминают. Баррикады рушились с такой стремительностью, что в зале буквально слышно было, как они трещат. «Слияние в единый поток!» – таков был наш лозунг. «Поток», впрочем, тоже не то слово. Посмотрели бы вы, сколько водки лилось на вечерних сборищах! Или увидели бы приглашенных девушек! Или послушали бы разговоры! КГБ их, конечно, слушал. Но об этом нам было известно все. Перед отъездом туда с нами побеседовали, хотя некоторые и возражали. Но не я – я патриот. Только никто тут ничего поделать не мог, ни их КГБ и ни наш. – Видимо, он дорвался до любимой темы, потому что выпрямился, готовясь произнести давно затверженную речь. – Мне бы хотелось добавить сейчас и здесь, что, по-моему, об их КГБ судят очень превратно. Мне известно из надежного источника, что советский КГБ очень часто брал под свое крыло некоторые из наиболее терпимых элементов советской интеллигенции.
– О, черт! Только не говорите мне, что наш этого не делал! – сказал О'Мара.
– Далее, я нисколько не сомневаюсь, что советские власти совершенно справедливо указывали, что при любом обмене научными сведениями с Западом Советский Союз приобретает больше, чем теряет! – Выдвинутая вперед голова Уинтла поворачивалась от одного из нас к другому, как железнодорожный семафор, а вывернутая ладонь в муках налегала на бедро. – И у них есть культура. Никакого водораздела наука – культура для них не существует, прошу учесть. В них тогда жила мечта Возрождения о всесторонне развитом человеке – и сейчас живет. Сам я культурой особенно не интересуюсь. Нет времени. Но она была к услугам тех, кто интересуется. И за вполне умеренную плату, как мне говорили. А многое предлагалось и бесплатно.
Уинтлу потребовалось высморкаться. Но чтобы высморкаться, Уинтлу потребовалось расстелить носовой платок у себя на колене, а затем лихорадочными пальцами собрать его в комок для употребления. Нед поторопился воспользоваться этой естественной паузой.
– Может быть, мы могли бы теперь перейти к кое-кому из тех советских ученых, чьи фамилии вы любезно назвали майору Воксхоллу? – сказал он, беря пачку листов, которые я ему протягивал.
Настала минута, ради которой мы приехали. Из нас четверых не понимал этого, я подозреваю, только Уинтл – подернутые желтизной глаза О'Мары впились в лицо Неда с проницательностью человека, страдающего расстройством пищеварения.
Нед пошел с бросовых карт, как на его месте поступил бы и я. Возле них он для себя поставил зеленые галочки. Двое успели умереть, третий был в немилости. Нед проверял память Уинтла, готовил его к главному.
– Сергей? – повторил Уинтл. – Боже мой, ну, конечно! Но как же его фамилия? Попов? Попович? Ах, да, Протопопов! Сергей Протопопов, инженер, специалист по топливу.
Нед терпеливо провел Уинтла через три фамилии и перешел к четвертой, направляя его память, стимулируя ее.
– Попробуйте припомнить, не говорите сразу «нет». И все-таки «нет»? Ну, хорошо. Попробуем Савельева.
– Как вы сказали?
Я заметил, что память Уинтла в чисто английском духе шарахалась от русских фамилий. Она предпочитала имена, которые можно переиначивать на английский лад.
– Савельев, – повторил Нед. И вновь я перехватил устремленный на него взгляд О'Мары. Нед пошарил глазами по листу, быть может, чуть-чуть слишком уж небрежно. – Именно так. С-а-в-е-л-ь-е-в. «Молодой идеалист. Словоохотливый, называл себя гуманистом. Работает с частицами, вырос в Ленинграде». Так, если верить майору Воксхоллу, говорили вы в дни, отделенные от нас чуть ли не всей жизнью. Не смогли бы вы добавить что-нибудь еще? Например, вы не поддерживали с ним связи? С Савельевым?
Уинтл улыбался словно чуду.
– Так это его фамилия? Савельев. Черт меня подери! Ну, что вы хотите? Забыл! Для меня он, видите ли, все еще Яков.
– Прекрасно. Яков Савельев. А отчество его не помните?
Уинтл покачал головой все с той же улыбкой.
– Что-нибудь добавите к тогдашнему вашему описанию?
Нам пришлось подождать. Чувство времени у Уинтла было иным, чем у нас. Как и чувство юмора, если судить по его ухмылке.
– Очень он был застенчивым, этот Яков. На заседаниях не решался задавать вопросы. А дожидался конца и дергал тебя за рукав. «Извините, сэр. Но что вы думаете о том-то и том-то?» И учтите, вопросы в самую точку. Про него говорили, что он по-своему очень культурный человек. Мне рассказывали, он прямо блистал на вечерах поэзии. И на художественных выставках.
Голос Уинтла иссяк, и я испугался, как бы он не начал сочинять, что часто случается с людьми, когда запас реальных сведений у них исчерпывается, а уходить в тень им не хочется. Но, к моему облегчению, он просто извлекал воспоминания из загашника памяти, а вернее, выдаивал их из воздуха поднятыми вверх пальцами.
– Яков, он всегда переходил от одной группы к другой, – продолжал Уинтл все с той же раздражающей улыбочкой превосходства. – Задерживался на краешке спора, весь внимание. Примостится бочком на стуле и слушает. Его отца окружала какая-то тайна, я так и не узнал, в чем она заключалась. Говорили, что он тоже был ученый и его расстреляли. Так ведь действительно многих ученых расстреляли. Прихлопывали, как мошек, я об этом читал. А если не убивали, так держали в тюрьме. Туполев, Петляков, Королев – немало самых ведущих их авиаконструкторов создали лучшие свои детища в тюрьме. Рамзин изобрел новый паровой котел в тюрьме. Первая группа, занявшаяся у них ракетами, была организована в тюрьме. Ее возглавлял Королев.
– Чертовски здорово, старина, – сказал О'Мара, снова позевывая.
– Подарил мне этот камень, – добавил Уинтл.
И я увидел, что его вновь оторвавшиеся от колена пальцы то сжимаются вокруг воображаемого камня, то разжимаются.
– Камень? – переспросил Нед. – Драгоценный?.. Нет, видимо, какой-то геологический образчик?
– Когда мы, западные гости, уезжали из Академгородка, – начал Уинтл, изменив тон, словно собирался поведать нам совсем другую историю, – то расстались со всем, что у нас было. В буквальном смысле слова. Если бы вы увидели нас там в последний день, то глазам своим не поверили бы. Наши русские хозяева льют слезы, обнимают, целуют, автобусы все в цветах, даже Коллоу всплакнул, хотите верьте, хотите нет. А мы, западные гости, раздариваем все, что у нас есть, – книги, газеты, ручки, часы, бритвы, зубную пасту и даже собственные зубные щетки! Пластинки, кто привез их. Запасное белье, галстуки, обувь, рубашки, носки – ну, все, кроме самого необходимого, чтобы не лететь домой в совсем уж непристойном виде. И мы заранее не сговаривались. Ничего не обсуждали. Все получилось само собой. Некоторые зашли еще дальше. Особенно американцы с их импульсивностью. Один, я слышал, предложил фиктивный брак девушке, которая отчаянно хотела выбраться за границу. Но не я. Я бы на такое не пошел. Я патриот.
– И вы подарили кое-что Якову, – подсказал Нед, делая вид, будто деловито пишет в блокноте.
– Да, попробовал. Ощущение такое, словно кормишь птичек в парке. Отдаешь, отдаешь, не можешь удержаться. Выглядываешь такую, которой ничего не достается, и стараешься подкормить ее. К тому же Яков был мне очень симпатичен – такой юный, такой впечатлительный.
Пальцы все еще сжимали невидимый камень, кончики их тщетно пытались сомкнуться. Другая рука поднялась ко лбу, защипнула порядочную складку кожи.
– «А вот это вам, Яков, – сказал я. – Да не стесняйтесь так! Ваша застенчивость вам попросту вредит». Я тогда брился электрической бритвой. И батарейки к ней, и трансформатор – в очень милом футляре. Но он почему-то смущался. Футляр куда-то положил, а сам крутился возле. Тут я сообразил, что он хочет что-то подарить мне. Тот самый камень. Завернутый в газету – у них, естественно, красивых оберток не имелось. «Это частица моей страны», – говорит. «В благодарность за вашу лекцию», – говорит. Он хотел, чтобы я полюбил все лучшее в ней, какой бы плохой она порой ни казалась извне. И все это, учтите, – на прекрасном английском, какому и кое-кто из нас мог бы позавидовать. Мне стало неловко, если хотите знать. Камушек этот я хранил много лет, а потом во время весенней уборки жена его выбросила. Несколько раз я собирался написать ему, но так и не собрался. Он, учтите, был по-своему высокомерен. Ну, да не он один среди них. Как, на свой лад, и многие из нас. Мы все считали, что наука способна управлять миром. Что ж, сейчас она им и управляет, да только не так, как ей было предназначено.
– А он вам писал? – спросил Нед.
Уинтл долго размышлял.
– Трудно сказать. Откуда узнаешь, что именно задержала почта? И по чьему распоряжению?
Я достал из «дипломата» и передал Неду пачку фотографий. Нед вручил их Уинтлу под пристальным взглядом О'Мары. Уинтл начал их перебирать и вдруг вскрикнул:
– Это он! Яков! Тот, кто подарил мне камень. – Он отдал фотографии Неду. – Вот, сами посмотрите! Посмотрите на эти глаза! А потом попробуйте убедить меня, что он не идеалист!
Извлеченный из ленинградской вечерней газеты от 5 января 1954 года и воссозданный фотоотделом Яков Ефремович Савельев, гениальный подросток.
Список еще не был исчерпан, и Нед добросовестно обсудил с Уинтлом каждую фамилию, прокладывая один ложный след за другим и заметая собственные следы, пока Савельев в памяти Уинтла не остался одним из многих.
– А это умно – держать козырную карту в самой середке, – заметил О'Мара, с бокалом в руке провожая нас к автомобилю. – Когда я в последний раз слышал о Савельеве, он руководил испытательным полигоном в казахстанской глуши, мечтая о способах получать телеметрическую информацию так, чтобы ее не читали через плечо все, кому не лень. А теперь он что – распродает лавочку?
Моя работа редко когда доставляет мне удовольствие, но и эта беседа, и это место подействовали мне на нервы, а О'Мара и вовсе: за локоть я хватаю человека тоже редко, и отшатываюсь, и слегка разжимаю пальцы.
– Полагаю, вы дали подписку о неразглашении государственной тайны? – спросил я достаточно спокойным тоном.
– Так эту хреновину я же чуть не сам составил, – с изумлением ответил О'Мара.
– Следовательно, вы знаете, что любые сведения, полученные вами по службе, и все выводы из этих сведений составляют вечную собственность Короны. (Еще одна юридическая передержка. Но пусть.)
Я отпустил его локоть.
– Так если вам нравится ваша работа здесь и вы надеетесь на повышение или если вас устраивает ваша будущая пенсия, то я бы посоветовал вам навсегда забыть об этой беседе и обо всех упомянутых в ней фамилиях. Большое спасибо за джин. Всего хорошего.
* * *
На обратном пути, позвонив в Русский Дом и кодом сообщив, что личность Дрозда установлена, Нед вновь замкнулся в себе. Однако, когда мы остановились на Виктория-стрит, он вдруг решил, что я ему еще понадоблюсь.
– Останьтесь, – распорядился он, пропуская меня перед собой на лестницу в полуподвал.
В первую секунду сцена в оперативном кабинете могла вызвать только восторг. В фокусе находился Уолтер – стоя, словно художник перед мольбертом, у большой белой доски заметно выше его, он цветными мелками изображал подробности жизни Савельева. Будь на нем широкополая шляпа и блуза, они ничего не добавили бы к его лихой позе. И только на второй секунде я вспомнил мое утреннее жуткое предчувствие.
Вокруг него – то есть позади, так как доску прислонили к стене под часами, – стояли Брок, Боб, Джек, наш шифровальщик, Эмма, помощница Неда, и еще Пэт, одна из опор советского архива. Все держали бокалы с шампанским, и все улыбались – каждый на свой манер. Только улыбка Боба больше походила на гримасу подавляемой боли.
– Одинокий, все для себя решающий сам, – декламировал Уолтер. (На миг он умолк, услышав, как мы вошли, но головы не повернул.) – Пятидесятилетний свершитель, трясущий решетку своих пожилых лет, взирающий на неизбежность смерти и потраченную зря жизнь. Но разве не все мы такие?
Он отступил на шаг. Потом опять подскочил к доске и вывел какую-то дату. Потом отхлебнул шампанского. И мне почудилось в нем что-то вурдалачье, что-то пугающее, словно румяна на щеках умирающего.
– Провел в секретном центре всю свою взрослую жизнь, – продолжал Уолтер весело. – Но язык держал за зубами. Сам принимал свои решения, совсем один, во мраке, благослови его Господь. А теперь сводит счеты с историей, пусть она его даже прикончит. Что вовсе не исключено. (Еще одна дата на доске и слово «ОЛИМПИАДА».) Родился в особом году. Будь он помоложе, ему бы вправили мозги, а будь постарше, думал бы только о тепленьком местечке, извечной мечте дряхлеющего пердуна.
Он выпил еще, по-прежнему спиной к нам. Я поглядел на Боба в поисках объяснения, но он вперился в пол. Я поглядел на Неда. Он смотрел на Уолтера, но его лицо ничего не выражало. Я снова поглядел на Уолтера и увидел, что он дышит все надсаднее.
– Его изобрел я, вот что! – пыхтел Уолтер, словно не замечая всеобщей подавленности. – Я много лет предсказывал, что он явится. – Крошась, мелок вывел: «ОТЕЦ КАЗНЕН». – Даже когда его мобилизовали, бедняжка так старался быть хорошим! Он не интриговал, он не таил зла. Сомнения у него имелись, но он был хорошим солдатом, во всяком случае для ученого. Пока в один прекрасный день – бац! – просыпается и видит, что все это чушь и вранье, а он растратил свой гений на кучку бездарных гангстеров и вдобавок поставил мир на край гибели. – По его вискам ползли капли пота, он яростно писал: «РАБОТАЛ ПОД НАЧАЛОМ РОГОВА НА 109-м ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ПОЛИГОНЕ В КАЗАХСТАНЕ». – Сам того не зная, он стал участником Великой русской мужской климактерической революции восьмидесятых. У него за спиной вся эта ложь, Сталин, хрущевский проблеск, долгая тьма Брежнева. Однако у него еще есть силы на один порыв, у него есть последний климактерический шанс оставить свой след на земле. А в ушах звенят новенькие лозунги: революция сверху, открытость, мир, перемены, мужество, перестройка. Его даже побуждают восстать.