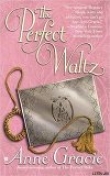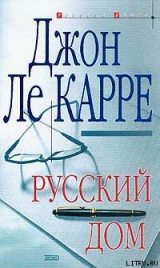
Текст книги "Русский Дом"
Автор книги: Джон Ле Карре
Жанр:
Шпионские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
И вот теперь Игорь ведет себя словно самый близкий друг Якова и, не думая о себе, оказывает ему бесценные рискованнейшие услуги. Если тебе надо послать письмо Якову, просто отдай его мне. У меня установлена прекрасная связь с санаторием. Один мой приятель ездит туда чуть ли не каждую неделю, – сказал он ей при их последней встрече.
«Он в санатории? – воскликнула она. – Да? А где это?»
Но Игорь словно еще не придумал ответа на этот вопрос, потому что насупился, замялся и сослался на государственную тайну. Мы – и государственная тайна? Мы же кричим о государственных тайнах во весь голос!
Нет, я к нему несправедлива, подумала она. Я начинаю везде видеть фальшь. В Игоре. И в Барли.
Барли… Она нахмурилась. Какое он имел право усомниться в том, что Яков писал о своей привязанности к ней? Да кем он себя воображает, этот иностранец с Запада, навязчивый, цинично подозрительный? Так быстро стал таким близким, разыгрывает из себя господа бога с Матвеем и моими детьми!
Ни в коем случае не смей доверять человеку, воспитанному без веры в догматы, – строго приказала она себе.
Я могу полюбить верующего, могу полюбить еретика, но англичанина полюбить не могу.
Она включила радиоприемник и прошлась по коротким волнам, надев сперва наушники, чтобы не разбудить близнецов. Но пока она слушала разные голоса, покушающиеся на ее душу, – «Немецкую волну», «Голос Америки», «Радио Свобода», «Голос Израиля», «Голос… одному богу известно чей», каждый такой свойский, такой снисходительный, такой убедительный, – ею овладело гневное смятение. «Я русская! – хотелось ей крикнуть в ответ им всем. – Даже в самый разгар трагедии я грежу о мире, который лучше вашего!»
Да, но какой трагедии?
Зазвонил телефон. Она схватила трубку. Но это был всего лишь Назьян, совсем переменившийся в последнее время, – он уточнял планы на завтра.
– Послушайте, я просто хочу узнать, действительно ли вам удобно быть завтра на стенде «Октября»? Мы ведь начинаем рано. Так что, если вам нужно проводить детей в школу или еще что-нибудь, я вполне могу попросить Елизавету Алексеевну заменить вас. Никаких проблем. Только скажите.
– Вы очень добры, Григорий Тигранович, спасибо, что позвонили. Но ведь я целую неделю помогала оформлять стенд и, конечно же, хочу быть на открытии ярмарки. А детей в школу отправит Матвей.
Она задумчиво опустила трубку на рычаг. Назьян, господи боже ты мой! Ну почему мы разговариваем, будто персонажи на сцене театра? Кто, по-нашему, подслушивает нас, так что мы обязаны выражаться такими округлыми фразами? Если я могу говорить по-английски с чужим человеком, словно он мой любовник, почему я не разговариваю нормально с армянином, моим сослуживцем?
Он позвонил, и она поняла, что все это время ждала его звонка, – ее губы уже улыбались. В отличие от Игоря, он не назвался сам и не назвал ее имени.
– Бегите со мной, – сказал он, – я вас похищаю.
– Прямо сейчас?
– Кони оседланы, припасов хватит на три дня.
– Но достаточно ли вы трезвы для романтического похищения?
– Как это ни поразительно, я абсолютно трезв. (Пауза.) И не из-за недостатка усердия. Просто ничего не получилось. Видимо, возраст.
Голос у него был трезвый. Трезвый и такой близкий!
– А как же книжная ярмарка? Вы намерены бросить ее, как бросили ту, аудиоярмарку?
– К чертям книжную ярмарку! Либо до нее, либо никогда! Потом мы будем слишком уж вымотаны. Ну, как поживаете?
– Я сердита на вас. Вы околдовали мое семейство, и теперь они только и спрашивают, когда вы опять появитесь с новыми карандашами и табаком.
Еще пауза. Обычно, когда он вел шутливые разговоры, он так не медлил.
– В этом весь я. Околдовываю людей, а чуть они подпадают под мои чары, как я про них забываю.
– Но это ужасно! – воскликнула она растерянно. – Барли, что вы такое говорите?
– Просто повторяю итог мудрых наблюдений одной из моих бывших жен. Она утверждала, что у меня есть порывы, но не чувства, и что мне не следует носить в Лондоне пыльники. Когда вам сообщают подобные вещи, вы свято верите им до конца ваших дней. С тех пор я ни разу не надевал пыльника.
– Барли, эта женщина… Барли, утверждать такое было с ее стороны очень жестоко и безответственно! Простите, но она кругом неправа. Возможно, у нее были причины для подобного срыва. Но она неправа.
– Ах, так? Но что же я способен чувствовать? Просветите меня.
Она засмеялась, сообразив, что простодушно угодила в расставленную им ловушку.
– Барли, вы очень-очень нехороший человек. И я не желаю иметь с вами никакого дела.
– Потому что я ничего не чувствую?
– Во-первых, вы чувствуете потребность оберегать людей. Мы все заметили это сегодня и очень вам благодарны.
– Еще!
– Во-вторых, у вас есть чувство чести, мне кажется. Естественно, вы декадент, поскольку вы с Запада. Это понятно. Но вас спасает ваше чувство чести.
– А пирожков совсем не осталось?
– Значит, вы способны чувствовать еще и голод?
– Я хочу приехать и съесть их.
– Сейчас?
– Сейчас.
– Это невозможно. Все легли спать. Ведь время к полуночи!
– Ну, так завтра.
– Барли, это же смешно. Открывается книжная ярмарка. И вы и я приглашены в десятки мест.
– Когда?
Между ними воцарилось чудесное молчание.
– Ну, если хотите, то примерно в половине восьмого.
– А если раньше?
Долгое время оба молчали. Но это молчание связало их крепче любых слов. Их головы покоились на одной подушке, ухо к уху. А когда он повесил трубку, ей остались не его шутки, не ирония по собственному адресу, но радостная искренность – она чуть было не сказала «торжественная», которую невольно выдал его голос.
* * *
Он пел.
И про себя, и вслух. В сердце своем и всем своим существом Барли Блейр пел.
В большом сером номере неприветливой «Меж» накануне открытия книжной ярмарки он пел «Благослови сей дом» в распознаваемой манере Мэхелии Джексон, выделывал кренделя со стаканом минеральной воды в руке, поглядывал на свое отражение в огромном экране телевизора, единственного украшения этого номера.
Трезв.
Весело трезв.
Барли Блейр.
Наедине с собой.
Он не выпил ни капли. В фургоне во время отчета, хоть он и был взмылен, как скаковая лошадь, – ничего. Ни даже стакана воды, пока угощал Падди и Сая подслащенной, очищенной от тревог версией прошедшего дня.
На ужине, устроенном французскими издателями в «России», с Уиклоу, где он прямо-таки сиял спокойной уверенностью, – ничего.
На ужине, устроенном шведами в «Национале», с Хензигером, где он сиял даже еще ярче, он схватил бокал грузинского шампанского просто из чувства самосохранения, потому что Западний слишком уж громко удивлялся его воздержанности. Но сумел поставить бокал непригубленным позади вазы с цветами, и, значит, опять – ничего.
И на ужине, устроенном издательством «Даблдей» в «Украине», снова с Хензигером, сияя уже просто как Полярная звезда, он судорожно сжимал стакан минеральной, в которую бросил ломтик лимона, чтобы она выглядела как джин с тоником.
Итак – ни глотка. Не из соображений высшей духовности. Не из-за внезапного возвращения на путь истинный, боже упаси! Он не подписал зарока Антиалкогольной лиги, не начал новую жизнь. Просто он не хотел, чтобы хоть что-то затуманивало светлый осознанный экстаз, который нарастал в нем, – непривычное чувство, что он подвергает себя страшному риску и может ему противостоять, что он подготовился к любым последствиям, а если их не последует, он и к этому был готов, ибо его готовность была кольцом обороны со священным абсолютом внутри.
«Теперь я принадлежу к той горстке людей, которые знают, что они сделают в первую очередь, если на судне глубокой ночью вспыхнет пожар, – думал он, – и что они сделают в последнюю очередь или вовсе не сделают». Он знал в упорядоченных подробностях, что он считает необходимым спасать, а что для него неважно. И что нужно отбросить, через что переступить и оставить позади, как безжизненный труп.
В его сознании произошла генеральная уборка, захватившая не только вечные темы, но и смиренные частности. Ведь, как недавно обнаружил Барли, вечные темы творили хаос именно из смиренных частностей.
Ясность его нового видения вызывала в нем изумление. Он посмотрел по сторонам, сделал несколько пируэтов, пропел пару тактов и, вернувшись к исходной точке, окончательно убедился, что не упустил ничего.
Ни внезапной неуверенности, мелькнувшей в ее голосе. Ни тени сомнения, скользнувшей по темным озерам ее глаз.
Ни прямых строчек Гёте вместо сумасшедших каракулей.
Ни тяжеловесных, нетипичных для Гёте прохаживаний по адресу бюрократов и запрещений пить водку.
Ни покаянных причитаний Гёте о том, как дурно он обходился с ней, хотя на протяжении двадцати лет он обходился с ней, как взбредало ему в голову, в том числе как с посыльной, которую бросают на съедение волкам.
Ни пустого обещания Гёте возместить ей все это в будущем, лишь бы она пока не выходила из игры, тогда как вера Гёте включает догмат, что будущее его более не интересует, и он маниакально сосредоточен на настоящем: «Существует одно только теперь!»
Тем не менее благодаря этим сумбурным предположениям, которые в конечном счете оставались предположениями, рассудок Барли без малейших усилий воспринял величайший подарок его проясненного восприятия: в контексте представлений Гёте о том, чего он стремится достигнуть, Гёте прав вот в чем: большую часть своей жизни он, Гёте, пребывал на одной половине искаженного и устарелого уравнения, а он, Барли, в своей неосведомленности, пребывал на другой.
И если он, Барли, будет когда-нибудь призван выбирать, то предпочтет пойти путем Гёте, а не Неда или кого-либо еще, ибо его присутствие совершенно необходимо для самой-самой середины, гражданином которой он себя сделал.
И все, что происходило с Барли после Переделкина, доказывало это. Старые «измы» мертвы, соперничество коммунизма с капитализмом кончилось хлюпающим хныканьем. Его риторика укрылась под землей в тайниках серых людей, которые все еще пляшут, хотя музыка давно смолкла.
А что до верности своей стране, то для Барли вопрос сводился к тому, какой Англии решит он служить. Последние узы, связывавшие его с имперскими фантазиями, распались. Шовинистическая барабанная дробь вызывала в нем омерзение. Пусть уж лучше его растопчут, чем маршировать под нее. Нет, ему была ведома несравненно лучшая Англия, и она жила в нем самом.
Он улегся на постель, ожидая, что на него навалится страх, но страх не приходил. Вместо этого он поймал себя на том, что разыгрывает в уме своего рода шахматную партию: ведь шахматы – это анализ возможных вариантов, и куда лучше взвешивать их в тишине и спокойствии, чем лихорадочно рыться в них, когда обрушивается крыша.
Ведь если армагеддон не наступит, ничто не будет потеряно. Но если армагеддон наступит, спасти необходимо многое.
И Барли начал думать. И Барли занялся приготовлениями, не торопя себя и не волнуясь, как и посоветовал бы Нед, если бы бразды были еще в руках Неда.
Он раздумывал до рассвета, потом вздремнул, а проснувшись, продолжал думать, и к тому времени, когда бодро отправился завтракать, уже готовый для ярмарочного веселья, значительная часть его мозга была полностью занята мыслями о том, что объявляют немыслимым дурни, сами к этому причастные.
* * *
Глава 14
– Бросьте, Нед! – небрежно отмахнулся Клайв, все еще под радостным впечатлением от магической передачи. – Дрозд и прежде болел. Не один раз.
– Знаю, – сказал Нед сумрачно. – Знаю. – И добавил: – Возможно, не нравится мне не то, что он болеет, а то, что он пишет письма.
Шеритон слушал, упершись подбородком в ладонь, как до этого слушал запись. Между Недом и Шеритоном установилось понимание без слов, как и необходимо при ведении совместной операции. Передача власти словно бы произошла уже давным-давно.
– Но, дорогой мой, мы всегда принимаемся писать письма, когда болеем, – объяснил Клайв в нелепой попытке истолковать простые человеческие побуждения. – Мы их пишем всем и каждому!
А мне как-то в голову не приходило, что Клайв способен заболеть и что у него имеются друзья, которым можно писать письма.
– Мне не нравится, что он отдает письма с ненужными подробностями неведомым посредникам. И мне не нравится упоминание о новом материале, который он привезет Барли, – сказал Нед. – Мы знаем, что при нормальных обстоятельствах он никогда ей не пишет. Мы знаем, что он осторожен, даже чересчур. И вдруг он заболевает и присылает ей через Игоря пылкое любовное письмо. Что за Игорь? Откуда он взялся? Когда?
– Он должен был бы сфотографировать письмо, – объявил Клайв с неодобрением по адресу Барли. – Или забрать его у нее. Одно из двух.
Нед, слишком поглощенный своими мыслями, не выразил того презрения к этой идее, которого она заслуживала.
– Каким образом? Он ведь для нее только издатель. Ничего больше она про него не знает.
– Если только Дрозд ее не просветил, – сказал Клайв.
– Исключено, – ответил Нед и вернулся к своим мыслям. – Там стоял легковой автомобиль. Красный. А потом белый. Вы читали сообщение наблюдателей. Сначала был красный. Затем его сменил белый.
– Это домыслы. В теплые воскресенья вся Москва устремляется за город, – со знанием дела объяснил Клайв.
Он подождал ответа, не дождался и вновь вернулся к письму.
– У Кати оно никаких сомнений не вызвало, – возразил он. – Катя не кричит: «Подделка!» Она прыгает от радости. Если она ничего не учуяла, как и Скотт Блейр, то с какой стати нам здесь, в Лондоне, поднимать тревогу вместо них?
– Он попросил список, – продолжал Нед, словно прислушиваясь к дальним звукам музыки. – Окончательный исчерпывающий список вопросов. Почему?
Наконец подал голос Шеритон. Тяжелой лапой он осаживал Неда.
– Нед, Нед, Нед, Нед. Ну, ладно. Ведь опять День Номер Один, и мы все нервничаем. Давайте вздремнем.
Он встал. За ним Клайв. И я. Но Нед упрямо остался сидеть, опустив сжатые руки на стол.
Шеритон с симпатией, но настойчиво сказал, нагибаясь над ним:
– Нед, вы меня слышите? Нед? Ну, будет, Нед!
– Я не глухой.
– Да, но вы устали. Нед, если мы еще раз ругнем эту операцию, то все. Мы работаем с вашим человеком, с тем, кого вы привезли к нам, чтобы убедить нас. Мы горы свернули, чтобы добиться нынешнего положения. У нас есть источник. У нас есть фонды. У нас есть влиятельная аудитория. Мы на расстоянии плевка от возможности заполнить пробелы в наших сведениях, до которой ни умным машинам, ни электронным бонзам, ни пентагонским иезуитам не добраться и за сто световых лет. Если только мы не дадим воли нервам – как и Барли, как и Дрозд, – то заполучим сокровище, какое не снилось самому талантливому фантасту. Если мы не сорвемся.
Однако Шеритон говорил слишком уж убежденно, а его лицо, вопреки всей пухлой непроницаемости, выдавало отчаянную потребность в поддержке.
– Нед?
– Слышу вас, Рассел. Каждое слово.
– Нед, это ведь уже не надомное ткачество, черт подери. Мы пошли на крупную игру и теперь обязаны думать крупно. Крупнее некуда. Решение президента не повод сомневаться в своих же заключениях. Это, собственно говоря, приказ. Нед, я, честно, считаю, что вам необходимо поспать.
– Я не устал, – сказал Нед.
– Нет, устали. И полагаю, так скажут все. Полагаю, они даже скажут, что Нед шел ради Дрозда напролом, пока не явился большой злой американский волк и не забрал его джо. И сразу же Дрозд оказался очень и очень сомнительным источником. Ну, конечно, все скажут, что вы совсем вымотались.
Я взглянул на Клайва.
Он тоже смотрел на Неда, но такими холодными глазами, что у меня кровь в жилах застыла. Пора тебя передвинуть, говорили эти глаза. Пора примериться, как тебя вышвырнуть вон.
* * *
В этот день и Хензигер, и Уиклоу внимательно следили за Барли и часто докладывали о нем: Хензигер – Саю, уж не знаю, какими из их способов, а Уиклоу – Падди через внештатников. Оба подчеркнули его хорошее настроение и тихое спокойствие и каждый по-своему его полное самообладание. Оба описывали, как за завтраком он очаровал двух финских издателей, которые проявили интерес к проекту Транссибирской железной дороги.
– Они буквально ели у него из рук, – сказал Уиклоу, нечаянно представив этот завтрак в довольно-таки комичном виде. А впрочем, в «Меж» может произойти что угодно.
Оба с юмором описали, как Барли во что бы то ни стало пожелал служить им гидом – по его настоянию они вышли из такси у центрального входа, дабы дальше весь путь проделать пешком, как подобает пилигримам из капиталистического мира, впервые совершающим это паломничество.
И два шпиона-профессионала с удовольствием шли сквозь влажное сияние осеннего солнца, неся пиджаки на руке и поглядывая на своего джо, шагавшего между ними, а Барли в роли гида цветисто восхвалял архитектуру «позднего Бензинья» и сады в стиле «революционного рококо». Он неистово восторгался огромным декоративным бассейном и золочеными рыбами, которые орошали водяными струями зады пятнадцати золоченых нимф – по одной на каждую советскую республику. Он вынуждал их останавливаться перед белоколонными приютами любви и храмами наслаждения и указывал на надписи на порталах, гласившие, что посвящены они не Венере и Вакху, а павшим богам и богиням советской экономики – углю, стали и даже атомной энергии, Джек!
– Он острил, но пьян не был, – сообщил Хензигер, который еще в Ленинграде проникся к Барли симпатией. – Чертовски смешно острил.
От храмов Барли повел их по главной триумфальной аллее – длиной в милю и необъятной ширины Императорскому пути, – восславляющей Народные Достижения на Службе Человечества. И уж, конечно, никогда и нигде народовластие не запечатлевалось в столь имперских образах! Так он говорил. Бесспорно, ни одна революция нигде и никогда не обожествляла с такой полно – той все то, что она бралась сровнять с землей! Но к этому времени Барли уже приходилось выкрикивать свои кощунства зычным голосом, чтобы их можно было расслышать сквозь рев громкоговорителей, которые весь день лили потоки самовосхвалений на головы непросвещенных толп внизу.
Наконец – и неизбежно – они добрались до двух павильонов, в которых разместилась ярмарка.
– Справа от меня – издатели Мира, Прогресса и Доброй Воли, – объявил Барли тоном рефери на ринге. – Слева – сеятели фашистской империалистической лжи, порнографисты, отравители истины. Девять, десять. Аут!
Они показали пропуска и вошли внутрь.
* * *
Стенд новорожденного и географически темного издательства «Потомак и Блейр» стал хотя и небольшой, но вполне удовлетворительной сенсацией ярмарки. Любовно сотворенная Лэнгли эмблема «П. и Б.» блистала между менее великолепной продукцией «Астрал пресс» и «Пэрбек медиа». Оформление, охарактеризованное зодчими Лэнгли как бьющее в нос, но со вкусом, было образцом мгновенного воздействия. Выставленные книги (многие, как принято, в виде макетов, еще не запущенных в производство) были изготовлены с той заботливой тщательностью во всех деталях, какую разведки неизменно уделяют своим фальшивкам. Единственный приличный кофе на ярмарке булькал в хитроумной кофеварке в комнатке за стендом. И наливала его Мэри-Лу, родная дщерь Лэнгли. Для избранных там отыскивался даже запретный стаканчик шотландского виски, облегчавший им дневные труды. Запрет, собственно, был наложен самими организаторами, ибо даже литературная подделка должна твориться трезвыми, как стеклышко, людьми.
И Мэри-Лу с ее домотканой улыбкой школьницы и пышной юбкой из твида выглядела естественным продуктом солидной стороны Мэдисон-авеню. У кого достало бы проницательности разглядеть, что в нее вплетены и нити Лэнгли?
И Уиклоу с его изысканной профессиональной речью был воплощением того быстроглазого молодого издательского работника на взлете, каких десятками штампуют в наши дни.
А что до честного Джека Хензигера, он являл собой превосходный образец разбогатевшего флибустьера современной американской книготорговли. Он не делал секрета из своего прошлого. Нефтепроводы на Ближнем Востоке, гуманная помощь Афганистану, красная фасоль для горных племен в Таиланде, выращивающих опийный мак, – Хензигер и правда продавал все это, помимо того, что он побочно продавал Лэнгли. Но сердце его было отдано издательскому делу, и он сюда приехал доказать это.
Барли же словно бы упивался фальшью. Он бросился в нее, точно она-то и была его давно утраченной реальностью: пожимал руки, принимал поздравления конкурентов и коллег, а потом около одиннадцати признался, что ему что-то не сидится на месте, и предложил Уиклоу обойти окопы, чтобы подбодрить бойцов.
И они отправились. Барли нес охапку белых конвертов и всовывал их в избранные руки, веселыми воплями и приветствиями прокладывая себе дорогу в узких проходах, забитых посетителями и участниками.
– Провалиться мне, если это не Барли Чертов Блейр, – донесся знакомый голос из-за витрины с иллюстрированными Библиями на самых разных языках. – Помнишь меня, а? Третий слева в норковых подштанниках в свои далекие скромные дни?
– Спайки! Так они тебя снова впустили? – сказал Барли с искренним удовольствием и сунул ему конверт.
– Ну, волноваться я буду, когда они меня не выпустят. А это, значит, твой престарелый батюшка?
Барли познакомил его с талантливым редактором Уиклоу, и Спайки желтыми от никотина пальцами осенил его крестным знамением.
Они пошли дальше – только чтобы сразу же наткнуться на Дэна Зеппелина. Дэн не разговаривал. Дэн загробным шепотом вовлекал вас в заговор, скрестив руки на груди и наклоняясь через стол.
– Нет, вы мне ответьте, Барли, идет? Мы что – первопроходцы или хреновые сестры Митфорд? Ну, пусть кое-какие некниги в этом году идут как книги. Ну, пусть кое-какие неписатели выпущены из тюрем. Подумаешь! Вот я нынче утром подхожу к моему собственному стенду, а какая-то жопа забирает книги с моих полок. «Разрешите задать вам личный вопрос? – говорю я. – Какого хрена вам тут надо?» – «Приказ», – заявляет он и конфискует шесть книг. Мери Эмблсайд – хреновое «Черное сознание в песне и слове». Приказ! Нет, вы мне скажите, Барли, кто такие мы? И кто такие они? И что, по их мнению, они перестраивают, когда ничего и построено не было? Как можно перестроить труп?
В «Люпус букс» их отослали в кафе, где Сам Наш Президент, только что посвященный в рыцари сэр Питер Олифант обдурил даже русских, закрепив за собой столик. Надпись по-русски и по-английски на листе бумаги подтверждала его триумф. Последним предостережением для скептиков служили скрещенные флажки Великобритании и Советского Союза. В обрамлении переводчиков и высокопоставленных чиновников сэр Питер растолковывал те многочисленные выгоды, которые получит Советский Союз, субсидируя его щедрые покупки у советских издательств.
– Да это же сам граф! – вскричал Барли, вручая ему конверт. – А где графская корона?
Но именитость продолжала свои рассуждения, даже не поведя пыльной от седины бровью.
На стенде Израиля царил вооруженный мир. Темная очередь соблюдала порядок и хранила молчание. Привалившись к стенам, стояли молодые люди в джинсах и кроссовках. Лев Абрамович был седовлас и подавляюще высок. В свое время он служил в Ирландском гвардейском полку.
– Лев! Ну, как там Сион?
– Может, мы побеждаем, а может, счастливый конец перенесен в начало, – ответил Лев, засовывая в карман взятый у Барли конверт.
Из Израиля Уиклоу следом за Барли затрусил к павильону Мира, Прогресса и Доброй Воли, где нельзя уже было долее сомневаться ни в массированном историческом сдвиге, ни в том, кто этот сдвиг совершает.
Каждый плакат, каждый свободный кусочек стены пронзительно провозглашал новое Евангелие. На каждом стенде каждой республики мысли и произведения уже не нового пророка, изображенного в таком ракурсе, что родимое пятно исчезало, а подбородок был вздернут, соседствовали с наследием его бесцветного учителя – Ленина. У стенда ВААПа, где Барли и Уиклоу пожали несколько рук, а Барли избавился от целой партии конвертов, речи вождя в глянцевых переплетах, переведенные на английский, французский, испанский и немецкий, производили вполне отразимое впечатление.
– И сколько еще придется нам терпеть эту липу, Барли? – спросил вполголоса белобрысый сотрудник одного из московских издательств, когда они поравнялись с ним. – Когда же нас вновь примутся угнетать, чтобы мы стали всем довольны? Если наше прошлое – ложь, кто поклянется, что и наше будущее не окажется ложью?
Они шли от стенда к стенду – Барли лидировал, Барли здоровался, Уиклоу следовал за ним.
– Иосиф! Рад вас видеть. Вот вам конверт. Только не проглотите его залпом.
– Барли! Дружище! Разве вам не передали моей записки? А может, я ее и не оставлял?
– Юрий! Рад вас видеть. Вот вам конверт.
– Вечерком загляните выпить, Барли! Придет Саша. И Роза. У Руда завтра концерт, так что он хочет остаться трезвым. Вы слышали про писателей, которых выпустили? Это же потемкинская деревня. Их выпускают, дают наесться досыта, предъявляют публике и снова сажают до будущего года. Идите-ка сюда. Я продам вам пару книжек, чтобы позлить Западнего.
Сперва Уиклоу не понял даже, что они добрались до цели. Он увидел среди выцветших флагов знамя с золотыми буквами, вышитыми на красном бархате. Он услышал вопль Барли: «Катя, где вы?» Но ничто не объясняло, кому принадлежит этот стенд: возможно, оформление еще не было завершено. Он увидел обычные неудобочитаемые книги о развитии сельского хозяйства Украины и народных грузинских танцах, издыхаюшие на полках от тягот предыдущих выставок. Он увидел обычных пять-шесть широкобедрых женщин, стоящих словно в ожидании поезда, и низенького небритого мужчину, который, держа перед собой сигарету, точно волшебную палочку фокусника, впивался хмурым взглядом в табличку с фамилией на лацкане у Барли.
«Назьян, – прочел, в свою очередь, Уиклоу. – Григорий Тигранович. Старший редактор издательства „Октябрь“«.
– Полагаю, вы ищете мисс Катю Орлову? – спросил Назьян у Барли по-английски и поднял сигарету еще выше, словно для того, чтобы она не заслоняла от него собеседника.
– И еще как! – с жаром ответил Барли, и две-три женщины сочувственно улыбнулись.
По лицу Назьяна расползлась парализующе-учтивая улыбка. Выписав сигаретой замысловатый вензель в воздухе, он отступил в сторону, и Уиклоу узнал со спины Катю, которая беседовала с двумя миниатюрными азиатками – бирманками, решил он. Но тут инстинкт заставил ее обернуться, она посмотрела на Барли, потом на Уиклоу, потом снова на Барли, и ее лицо озарила чудесная улыбка.
– Катя! Потрясающе, – робко произнес Барли. – Как ребятишки? Остались в живых?
– Спасибо! Они прекрасно себя чувствуют.
Под взглядами Назьяна, его сотрудниц и Уиклоу Барли вручил ей приглашение на званый вечер в честь гласности и рождения фирмы «Потомак и Блейр».
– Да, кстати, во второй половине дня я, может быть, покину этот вихрь веселья, – сказал Барли, когда они возвращались в павильон Запада. – Вы с Джеком и Мэри-Лу уж как-нибудь сами справляйтесь. А я обедаю с прекрасной дамой.
– Мы с ней знакомы? – спросил Уиклоу, и оба засмеялись.
Она жива и здорова, радостно думал Барли. Если что-то и происходит, ее это еще не коснулось.
* * *
В какой мере мы знали или догадывались о чувстве Барли к Кате? Со столь скрупулезно прослеживаемой и контролируемой операцией любовь сочеталась плохо и внушала нам что-то вроде робости.
В своей личной жизни Уиклоу усердно искал легких связей, но на личную жизнь Барли взирал глазами пуританина. Возможно, по молодости он не верил в страсть зрелых лет. Уиклоу полагал, что Барли просто увлекся в очередной неисчислимый раз. Люди в возрасте Барли не влюбляются.
Хензигер, примерно ровесник Барли, считал секс невоспетой привилегией людей, ведущих двойную жизнь, и ни на миг не усомнился в том, что Барли, с его прямолинейной честностью, возложит на алтарь долга и свое тело. Подобно Уиклоу, хотя по иным причинам, он не нашел ничего странного в нежности Барли к Кате, а для операции так даже счел ее желательной.
Ну, а в Лондоне? Четкой точки зрения там не существовало. На острове Брейди наговорил много всякого, но атака Брейди была отбита, а его совет оставлен без внимания.
Ну, а Нед? У Неда была жена, столь же дисциплинированная, как и он сам, и тоже не разбуженная. Нед говаривал с сочувственно-грустной улыбкой: какой джо в трудной стране устоит перед хорошенькой женщиной, если в столкновении со всем миром он обретает в ней опору?
Боб, Шеритон и Джонни – все, хотя и по-разному, пришли, видимо, к выводу, что частная жизнь Барли и его склонности настолько мелкотравчаты, что их нет надобности включать в уравнение.
А Палфри? Что думал старик Палфри, забегавший на Гроувенор-сквер при всякой возможности, а если ее не было, звонивший Неду с вопросом: «Ну, как там мальчик?»
Палфри думал о Ханне. Той Ханне, которую он любил и все еще любит, как способен любить только трус. Той Ханне, чья улыбка когда-то была такой же чудесной и теплой, как у Кати. «Ты хороший человек, Палфри, – с жутким самообладанием говорит она в те дни, когда пытается меня понять. – Ты найдешь выход. Может быть, не теперь, но все равно найдешь». И Палфри его нашел, как не найти! Он ссылался на профессиональную этику, столь удобную этику, согласно которой молодой нотариус, виновный в прелюбодеянии, тем самым теряет всякую возможность предпринять какие-либо шаги. Он ссылался на детей (ее и его) – это коснется стольких людей, дорогая! Он ссылался на узы брака – как они смогут обойтись без нас, дорогая? Дерек же сам себе яйца не сварит? Он ссылался на партнерство в фирме, а когда этому партнерству пришел конец, зарыл свою глупую голову в песок потаенной пустыни, где никакая Ханна уже никогда не сможет ему угрожать. И у него хватило духу сослаться на долг. Служба никогда не простит мне неопрятного развода, дорогая. Своему юрисконсульту? Да никогда!
И еще я вспомнил остров, тот вечер, когда мы с Барли стояли на галечном пляже и смотрели, как по серой зыби Атлантики на нас катится вал морского тумана.
«Они же никогда ее не выпустят, верно? – сказал Барли. – Не выпустят, если что-нибудь пойдет не так».
Я промолчал, да он, полагаю, и не ждал от меня ответа, но он был прав. Она, чистейшей воды советская гражданка, совершила чистейшей воды советское преступление. А до категории тех, кого обменивают, она далеко не дотягивала.
«И в любом случае детей она ни за что не оставит», – сказал он, подтверждая собственные сомнения.
Некоторое время мы смотрели через океан – он на Катю, а я на Ханну, которая тоже ни за что не оставила бы своих детей, а хотела взять их с собой и сделать честного человека из поденщика на полях юриспруденции, который спал с женой своего старшего партнера.