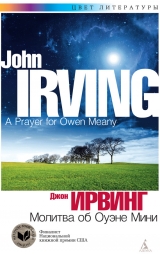
Текст книги "Молитва об Оуэне Мини"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
В магазины за покупками ездил мистер Мини. Он подвозил Оуэна в воскресную школу, а после занятий забирал его – хотя сам на службе в епископальной церкви не присутствовал. Очевидно, для мести католикам было достаточно отправлять туда Оуэна; а сам мистер Мини либо просто не нуждался в том, чтобы своим личным посещением службы еще больше уязвить католические власти, либо оскорбление, нанесенное ему, оказалось столь болезненным, что он стал глух к учению всякой церкви.
Моя мама знала, что он столь же непрошибаем в отношении Грейвсендской академии. «Сперва интересы города, – сказал он как-то на заседании городского совета, – а уж потом – ихние интересы!» Разговор шел о прошении руководителей Академии расширить русло нашей реки и углубить фарватер Скуамскотта, чтобы улучшить гребную трассу для команды Академии: дело в том, что лодки уже несколько раз застревали в болоте во время отлива. Участок берега, за счет которого предполагалось расширить русло, представлял собой затопляемый приливами болотистый мыс, непосредственно граничащий с карьером Мини. Это была совершенно непригодная земля, однако ею владел мистер Мини, и его возмущало, что Академия хочет оттяпать ее – «просто ради забавы!» – как сказал он.
– Мы ведь говорим о болоте, а не о граните, – заметил представитель Академии.
– А я толкую об нас и об них! – в сердцах крикнул мистер Мини, и это заседание вошло в историю. Чтобы заседание городского совета Грейвсенда вошло в историю, достаточно хорошей свары. Скуамскотт расширили, канал прорыли. Город решил, что если там просто грязь, то не важно, кому она принадлежит.
– Ты будешь учиться в Академии, Оуэн, – настаивала мама. – И никаких разговоров. Если кому и место в приличной школе – так это тебе. Да ведь эту Академию и создавали-то для таких, как ты, – а для кого же еще?
– МЫ УПУСТИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО, – угрюмо сказал Оуэн. – ТОТ МУЖЧИНА, ЧТО ЧИНИЛ ЦЕРКОВНУЮ КРЫШУ, – ЕМУ НУЖНО БЫЛО ПОМОЧЬ.
– Не спорь со мной, Оуэн, – не унималась мама. – Ты будешь учиться в Академии, пусть мне для этого придется усыновить тебя. Я украду тебя, если потребуется!
Но такого упрямца, как Оуэн, еще свет не видывал. Мы проехали целую милю, прежде чем он отозвался. Он сказал: «НЕТ, НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ».
Грейвсендскую академию основал в 1781 году преподобный Эмери Херд, первый последователь первого в Америке Уилрайта и его незаурядных убеждений. Херд был бездетным пуританином, обладавшим, по словам Уолла, «ораторским даром, способным убеждать в преимуществах Учености и ее благом свойстве воспитывать в людях Добродетель и Благочестие». Интересно, как преподобный мистер Херд отозвался бы об Оуэне Мини? Херд задумывал создать такую академию, из которой «молодой человек, уличенный в тлетворном влиянии на сверстников, подлежит исключению в течение часа»; академию, где каждый ученик «будет работать не покладая рук и в трудах этих усердно учиться».
Что касается денег, оставшихся у мистера Херда после этого, то он пустил их на «просвещение американских индейцев и обращение их в христианскую веру». На закате жизни преподобный мистер Херд, все время ревностно следивший, чтобы Грейвсендская академия служила своему благочестивому и богоугодному предназначению, прославился тем, что целыми днями прохаживался по Уотер-стрит в центре Грейвсенда, выискивая юных нарушителей: в частности, молодых людей, что забывали снимать перед ним шляпу, и юных леди, что забывали приседать в реверансе. В ответ на подобный проступок Эмери Херд с радостью делился с этими молодыми людьми крупицами своей премудрости; под конец жизни от его премудрости и правда остались одни крупицы.
Мне пришлось наблюдать, как подобным же образом по крупицам утрачивает рассудок моя бабушка. Когда она была уже настолько стара, что не помнила почти ничего – даже меня, не говоря уже об Оуэне Мини, – она иногда вдруг разражалась упреками в адрес всех, кто ее в этот момент окружал.
– Почему никто не снимает шляпу? – стенала и всхлипывала она. – Верните поклоны! Верните реверансы!
– Успокойся, бабушка, все вернется, – утешал я ее.
– Ах, да откуда тебе знать? – с досадой говорила она, а затем спрашивала: – Кто ты, кстати, такой?
– ЭТО ТВОЙ ВНУК, ДЖОННИ, – отвечал я, стараясь как можно точнее изобразить голос Оуэна Мини.
И тогда бабушка говорила:
– Бог ты мой, он все еще здесь? Он все еще здесь, этот чудной мальчишка? Ты что, закрыл его там в подвале, а, Джонни?
Спустя некоторое время, тем же летом, когда нам обоим было по десять лет, Оуэн сообщил, что моя мама приходила поговорить с его родителями.
– Ну и что они сказали? – спросил я его.
Оуэн ответил, что они вообще ни словом ему об этом не обмолвились, но он все равно знает, что она приходила.
– У НАС В ДОМЕ ПАХЛО ЕЕ ДУХАМИ, – пояснил он. – ОНА, ВЕРНО, ПРОБЫЛА ТАМ ДОЛГО, ПОТОМУ ЧТО ПАХЛО ПОЧТИ ТАК ЖЕ СИЛЬНО, КАК В ТВОЕМ ДОМЕ. МОЯ МАМА ВЕДЬ ВООБЩЕ НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ ДУХАМИ, – добавил он.
Этого он мог мне и не говорить. Миссис Мини не только не выходила на улицу – она старалась даже не смотреть туда. Когда бы и у какого окна я ни видел ее, всякий раз это был профиль – она словно бы старательно избегала разглядывать мир и в то же время своей позой словно давала понять, что еще не окончательно от него отвернулась. Мне как-то пришло в голову, что она стала такой из-за католиков – что бы они там ни сделали, это, несомненно, имело основания таинственно называться НЕВЫРАЗИМЫМ ОСКОРБЛЕНИЕМ, от которого, как уверял Оуэн, пострадали его отец и мать. Было в этом упрямом самозаточении миссис Мини что-то такое, что наводило на мысль если не о вечном проклятии, то уж о религиозном преследовании точно.
– Как там прошло у Мини? – спросил я маму.
– Они сказали Оуэну, что я там была? – удивилась она.
– Да нет, они-то не сказали. Просто он узнал твои духи.
– Ну еще бы, – улыбнулась мама. По-моему, она знала, что Оуэн влюблен в нее – да что там, все мои друзья были влюблены в нее. Если бы она дожила до того времени, когда они стали подростками, несомненно, их увлечение ею переросло бы в страсть, невыносимую и для них, и для меня.
Хотя мама и не поддавалась искушению, перед которым не могли устоять мои сверстники, – иными словами, удерживалась от того, чтобы брать Оуэна Мини на руки, – но она уступала желанию погладить его. К этому мальчишке руки тянулись сами собой. Оуэн был чертовски симпатичный – словно пушистый зверек, если не считать его голых, почти прозрачных ушей торчком, придававших его заостренной мордочке что-то крысиное. Бабушка говорила, что Оуэн напоминает ей новорожденного лисенка. Все, кто гладил Оуэна, обычно избегали прикасаться к его ушам, которые даже на вид казались холодными. Однако мама моя делала все наоборот: она даже растирала эти его мягкие податливые уши, словно пытаясь их согреть. Она прижимала Оуэна к себе, целовала его, терлась своим носом о его нос. Все это выходило у нее настолько естественно, как если бы она проделывала это со мной, однако больше ни с кем из моих друзей она себе этого не позволяла – даже с моими двоюродными братьями и сестрой. И надо сказать, Оуэн отвечал ей взаимной нежностью; иногда он отчаянно краснел, но всегда улыбался. Его почти все время насупленные брови вдруг разглаживались, а лицо застенчиво озарялось неким светом.
Отчетливее всего он запомнился мне в те моменты, когда стоял рядом с мамой: его лицо находилось как раз на уровне ее девичьей талии. Привстав на цыпочки, он мог коснуться своей макушкой ее груди. Когда она сидела на стуле и он подходил к ней, чтобы получить причитающиеся ему объятия и поцелуи, его лицо оказывалось точнехонько у ее грудей. Мама была из тех полногрудых девушек, которым идет облегающая одежда: у нее была прекрасная фигура; она знала это и, чтобы еще больше подчеркнуть ее, носила обтягивающие свитера по тогдашней моде.
Насколько серьезен был Оуэн, можно судить хотя бы по тому, что мы могли обсуждать мам всех наших друзей, и при этом Оуэн совершенно откровенно оценивал достоинства моей мамы. Он мог не стесняясь выкладывать мне все, что думает, потому что я знал: он не шутит. Оуэн никогда не шутил.
– ИЗ ВСЕХ МАМ У ТВОЕЙ САМАЯ КРАСИВАЯ ГРУДЬ.
Скажи такое кто-нибудь другой из моих приятелей, я бы ему этого так просто не спустил.
– Ты серьезно? – спросил я его.
– АБСОЛЮТНО. САМАЯ КРАСИВАЯ, – подтвердил он.
– Как насчет миссис Виггин? – спросил я тогда.
– ВЕЛИКОВАТА, – сказал Оуэн.
– А у миссис Уэбстер? – продолжал я.
– СЛИШКОМ ПЛОСКАЯ, – ответил он.
– У миссис Меррил? – не унимался я.
– ОЧЕНЬ СМЕШНАЯ, – ответил Оуэн.
– Мисс Джадкинс?
– НЕ ЗНАЮ, – сказал он. – Я НЕ ПОМНЮ, КАКАЯ У НЕЕ ГРУДЬ. НО ОНА ПОКА ЕЩЕ НЕ МАМА
– У мисс Фарнум? – не отставал я от него.
– ДА ТЫ ИЗДЕВАЕШЬСЯ, ЧТО ЛИ? – не выдержал Оуэн.
– А у Кэролайн Перкинс?
– КОГДА-НИБУДЬ, МОЖЕТ БЫТЬ, У НЕЕ БУДЕТ… – сказал он серьезно. – НО ОНА ВЕДЬ ТОЖЕ ПОКА НЕ МАМА.
– Айрин Бэбсон? – продолжал я.
– У МЕНЯ ВНУТРИ ОТ НЕЕ ЧТО-ТО ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ, – сказал Оуэн и, помолчав, добавил с тихим благоговением: – ТАКИХ, КАК ТВОЯ МАМА, БОЛЬШЕ НЕТ. К ТОМУ ЖЕ ОТ НЕЕ ПАХНЕТ ЛУЧШЕ ВСЕХ.
Тут я мог с ним полностью согласиться: от моей мамы всегда пахло чем-то неповторимо-замечательным.
Не каждый друг станет оценивать грудь вашей мамы, чтобы таким странным способом сделать вам приятное. Но ведь моя мама и вправду была признанной красавицей, а непосредственность Оуэна исключала малейший подвох. Ему можно было доверять – абсолютно.
Мама часто возила нас на машине. Она отвозила меня к карьеру, чтобы я поиграл с Оуэном; она забирала Оуэна и привозила к нам, а потом везла его домой. Гранитный карьер Мини находился милях в трех от центра города – в общем-то, не так уж далеко, можно и на велосипеде доехать, вот только дорога все время в гору. Так что мама часто отвозила меня туда на машине вместе с велосипедом, а потом я сам возвращался на нем домой. Или наоборот: Оуэн приезжал ко мне на велосипеде, а мама потом доставляла его домой, вместе с велосипедом. В общем, она так часто была для нас за шофера, что, вполне возможно, привыкла воспринимать Оуэна как второго сына. А если учесть, как часто в маленьких городках мамам достается роль шофера, Оуэн имел основания воспринимать ее как родную маму в большей мере, чем собственную.
Мы с Оуэном редко заходили к нему в дом. Мы играли среди отвалов породы, в карьерах или у реки, а по воскресеньям залезали на выключенное оборудование, воображая, будто ведем разработку в карьере или боевые действия.
По-моему, Оуэну его дом представлялся таким же неуютным и чужим, как и мне. Когда на улице стояла ненастная погода, мы шли ко мне, а поскольку в Нью-Хэмпшире погода чаще бывает ненастной, то и играли мы чаще у меня.
Сегодня мне кажется, что мы только и делали, что играли. В то лето, когда не стало моей мамы, нам с Оуэном было одиннадцать лет. Мы играли свой последний сезон в Малой лиге, которая нам уже порядком надоела. Бейсбол, по-моему, вообще игра довольно скучная, и последний сезон в Малой лиге – это лишь прелюдия ко всей той скукоте, что ждет многих американцев во взрослом бейсболе. Канадцы, к сожалению, тоже играют в бейсбол и смотрят его. Это игра, где больше ожидания, чем действия; причем ожидание все нарастает, а действие сходит на нет. В Малой лиге, слава Богу, хоть играют побыстрее, чем во взрослой. Мы по крайней мере не тянули время, театрально сплевывая и похлопывая себя по бокам или по ляжкам, чтобы изобразить нервозность – без чего во взрослом спорте, похоже, просто не обойтись. Но все равно приходится ждать в промежутках между бросками питчера, ждать, пока кэтчер с судьей сойдутся во мнении насчет очередной подачи, ждать, пока кэтчер рысцой подбежит к питчеру и подскажет ему, как бросать следующий мяч, ждать, пока тренер вразвалку выйдет на поле и озабоченно обсудит с питчером и кэтчером тактические тонкости следующей подачи…
В тот день шел уже последний иннинг, и мы с Оуэном просто ждали, когда эта игра наконец закончится. Нам уже все наскучило до предела, никому и в голову не могло прийти, что с окончанием игры должна закончиться и чья-то жизнь. Мы проигрывали безнадежно. Игру спасти было уже нельзя, и наши запасные так часто и беспорядочно сменяли игроков первого состава, что я просто запутался, кто за кем бьет, – мало того, я уже не знал, когда очередь брать биту мне самому. Я уже собирался спросить об этом нашего славного менеджера и тренера, толстого мистера Чикеринга, как тот вдруг повернулся к Оуэну Мини и сказал:
– Оуэн, будешь бить вместо Джонни!
– Но я не знаю, когда моя очередь бить, – сказал я мистеру Чикерингу, однако он меня не услышал. Он смотрел куда-то в сторону от игрового поля. Ему тоже уже надоела эта игра, и, как и все мы, он просто ждал, когда все закончится.
– Я ЗНАЮ, КОГДА ТЕБЕ БИТЬ, – сказал Оуэн.
Что меня вечно в нем раздражало, – он всегда все знал. Сам в этой идиотской игре почти не участвует – но следит за каждой мелочью.
– ЕСЛИ ПРОХОДИТ ГАРРИ, ТОГДА БЬЕТ БАЗЗИ, А Я СЛЕДУЮЩИЙ НА ОЧЕРЕДИ, – сказал Оуэн. – ЕСЛИ ПРОХОДИТ БАЗЗИ, Я БЬЮ.
– Можешь не надеяться, – сказал я. – Или у нас еще только один аут?
– ДВА АУТА, – отозвался Оуэн.
Тем временем вся наша скамейка запасных смотрела куда-то в сторону – даже Оуэн, – и мне наконец стало интересно, что могло так привлечь их внимание. Я обернулся и увидел: это была моя мама. Она только что приехала. Она всегда приезжала под конец, потому как ей тоже было скучно смотреть всю игру. Каким-то шестым чувством она всегда угадывала, когда нужно приехать, чтобы забрать нас с Оуэном домой. Летом вместо свитера ее фигуру облегал легкий трикотаж. У нее тогда был красивый золотистый загар, который оттенялся белым хлопчатобумажным платьем, обтягивающим грудь и талию, но с широкой юбкой. Волосы, высоко подобранные и перехваченные легким красным шарфом, не закрывали красивых обнаженных плеч. Она не следила за игрой, а стояла у левой боковой линии, за третьей базой, и всматривалась в полупустые открытые трибуны, стараясь, наверное, разглядеть, нет ли там кого-нибудь из знакомых.
Я понял, что все кругом смотрят на нее. Вообще-то я не находил тут ничего особенного. На маму вечно все заглядывались, но в тот день всеобщее внимание казалось особенно напряженным, – а может, мне это запомнилось так остро, потому что тогда я видел ее живой в последний раз. Питчер смотрел на плиту домашней базы, кэтчер ждал броска; бэттер, я думаю, тоже ждал броска, но даже полевые игроки, все как один, повернули головы в сторону моей мамы и пялились на нее. И все, кто сидел на нашей скамейке, тоже не могли оторвать от нее глаз – особенно мистер Чикеринг, да и Оуэн тоже. Пожалуй, я среди всех оставался самым равнодушным. Мама оглядывала трибуну, а вся трибуна, не отрываясь, глазела на нее.
Судья зафиксировал четвертый бол: питчер, верно, тоже отвлекся и краем глаза поглядывал на мою маму. Гарри Хойт перешел на первую базу. Баззи Тэрстон приготовился бить, следующим на очереди шел Оуэн. Он встал со скамейки и начал выбирать самую маленькую биту. Баззи слабо отбил мяч, и тот покатился по земле – это был верный аут, и мама так ни разу и не повернула головы в сторону поля. Она медленно двинулась вдоль левой боковой линии, прошла мимо игроков у третьей базы, продолжая оглядывать трибуны; тем временем шорт-стоп прошляпил мяч Баззи Тэрстона, и, пока он его догонял, все раннеры спокойно успели добежать до баз.
Оуэн занял свое место на площадке бэттера.
О том, насколько всем надоел этот матч – и насколько безнадежно он уже был проигран, – можно понять хотя бы из того, что мистер Чикеринг разрешил Оуэну отбивать. Видно, мистер Чикеринг тоже хотел поскорее уйти домой.
Обычно он говорил: «Смотри в оба, Оуэн!» Это означало: «Стой спокойно, и заработаешь переход на базу». Это означало: «Не снимай биту с плеча». Это означало: «Ни в коем случае не вздумай замахиваться».
Но на этот раз мистер Чикеринг сказал:
– Отбивай, малыш!
– Расколи этот мяч надвое, Мини! – крикнул кто-то со скамейки и покатился со смеху, довольный собственной шуткой.
Оуэн с достоинством смотрел на питчера.
– Врежь как следует, Оуэн! – крикнул я.
– Отбивай, Оуэн! – повторил мистер Чикеринг. – Отбивай!
На нашей скамейке уже смирились с поражением: всем было пора домой. Пусть Оуэн попробует отбить, промажет три раза – и все свободны. Вдобавок ко всему мы не прочь были повеселиться, наблюдая за его потешными попытками размахнуться неподъемной битой.
Первый бросок питчера ушел далеко в сторону, и Оуэн дал мячу спокойно пролететь мимо.
– Ну что ж ты? – снова крикнул мистер Чикеринг. – Отбивай же!
– БЫЛО СЛИШКОМ ДАЛЕКО! – отозвался Оуэн. Он всегда все делал строго по правилам, Оуэн Мини, – следуя каждой букве.
Следующий мяч едва не угодил Оуэну в голову, так что ему пришлось падать вперед на утоптанную землю, окружавшую плиту домашней базы, лицом прямо в траву. Второй бол. Отряхивая форму, Оуэн поднял вокруг себя облако пыли, что вызвало новый взрыв хохота на скамейке. Теперь все ждали, пока он приведет себя в порядок
Мама в это время стояла спиной к третьей базе; она наконец разглядела на открытой трибуне кого-то из знакомых и замахала рукой. Она уже прошла мимо холщовой подушки третьей базы и стояла прямо на линии, но все же ближе к третьей базе, чем к домашней, – и в этот самый момент Оуэн начал отбивать. Всем показалось, что его бита начала движение за мгновение до того, как мяч расстался с рукой питчера, – тот постарался бросить его сильно и без всяких ухищрений, что вообще типично для игр Малой лиги, – но Оуэн уже успел размахнуться как следует, и потому удар вышел чудовищной силы. Оуэн принял мяч в самой удобной точке – немного впереди себя, на уровне груди. Никто не мог представить, что он способен ударить так мощно, – впрочем, его самого это, кажется, настолько потрясло, что он впервые на моей памяти сумел после подачи устоять на ногах.
Треск от удара биты по мячу оказался небывало резким и громким для Малой лиги, так что этот звук привлек даже рассеянное внимание моей мамы. Она повернула голову к домашней плите – ей, верно, стало интересно, кто это так мастерски «выстрелил», – и в это самое мгновение мяч угодил ей точно в левый висок, сбив ее с ног так стремительно, что, сломав каблук, мама упала лицом к трибунам, разведя колени и не успев даже выставить вперед руки, чтобы хоть немного смягчить падение. Позже поговаривали, будто она умерла еще до того, как коснулась земли.
Насчет этого ничего определенного сказать не могу; но то, что она была мертва, когда к ней подбежал мистер Чикеринг – а он подбежал к ней первым, – это факт. Он приподнял ей голову, потом повернул слегка поудобнее; кто-то потом сказал, что он закрыл ей глаза, прежде чем снова опустить ее голову на землю. Я помню, как он поправил ей юбку – она задралась до середины бедер – и сложил вместе колени. Затем встал, снял свою спортивную куртку и поднял ее перед собой, словно тореадор. Я первым из всех игроков домчался до третьей базы, но мистер Чикеринг при всей своей тучности оказался на удивление проворным. Он успел перехватить меня и накинуть куртку мне на голову, чтобы я ничего не мог видеть. Сопротивляться было бесполезно.
– Нет, Джонни, не надо! – сказал мистер Чикеринг. – Не надо тебе туда смотреть.
Память творит чудовищные вещи: вы можете что-то забыть, но она – нет. Она просто регистрирует события. И хранит их для вас – что-то открыто, а что-то прячет до поры до времени, – а потом возвращает, когда ей вздумается. Вы думаете, это вы обладаете памятью, а на самом деле это она обладает вами.
Позже я вспомню все. Сейчас, вызывая в памяти картину смерти моей мамы, я могу вспомнить всех, кто в тот день был на трибунах; помню я и тех, кого там не было. Помню, кто мне что говорил и чего не говорил. Но, вспоминая эту сцену в первый раз, я сумел восстановить очень мало подробностей. Я помню инспектора Пайка, нашего главного грейвсендского полицейского, – много лет спустя я буду встречаться с его дочкой. А тогда инспектор Пайк привлек мое внимание только тем, что задал ужасно нелепый вопрос, – и еще абсурднее было то, как он пытался добиться ответа на него.
– Где мяч? – спросил инспектор, когда, выражаясь полицейским языком, место происшествия было очищено. Маму уже унесли, а я сидел на коленях у мистера Чикеринга, и его спортивная куртка по-прежнему покрывала мою голову – но теперь уже потому, что это я так хотел; я сам накрылся ею.
– Мяч? – недоуменно переспросил мистер Чикеринг. – Тебе нужен этот паршивый мяч?!
– Ну, ведь это, как ни крути, орудие убийства, – пояснил инспектор Пайк, которого звали Беном. – Непосредственная причина смерти, если можно так выразиться, – добавил он.
– Орудие убийства! – воскликнул мистер Чикеринг и больно стиснул меня. Мы сидели и ждали, пока за мной приедет бабушка или мамин муж – Причина смерти! – повторил он. – Господи, Бен, ты в своем уме – это же бейсбольный мяч!
– Ну да, верно. И где же он? – спросил инспектор Пайк – Если этим мячом кого-то убило, мне положено взглянуть на него. Вернее даже сказать, я должен забрать его с собой.
– Да не будь ты мудаком, Бен! – не выдержал мистер Чикеринг.
– Его забрал кто-то из твоих ребят? – не отступался инспектор.
– Чего ты ко мне пристал? Вот их и спрашивай! – огрызнулся наш толстяк тренер.
Когда полицейские фотографировали мамино тело, всех игроков заставили уйти за трибуну. Они до сих пор толпились там, угрюмо уставившись поверх пустых скамеек на роковую площадку. В толпе среди ребят стояло несколько взрослых – чьи-то мамы и папы, страстные поклонники бейсбола. Позже я вспомню, как услышал в темноте голос Оуэна – в темноте потому, что голова моя была все еще покрыта спортивной курткой нашего менеджера:
– ПРОСТИ, Я НЕ ХОТЕЛ!
Спустя годы все эти мелкие подробности вернутся ко мне – я вспомню всех, кто стоял там за трибуной, равно как и всех, кто сразу ушел домой.
Но тогда я просто стянул с головы куртку, и все, что я понял в тот момент, – Оуэна Мини нет среди стоящих за трибуной. Мистер Чикеринг, должно быть, подумал о том же.
– Оуэн! – позвал он.
– Он ушел домой! – отозвался чей-то голос.
– У него был велосипед! – добавил кто-то другой.
Я легко мог представить себе, как Оуэн с трудом взбирается на своем велосипеде вверх по Мейден-Хилл-роуд – поначалу крутит педали сидя в седле, потом постепенно выбивается из сил, привстает и еще немного продвигается вперед судорожными рывками, раскачивая велосипед из стороны в сторону. В конце концов ему приходится слезть и вести велосипед рядом с собой. Где-то там вдалеке виднеется река. В то время бейсбольные формы делались из колючей шерсти, и мне живо представлялся отяжелевший от пота свитер Оуэна с огромной цифрой «3» на спине – такой огромной, что, когда он заправлял свитер в штаны, оставалась видна только половина цифры и все, кто встречал его на Мейден-Хилл-роуд, конечно же, решали, что это двойка.
Понятное дело, ему незачем было оставаться на стадионе. Раньше после матча его вместе с велосипедом отвозила домой моя мама.
Мяч, конечно, забрал Оуэн, подумал я. Он ведь коллекционер, одни его бейсбольные карточки чего стоят. «В конце концов, – сказал как-то спустя годы мистер Чикеринг, – это был единственный раз, когда он сумел прилично ударить. Единственный раз, можно сказать, приложился по-настоящему. И надо же – все равно промазал. Не говоря уж о том, что человека убил».
Ну и что, если это и вправду Оуэн забрал мяч? – думал я. Хотя, признаться, в тот момент мои мысли больше занимала мама. Уже тогда я начал злиться на нее за то, что она так и не открыла мне, кто мой отец.
В то время мне было всего одиннадцать; я понятия не имел, кто еще мог видеть нашу игру и стать свидетелем этой смерти – и у кого могли быть свои причины забрать мяч, по которому ударит Оуэн Мини.








