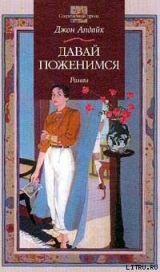
Текст книги "Давай поженимся"
Автор книги: Джон Апдайк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
– Почему ты меня впустила, Руфи-детка?
– Потому что ты попросил.
– А никто раньше не просил?
– Во всяком случае, я этого не замечала.
Ричард глубоко вобрал в себя воздух, рывком оторвался от ее груди; она с грустью почувствовала, как он уходит из ее жизни, отступает в перспективу.
– Просто не понимаю, – сказал он, – почему вы с Джерри не работаете в постели. Очень ты лихо все умеешь.
Она сжала его коленями и принялась качать – туда, сюда, чуть нетерпеливо, точно ребенка, который не желает засыпать. Зря он упомянул про Джерри: это грозит все испортить. Дом затрясся, и через мгновение, взрывая звуковой барьер, над ними, в безграничной синеве за окном, пронесся реактивный самолет. На другом конце дома захныкал в своей кроватке Джоффри. Ричарду пора уходить, но пока он здесь, надо его использовать. Надо учиться.
– Так принято говорить? – спросила она. – “Лихо умеешь”? – В ее устах это прозвучало до того странно, что Руфь покраснела, хотя и лежала совсем голая.
Ричард посмотрел на нее сверху вниз; своей пухлой, казалось, бескостной рукой он провел по ее волосам, зрячий глаз его словно впивал ее лицо, на котором читался испуг. Она заставила себя посмотреть ему в глаза – уж это-то она может для него сделать.
– Никто, значит, никогда не говорил тебе, – сказал он, поглаживая ее, – какая ты пикантная штучка.
Таким уж он сам себе виделся: учитель, учитель житейской мудрости, В ту весну и лето 1961 года они встречались в основном чтоб поболтать, а не затем, чтобы лечь в постель. Зная, с каким презрением Джерри относится к Ричарду и как гордится самим собой, Руфь понимала, что изменяет мужу не тогда, когда отдается другому, ибо ей решать, кому дарить свое тело, а когда рассказывает о тайном страхе, который снедает Джерри и которым он делится только с ней.
– Он говорит, что видит всюду смерть – в газетах, в траве. Он смотрит на детей и говорит, что они высасывают из него жизнь. Говорит, что их слишком много.
– А он когда-нибудь ходил к психиатру? – Ричард зацепил палочками кусочек водяного ореха и отправил в рот. Они сидели в китайском ресторане ярким июльским днем. Занавески на окнах были задернуты, отчего казалось, что за окном не полдень, а янтарный вечер.
– Он презирает психиатрию. Из себя выходит, стоит мне намекнуть, что у него со здоровьем не все в порядке. Когда я говорю, что не боюсь смерти, он называет меня духовно неполноценной. Говорит, я не боюсь, потому что лишена воображения. Под этим он, видимо, подразумевает, что у меня нет души.
Ричард, потягивая мартини – третий по счету, – почесал костяшкой пальца нос.
– Вот уж никогда не думал, что этот малый до такой степени псих. Я бы попросту списал его как депрессивного маньяка, если бы не эти мысли о смерти, – тут уж пахнет психопатией. А на его работе это не отражается?
– Он говорит, что по-прежнему в состоянии работать, хотя у него уходит на это в два раза больше времени, чем раньше. Он ведь сейчас, главным образом, ходит по совещаниям да поставляет идеи, а осуществляют их другие. Он уже не рисует дома, а мне жаль. Даже в ту пору, когда все его работы возвращали нам по почте, приятно было видеть его за делом. Он всегда рисовал под радио – говорил, это помогает ему наносить краску.
– Но Эла Каппа[15]15
Эл Капп – американский карикатурист.
[Закрыть] из него все-таки не вышло.
– Он никогда к этому и не стремился.
– Мне нравится твоя лояльность, – сказал Ричард: в тоне его звучала непоколебимая самовлюбленность – черта, характерная для обоих Матиасов.
У Руфи перехватило дыхание, и она уставилась в тарелку: она ведь была так далека от мысли, что совершает страшную ошибку.
– Лояльности тут маловато, – сказала она. – У меня сейчас такое чувство, будто мы с тобой проникли в его мозг и сделали его еще хуже. Он говорит – я отсутствую.
– Где отсутствуешь?
– Меня нет. Нигде. Нет с ним. Ну, ты понимаешь.
– То есть ты чувствуешь себя теперь моей, а не его?
Ей не хотелось показывать Ричарду, сколь неприятна ей эта мысль, да и сама терминология. Она сказала:
– Я не уверена, что я вообще чья-либо. Возможно, в этом моя беда.
Крупинка риса прилипла к его нижней губе, точно окурок.
– Попытайся объяснить, – сказал он, – что это за ерунда насчет твоего отсутствия. Ты хочешь сказать – в постели?
– Я стала лучше в постели. Благодаря тебе. Но, похоже, это не имеет для него значения. Прошлой ночью, после всего, он разбудил меня около трех и спросил, почему я его не люблю. Оказалось, он бродил по дому, читал Библию и смотрел всякие страсти по телевидению. У него бывают такие приступы, когда ему трудно дышать лежа. У тебя рисинка на губе.
Он смахнул ее нарочито подчеркнутым жестом, показавшимся Руфи комичным.
– И давно у него эти неприятности с дыханием? – спросил он.
– Это появилось еще до того, как у нас с тобой началось. Но лучше ему не стало. Я почему-то думала, что станет. Не спрашивай – почему.
– Так. Значит, я спал с тобой, чтобы избавить Джерри от астмы. – Саркастический смех у Ричарда звучал не очень убедительно.
– Не передергивай, пожалуйста.
– Я и не передергиваю. Ведь совершенно ясно, на что ты намекаешь. Ты намекаешь, что я для тебя – эдакий козел отпущения. Не извиняйся. Все эти годы я был козлом отпущения для Салли. Что ж, теперь могу сыграть эту роль и для тебя.
Он молил ее сказать, что она его любит. А она не могла заставить себя произнести эти слова. Она всегда знала, что у них с Ричардом нет будущего, но только сейчас поняла, сколь кратковременно их настоящее. Его голова в янтарном свете казалась огромной – неестественная, непропорциональная голова, надетая поверх настоящей, из которой глухо, словно из бочки, вылетали слова.
– Надоело мне все, – сказала вдруг она. – Не создана я для романов. Все лето у меня были нелады с желудком, и я чувствую себя ужасно подавленной после наших встреч. А он мою ложь даже и не слушает. Я все думаю: если бы он знал, развелся бы он со мной?
Ричард резко, со стуком опустил палочки на пустую тарелку.
– Никогда, – сказал он. – Он никогда не разведется с тобой – ты ведь для него как мать. А человек, черт возьми, не разводится со своей матерью. – В его словах была такая безнадежность, что ей захотелось плакать; должно быть, он почувствовал это, ибо голос его зазвучал мягче.
– Как жратва – понравилась? Похоже, чоу-мейн был консервированный.
– Мне все показалось вкусным, – решительно заявила Руфь.
Он накрыл ее руку ладонью. Ее поразила схожесть их рук: его рука была слишком для него маленькая, а у нее – слишком для нее большая.
– Ты очень выносливая, – сказал он. Это прозвучало и как комплимент, и как прощание.
Окончательно она порвала с ним в сентябре, Джерри напугал ее, услышав часть их телефонного разговора. Она думала, что он подметает задний двор. А он неожиданно появился из кухни и спросил:
– Это кто, звонил? Ее охватила паника.
– Да так, ерунда. Одна женщина из воскресной школы спрашивала, собираемся ли мы записывать Джоанну и Чарли.
– Слишком они там стали деятельны и назойливы. Что ты сказала?
– Я сказала – конечно, собираемся.
– Но я слышал, ты сказала – нет.
А Ричард спрашивал, не согласится ли она пообедать с ним на будущей неделе.
– Она спросила, собираемся ли мы водить и Джоффри.
– Конечно, нет, – сказал Джерри, – ему ведь еще нет и трех. – И, сев за стол, принялся листать субботнюю газету. Он всегда открывал ее на странице с комиксами, словно надеясь найти там себя. – Почему-то, – сказал он, не глядя на нее, – я тебе не верю.
– Но почему же? Что ты такое услышал?
– Ничего. Все дело в твоей интонации.
– Вот как? А какая же у меня была интонация? – Ей хотелось хихикнуть.
Он смотрел куда-то в пространство, словно решал некую эстетическую проблему. Он выглядел усталым, юным и тощим. Волосы у него были слишком коротко пострижены.
– Не такая, как всегда, – сказал он. – Более теплая. Это был голос женщины.
– Но ведь я и есть женщина.
– Когда ты говоришь со мной, – сказал он, – голос у тебя совсем девчоночий.
Она хмыкнула и стала ждать следующего, более сильного удара. А он снова углубился в изучение страницы с комиксами. Ей захотелось обнять этого слепца.
– Такой ясный, холодный, девственный, – добавил он. У нее исчезло желание его обнимать.
Как-то на следующей неделе она поехала за покупками в маленький торговый центр Гринвуда. Во всех витринах была выставлена одежда для школьников, а у Гристеда пахло яблоками. Воздух над телефонными проводами, казалось, выстирали и заново повесили. Полисмены снова надели форму с длинными рукавами. Над входом в магазин мелочей сняли полотняный навес. Направляясь к своему “фолкону” с двумя бумажными пакетами, полными продуктов, она увидела возле парикмахерской “мерседес” Ричарда. Она замедлила шаг, проходя мимо открытой двери, из которой запах бриллиантина выплескивался на панель, и увидела его – широкий, грузный, в своей обычной клетчатой рубашке, он сидел, ожидая очереди. Сердце ее устремилось к нему – ей не хотелось, чтобы он стригся. Ричард увидел ее, выбросил сигарету и, поднявшись с кресла, вышел на улицу.
– Не хочешь чуть-чуть прокатиться?
Это “чуть-чуть” прозвучало для нее укором. Она ведь избегала его. Он стоял, моргая на ярком солнце, незащищенный, неуверенный в следующем шаге, – неприкаянный призрак, оставшийся от развеявшегося сна. Как странно, подумала Руфь, что можно спать с человеком и видеть в нем лишь постороннего человека – не больше. Она пожалела Ричарда и, согласившись прокатиться, поставила на переднее сиденье пакеты с покупками – громоздкие и шуршащие, словно старухи-компаньонки. В его машине знакомо пахло немецкой кожей, американскими конфетами, пролитым вином… Ричард выбрался из центра и повел машину мимо типичных коннектикутских домиков, глубоко и плотно упрятанных в одеяла зелени, – к городской окраине, где вдали от воды еще сохранился заповедный редкий лес.
– Я скучаю по тебе, – сказал он. Руфь почувствовала, что не может не сказать: “Я тоже по тебе скучаю”.
– Тогда что же происходит? Вернее, почему ничего не происходит? Разве я сделал что-то не так?
Руфи бросилось в глаза, пока они, подпрыгивая на выбоинах давно не ремонтированной дороги, ехали к пруду, где зимой детишки катаются на коньках, – что иные деревья, высохшие, умирающие, уже начали терять листву.
– Ничего, – ответила она. – Ничего преднамеренного в моем поведении нет – просто дел прибавилось, кончилось лето. Все зверье возвращается в свои берлоги.
Желтые пятна мелькали за косматым черным облаком его волос.
– Знаешь, – сказал Ричард, – я ведь могу осложнить тебе жизнь.
– Каким образом?
– Сказать все Джерри.
– Зачем тебе это?
– Я хочу тебя.
– Не думаю, чтобы таким путем ты меня получил.
– Я ведь знаю тебя, Руфи-детка. Я так хорошо тебя знаю, что могу сделать тебе больно.
– Но не сделаешь. И вообще не пора ли тебе подыскать другую даму сердца?
Он рассказывал ей о романе, ускорившем его охлаждение к Салли; да и о других романах тоже. Руфь чувствовала себя тогда оскорбленной, хоть и промолчала: эти женщины показались ей такими вульгарными, да и Ричард говорил о них с нескрываемым презрением.
Он свернул на проселочную дорогу – две колеи в траве, – что вела к пруду. Дальше путь преграждала цепь; Ричард остановил машину. Между ними на переднем сиденье стояли пакеты с продуктами. На той стороне пруда одинокий рыбак общался со своим отражением. Было утро; дети, собиравшиеся здесь в течение всего лета, сейчас сидели в школе; она оставила Джоффри на попечении маляра, сдиравшего обои в гостиной, и обещала вернуться через полчаса. Все это промелькнуло в ее мозгу, пока она ждала, что предпримет Ричард. Он спросил ее:
– У тебя кто-то есть?
– Кроме Джерри? Другой роман? Не будь мерзким. Если бы ты хоть немного знал меня, ты бы даже не спрашивал.
– Возможно, я тебя и не знаю. Борись за то, чтобы узнал.
Раз он считает ее борцом, что ж, она будет бороться.
– Ричард, – сказала она, – я должна просить тебя не звонить мне больше домой. Джерри слышал часть нашего последнего разговора и потом такое нес, что мне стало страшно.
На его лице, повернутом к ней зрячим глазом, отразилось смятение: Руфь сама удивилась, какое это ей доставило удовольствие.
– Что именно?
– Ничего определенного. О тебе – ничего. Но, мне кажется, он знает.
– Повтори в точности, что он сказал.
– Нет. Это не имеет значения. Тебя, в общем-то, не касается, что он сказал. – Это перестало его касаться всего лишь секунду назад, когда он пришел в такое волнение при одной мысли, что Джерри знает. Если бы он любил ее, он бы только обрадовался, ему бы не терпелось в открытую вступить за нее в борьбу.
Ричард на ощупь вытянул сигарету из пачки в нагрудном кармашке.
– Ну что ж. – Он сунул слегка помятую сигарету в рот, поднес к ней спичку и выдохнул вверх, к крыше машины, широкую струю дыма. Нижняя губа его вытянулась, точно сток трубы. Он был пуст. Она поняла, что он мучительно ищет слова, которые не поставили бы его в ложное положение.
– Хочешь поблагодарить меня, – спросил он, наконец, – за очень приятную поездку?
– Ты не думаешь, что так будет лучше?
Далекий рыбак взмахнул удочкой, и птицы на деревьях обрушили на них град комментариев. Пакеты с продуктами у ее локтя зашуршали – там таяло мороженое и отпотевали банки с охлажденным апельсиновым соком. Романы, поняла Руфь, как и все вообще, слишком многого требуют. Всем нам приходится платить фантастическую цену за то лишь, что мы существуем. Она задумалась – внезапно в уголке ее глаза возник Ричард, и она вся сжалась, боясь, что он сейчас ударит ее. Он зло, с наигранной решительностью, потушил сигарету, ткнув ею в пепельницу на приборном щитке.
– Пошли, Руфь-детка, – со вздохом сказал он. – Мы же с тобой на себя не похожи. Давай погуляем. И не смотри на меня так – я тебя не удавлю. – А он наделен способностью ясновидящего: эта мысль у нее мелькнула.
Потом она будет вспоминать, как они шли вниз по затененной дорожке, над которой в пятнах солнечного света тучами толклась мошкара. Укрытые ветвями болотных кленов от глаз рыболова, они поцеловались. Ногам ее стало холодно: теннисные туфли ее отсырели, набравшись влаги из травы. Он возвышался над нею, словно диковинное теплое дерево, которое она обхватила руками, играя в прятки. Здесь, на природе, под прохладным небом, уже не казалось странным, что ее целуют, – это было так же естественно, как то, что мать мыла ей голову над кухонной раковиной с длинным медным краном или что продавец у Гристеда, где она была полчаса тому назад, дал ей сдачу. Руки Ричарда, вопреки обыкновению, как-то уныло лежали в изгибе ее спины, а не ниже.
– Пожалуйста, прости меня, – сказала она.
– И мы никогда больше не будем спать вместе? Завязано?
Она не выдержала и рассмеялась – уж очень смешно он это сказал, – потом взмолилась:
– Отпусти меня. Я даже похудела.
Словно для проверки он сжал ее талию.
– Кое-что еще осталось.
Они, наверное, еще о чем-то говорили, но в памяти Руфи все заслонили вибрирующие волны мошкары, ощущение мокроты и холода в ногах, образ рыболова, как бы осуществлявшего контроль над их расставанием с дальнего берега, где удочка и ее отражение в воде образовали своеобразную арку. Хотя порой по утрам, когда особых дел не было, ей и хотелось, чтобы зазвонил телефон, она все же была благодарна Ричарду за то, что он внял ей и в то же время по-прежнему подходил к ней на вечеринках, словно ожидая, что она, по старой памяти, поделится с ним некоей тайной. В общем-то, она не жалела, что в ее жизни был этот роман, и, застегивая молнии на зимних комбинезонах детей или ставя жаркое в духовку, не без удовольствия думала об этом приключении, сокрытом в прошлом. Ей казалось, что во всех отношениях она стала лучше и значительнее – почти такой, как надо: она не побоялась опасности и вынесла из пережитого умудренность опыта, сделалась женщиной более совершенной, терпимой. Было у нее все – и приятели в юности, и муж, и любовник; теперь вроде бы можно и успокоиться.
Она не намеревалась вечно скрывать это от Джерри. Оглядываясь назад, она все больше убеждалась в том, что пошла на этот шаг не столько ради себя, сколько ради него, и то, что она отдалась другому мужчине, стало казаться ей своеобразной жертвой – жертвой, никем не замеченной. Пока роман был в разгаре, она не раз представляла себе, что будет, когда Джерри узнает: удар грома, оглушительный грохот, изобличающий яркий свет, всеочищающее разрушение. Но брак их выстоял, тупо и прочно, словно заброшенный храм, в который никто не ходит, и когда она вернулась в его лоно, – сознание вины давило на нее, и она принялась надраивать полы, перебила диван синей парусиной, накупила специй для кухни, изучала тетрадки детей, словно каждая была частью Священного писания, – Джерри, по всей видимости, даже и не заметил, что она какое-то время отсутствовала. Мысли о Ричарде, воспоминание о физической близости с ним, физически острое предвкушение встречи какое-то время наполняли все ее существо; трепещущая, переполненная чувствами, открытая, стояла она перед зеркалом их брака – и не видела ничего, кроме пустоты. Знакомое ощущение. Ее отец был всецело занят любовью к ближнему, а мать – любовью к отцу, и Руфь выросла, считая, что ею пренебрегают. Она принадлежала к унитариям, и означало это лишь то, что душа у нее хоть и в крошечной степени, но все же существовала.
Незаметное возвращение Руфи к статусу верной жены произошло в мире, где все меняется. Чарли поступил в первый класс Гринвудской начальной школы; Джоанна, уверенная в себе девчушка с высоким лбом, пошла в третий класс. Эту юную особу превращение в женщину наверняка не смутит: вся страсть ее родителей той поры, когда оба учились в художественной школе, материализовалась в ней, их первом творении во плоти и крови. Постепенно Руфь набрала прежний вес, потерянный летом из-за неприятностей на нервной почве с желудком. Зима словно бинтом стянула пламенеющую осени. В тот год – первый год президентства Кеннеди – реки и озера замерзли рано и превратились в чудесные черные зеркала катков. Катаясь на коньках, Руфь летела и в полете обретала свободу. Она водила машину слишком быстро, пила слишком много и убегала на коньках вверх по реке, оставляя далеко позади Джерри и детей, – скользила стремительными, широкими рывками меж застывших стеною по берегам стройных серебряных деревьев. Желание летать появилось у нее после фиаско, которое она потерпела с Ричардом, – а это было фиаско, ибо если роман не закончился браком, то это фиаско.
И у Джерри вспышка религиозности постепенно сошла на нет. К весне полка с богословскими книгами уже утратила для него интерес – только листочки бумаги в каждом томике отмечали, сколько он прочел. Страх оставил после себя след – разухабистость. Джерри безудержно увлекся твистом, и на вечеринках, глядя, как он извивается в экстазе, взмокший от пота, Руфь словно видела перед собой таинственно возникшего сына, которым она могла лишь с опаской гордиться, – такой в нем чувствовался переизбыток энергии. Джерри бросил курить и принялся скупать модные пластинки, которые крутил до тех пор, пока не начинал подпевать в унисон: “Рожденный для утрат, я прожил жизнь напрасно…” Это выглядело бы нелепо и жалко – как-никак мужику тридцать лет, – если бы он не казался таким одурело счастливым. К нему вернулась легкая, беззаботная импульсивность – качество, запомнившееся Руфи со времени его ухаживания; зато Руфь вспомнить не могла, когда в последний раз считала его красивым, а теперь, стоило ему повернуться к ней лицом, ее пронзала мысль, что он – интересный мужчина. На щеках у него появился румянец, зеленые глаза смотрели лукаво. Его апатия и страх вызывали в ней чувство беспомощности и вины, и сейчас она радовалась его возрождению к жизни, хотя оно и несло с собой что-то для нее враждебное, непредсказуемое. Как-то вечером, вешая его брюки в шкаф, пока он играл во дворе с детьми в пятнашки, она с удивлением услышала легкое, чуть ли не музыкальное шуршание песка на полу. Он высыпался из-под манжет на брюках. О, да, пояснил Джерри после ужина, он останавливался на пляже – нет, не на гринвудском, а на другом, с индейским названием, тут как-то на днях, когда было тепло – заехал по пути со станции: так получилось, что он попал на более ранний поезд. Почему? Да потому, что был чудесный майский день – разве нужна другая причина? Она что – жена или тюремный надзиратель? Ему захотелось подышать соленым воздухом – вот он и погулял у воды, посидел немного среди дюн, там почти никого не было, лишь маленькая яхточка плавала в Саунде. Очень было красиво.
– Дети наверняка с удовольствием поехали бы с тобой.
– Ты свободна весь день – взяла бы да и свозила их.
Он смотрел на нее очень смело, и глаза у него были зеленые-зеленые, а вид задиристый из-за крошечной ссадины на переносице, и она вдруг поняла, почему он так нагло держится: он знает. Он узнал. Откуда? Должно быть, Ричард проболтался. Неужели все уже знают? Ну и пусть. Главное для нее – Джерри, и если он знает и при этом не мечет громы и молнии, – уже слава Богу. Весь вечер, глядя на детей, на посуду, на лицо Джерри, поочередно возникавшие перед ней, она мысленно обдумывала слова признания, объяснения. Как это объяснить? Самое лучшее сказать, что она пошла на это, чтобы стать совершеннее – как женщина и как жена. Она внимательно следила за тем, чтобы ситуация не вышла из-под ее контроля. И роман почти не оставил на ней следа. Эти признания, как и необходимость их сделать, страшили ее, и она уснула, чтобы избавиться от страха, в то время как Джерри молча листал страницы “Арт ньюс”. Она вновь ничего не увидела в зеркале, кроме пустоты.
За окнами их спальни, у дороги, стоял гигант вяз – один из немногих, оставшихся в Гринвуде. Молодые листики, только что вылезшие из почек, курчавились на нем, еще не успев набрать красок, – этакая пыль, дымка, недостаточно плотная, чтобы укрыть костяк ветвей. А ветви были корявые, могучие, вечные – неисчерпаемый источник поддержки и радости для глаз Руфи. Из всего, что находилось в поле ее зрения, этот вяз больше всего убеждал ее в наличии космической благодати. Если бы Руфь попросили описать Бога, она описала бы это дерево. По раскидистым нижним ветвям разгуливали голуби, точно прихожане по собору; в вольном воздухе над дорогой свисали усиками лозы веточки – они сладострастно и жадно пили свет, лениво прочесывая воздух, словно пальцы, опущенные в воду с каноэ. Руфь подумала, что не так уж и страшно умереть. Она лежала под стеганым одеялом и пыталась заснуть.
Энергичные шаги раздались внизу, покружили и направились наверх. Без приглашения Джерри залез к ней под одеяло. Она надеялась – хотя тут же решила, что, наверное, слишком многого хочет, – что он не станет приставать к ней со своей любовью. А он обхватил рукой ее талию и спросил:
– Ты счастлива?
– Не знаю.
– Ты устала?
– Да.
– Давай спать.
– А ты пришел не для того, чтоб приставать ко мне?
– Ни в коем случае. Я пришел, потому что ты последнее время такая грустная.
Колышущиеся очертания дерева, твердые, как камень, и прихотливые, как ветер, казались далекими, словно шепотом произнесенное слово.
– Я не грустная, – сказала она.
Джерри глубже зарылся под одеяло и уткнулся открытым ртом в ее обнаженное плечо. Когда он заговорил, язык его щекотнул ей кожу.
– Скажи, кого ты любишь, – пробормотал он.
– Я люблю тебя, – сказала она, – и всех голубей на этом дереве, и всех собак в городе, кроме тех, что роются в наших мусорных бачках, и всех котов, кроме того, от которого забеременела наша Лулу. И еще люблю спасателей на пляже, и полисменов в городе, кроме того, который отругал меня за то, что я не там развернула машину, и я люблю некоторых из наших ужасных друзей, особенно когда выпью…
– А как ты относишься к Дику Матиасу?
– Мне он безразличен.
– Я знаю. Вот это-то и поражает меня в тебе. Он такой болван. В самом прямом смысле. Да еще одноглазый. У тебя от этого мурашки не бегут по коже?
Руфь считала, что чувство собственного достоинства – достоинства, обязывающего хранить тайну, – требует, чтобы она ничего не говорила, пусть Джерри скажет сам. Замкнувшись в отчаянии, она ждала. Он приподнялся на локте – она закрыла глаза и представила себе в его руке нож. От жаркой погоды снова заныли ноги, болевшие с тех пор, как она носила Джоффри. Присутствие Джерри усиливало боль. Она глубоко вздохнула.
Он сказал совсем не то, чего она ждала, хотя, видимо, это и было главным пунктом разговора:
– Ну, а как ты относишься к Салли? Расскажи мне про Салли.
Руфь рассмеялась, словно он неожиданно щекотнул ее.
– Салли?
– Ты ее любишь?
Она снова рассмеялась.
– Конечно, нет.
– Она тебе нравится?
– Не очень.
– Детка, уж что-что, а нравиться она тебе должна. Ты же ей нравишься.
– Не думаю, чтобы я так уж ей нравилась. То есть, я хочу сказать, может, я и нравлюсь ей, но только как еще одна местная жительница, которую она может затмить…
– Нисколько она тебя не затмевает. Она не считает этого. Она считает тебя прехорошенькой.
– Не говори глупостей. Я выгляжу ничего только при правильном освещении и когда у меня настроение не слишком поганое. А она, можно сказать, – грандиозная.
– Почему “можно сказать”? Я согласен. Она – экстра-класс, но чего-то в ней не хватает. Чего?
Руфь никак не могла заставить себя сосредоточиться на Салли – образ ее все время расплывался, сливаясь с образом Ричарда. Она вдруг поняла, что за время их романа научилась не думать о его жене, хотя поначалу, когда они только приехали в Гринвуд, ее поразила Салли – эти светлые волосы, свисающие вдоль широкой спины, мужская походка и испуганный взгляд, напряженная улыбка, кривившая уголок рта.
– Мне кажется, – сказала Руфь, – Салли никогда не была очень счастлива. Они с Диком не подходят друг другу – во всех отношениях. Оба любят бывать на людях, но, пожалуй, не дополняют друг друга… – Ей хотелось добавить: “как мы с тобой”, но она не решилась и умолкла.
А Джерри уже сел на своего любимого конька.
– Господи Боже мой, да кто же может быть под пару Ричарду? Ведь он чудовище.
– Ничего подобного. И ты это знаешь. Сколько угодно женщин были бы под пару ему. Да любая ленивая, плотоядная бабенка, не слишком алчная…
– Разве Салли – алчная?
– Очень.
– До чего же она алчная?
– До всего. До жизни. Совсем как ты.
– И однако же – не плотоядная?
Руфь вспомнила, что говорил Ричард насчет Салли. Только бы не повторить его слов, отвечая сейчас Джерри.
– У меня такое впечатление, – сказала она, – что ей не хватает тепла, сострадания. Она не подпускает к себе ничего, что могло бы ее расстроить. Ну, а насчет ее плотоядности – откуда мне знать. Во всяком случае, с чего это вдруг такой прилив интереса?
– Ни с чего, – сказал он. – Любовь к своему соседу – и только. – Он притулился к ней, глубже уйдя под одеяло, так что видна была только макушка: Руфь вдруг заметила в его волосах седину. Внезапно, следуя своей излюбленной манере, он замурлыкал: звук, рождавшийся где-то глубоко у него в горле, достиг ее ушей. Это было сигналом – повернуться к нему, если она хочет; она продолжала лежать на спине, хотя он прогнал с нее сон и всю священную магию – с вяза. – А мне кажется, – донесся его голос из-под одеяла, – что у вас с Салли куда больше общего, чем ты думаешь. Ты вот была когда-нибудь очень счастлива?
– Конечно, была. Я почти всегда счастлива – в этом моя беда. Все хотят видеть меня спокойной, довольной, и вот, черт подери, такая я и есть. Даже не знаю, в чем сегодня моя беда.
– Может, решила, что забеременела? – И он тут же вынес обвинительное заключение; – Тогда, значит, встречалась с тем же котом, что и Лулу.
– Я знаю, что нет.
– Тогда что-то другое. Подцепила какую-нибудь гадость.
– Иной раз, – попыталась она направить разговор в другое русло, – мне действительно хочется защитить Салли, у меня даже появляется к ней теплое чувство. Она, конечно, пустенькая и эгоистка, и я знаю, окажись я когда-нибудь на ее пути, она, не задумываясь, переступит через меня, но в то же время во всей этой ее показухе есть какая-то щедрость, она старается что-то дать миру. В горах, на лыжах, когда она надевает эту свою дурацкую шапочку с кисточкой и начинает флиртовать с лыжным инструктором, мне так и хочется обнять ее, прижать к себе – такая она милая дурочка. А когда мы ездили ловить мидий, она была просто прелесть. Но все теплые чувства к ней у меня исчезают, когда вы твистуете. Ты об этом спрашивал?
Он поглаживал ее грудь поверх комбинации, и теперь, после его кошачьего мурлыканья, у нее возникло неприятное чувство, будто он вот-вот ее съест. Она оттолкнула его и, сбросив покрывало с его лица, спросила:
– Так ты об этом спрашивал?
Он уткнулся лицом ей в плечо – большой нос его был таким холодным – и закрыл глаза. Теперь, украв у нее сон, он, видимо, сам решил соснуть. Кожей плеча она почувствовала, как его губы расползаются в улыбке.
– Я люблю тебя, – вздохнул он. – Ты так хорошо все видишь.
Потом она удивлялась, как могла она быть до такой степени слепа – и слепа так долго. Улик было сколько угодно: песок; его необъяснимые появления и исчезновения; то, что он бросил курить; его победоносная, безудержная веселость на вечеринках в присутствии Салли; та свойственная только жене мягкость (в тот момент Руфь словно ужалило, и картина эта надолго осталась в ее памяти), с какою Салли как-то раз взяла Джерри за руку, приглашая танцевать. Одержимость идеей смерти, владевшая Джерри прошлой весной, казалась Руфи настолько неподвластной доводам разума, настолько непробиваемой, что новые черточки в его поведении она отнесла к той же области таинственного: новая манера говорить и вышагивать; приступы раздражительности с детьми; приступы нежности к ней; бесконечный самоанализ, без которого не обходилась ни одна их беседа; бессонница; ослабление его физических притязаний и какая-то новая холодная властность в постели, так что порой ей казалось, что она снова с Ричардом. Как могла она быть настолько слепой? Сначала она подумала, что от долгого созерцания собственной вины приняла появление нового за следствие прошлого. Она призналась себе тогда, – хотя ни за что не призналась бы в этом Джерри, – что не считала его способным на такое.
Джерри попросил ее о разводе в воскресенье – в воскресенье той недели, когда он после двух дней, проведенных в Вашингтоне, прилетел в каком-то смятенном состоянии одним из последних самолетов. Расписание тогда сбилось, все рейсы были переполнены, и она сидела на аэродроме Ла-Гардиа, встречая самолет за самолетом. Когда, наконец, знакомый силуэт – узкие плечи, коротко остриженная голова – вырисовался на фоне мутных огней летного поля и заспешил к ней, она немало удивилась той униженной радости, с какой забилось у нее сердце. Будь она собакой, она, наверное, подпрыгнула бы и лизнула его в лицо; будучи же всего лишь женой, она позволила ему поцеловать себя и повела к машине, по дороге слушая рассказ о поездке: Госдепартамент; несколько минут с Вермеером в Национальной галерее; относительно крепкий сон в гостинице; жалкие подарки детям, которые он купил в магазине мелочей; одуряющее ожидание в аэропорту. По мере того как городская сумятица оставалась позади, его говорящий профиль в теплом склепе машины утрачивал в ее глазах ореол чуда, и к тому времени, когда они со скрежетом остановились на дорожке у дома, оба не чувствовали ничего, кроме усталости; они поели куриного супа, выпили немного бурбона и юркнули в холодную постель. Однако потом это его возвращение домой казалось ей сказкой – последним оазисом, когда еще была твердая почва под ногами, перед этим дождливым воскресным днем, с которого началось плавание по морю кошмара, ставшее с тех пор ее естественным состоянием.








