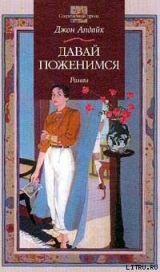
Текст книги "Давай поженимся"
Автор книги: Джон Апдайк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
– Что ж, может быть, только сумасшедшие женщины и умеют как следует любить.
– Без этого замечания тоже можно было бы обойтись. Я ее даже пожалела. Возможно, я все еще люблю тебя, Джерри, сама не знаю, но уважения к тебе я сей час особого не испытываю.
– А ты бы больше меня уважал, если бы я довел дело до конца и бросил тебя и детей?
– В известном смысле – да. Ведь волновало-то тебя не то, что станет с детьми.
– Нет, именно это.
– Тебя волновало, что станет с твоей бессмертной душой, или еще какая-то чушь в этом роде.
– Я вовсе не говорю, что она – бессмертная, я говорю, что она должна быть бессмертной.
– Так или иначе, в одном я уверена.
– В чем же?
– С ней у тебя все кончено. Она несла такое, что даже Ричард стал тебя защищать.
Руфь внимательно следила, как он это воспримет. Он сказал:
– Отлично.
Джерри уложил детей спать. Укладывая Джоффри, он всегда читал одну и ту же молитву, которую мальчик бормотал следом за ним: “Боже милостивый, благодарю тебя за прошедший день: за еду, которую мы ели, за одежду, которую носили, за удовольствия, которые получали. Благослови маму, папу, Джоанну и Чарли…”
– И Джоффри, – неизменно вставлял мальчик, глядя на себя со стороны, как на члена семьи.
– “…и Джоффри, и дедушку с бабушкой, и наших учителей, и всех наших друзей. Аминь”.
– Аминь.
Чарли, самый живой из детей, спал крепко и так быстро засыпал, что Джерри едва успевал взъерошить ему волосы и поцеловать в ухо. Ни о каких молитвах не могло быть и речи. Когда же прекратился этот ритуал? Возможно, мальчик потому так быстро и засыпал, чтоб не молиться. Что ж, пускай, считал Джерри. Ему нравилось, что у мальчика есть гордость – ведь он самый пытливый из троих и потому должен быть самым храбрым.
– Спокойной ночи, – сказал Джерри темной комнате и вышел, не получив ответа.
Джоанна, уже не показывавшаяся отцу раздетой, устроилась в постели с “Пингвинами мистера Поппера”.
– Папа? – окликнула она его, когда он приостановился на пороге ее комнаты.
– Да, Джоджо?
– Мистер и миссис Матиас разводятся?
– Откуда ты знаешь это слово – “разводятся”?
– Миссис О. сказала. Ее дочка развелась с одним военным, потому что он слишком много играл в карты.
– А с чего ты взяла, что Матиасы хотят разводиться?
– Она была здесь и ужас как злилась.
– Не думаю, чтобы она злилась на мистера Матиаса.
– А на кого же тогда? На эту ее плаксу?
– Нет. Скорей – на себя. А тебе нравится миссис Матиас?
– Вроде – да.
– Почему только – вроде? Джоанна подумала.
– Она никогда ни на кого не обращает внимания. Джерри рассмеялся, быть может; слишком тепло, ибо Джоанна спросила:
– Она – твоя подружка?
– Что за глупый вопрос. У взрослых не бывает подружек. У взрослых бывают мужья и жены и маленькие дети.
– А у мамы есть дружок.
– Кто же это?
– Мистер Матиас.
Джерри расхохотался от абсурдности такого утверждения.
– Они просто любят иногда поболтать, – сказал он девочке, – но она считает его кретином. Девочка почтительно посмотрела на него.
– О'кей.
– А тебе спать не хочется?
– Вроде бы – да. В этой книжке слишком много слов, которых я не знаю. То есть, я хочу сказать, в общем-то я их знаю, только смысл не могу понять.
– Таких книг много. Так что не утомляй глаза. Доктор Олбени говорит, вообще не надо читать в постели.
– Он кретин.
– Глаза – это очень важно для человека. Спи крепко, детка. Дай я тебя поцелую. – И, обняв дочь, он почувствовал, что голова у нее стала почти как у взрослой, а очертания щеки и голого плеча, когда она легла боком на подушку, – женские. Она выросла с тех пор, как он последний раз по-настоящему видел ее.
Комнаты первого этажа, пустые без детей, прошитые светом фар проходящих машин и тишиной, казались огромными. Руфь поставила на кухонный стол два прибора. Он нерешительно вошел в кухню: когда он был ребенком и мама болела, он так же нерешительно входил к ней в комнату, боясь, как бы она, словно героиня волшебной сказки, не превратилась за это время в медведицу, или в ведьму, или в мертвеца. Руфь протянула ему рюмочку вермута. Вид у нее был выжидающий, а он прохаживался по кухне, потягивая вермут, ел телячью отбивную с салатом, которую она ему подала, и всячески старался заполнить тишину – арену своего поражения, пытаясь объясниться. Он говорил:
– Я не понимаю, что произошло. Став женой, или как там это ни назови, она перестала быть мечтой, и впервые я увидел ее.
Он говорил:
– Я не хотел, чтобы она предоставляла выбор мне. Салли не должна была без конца предоставлять мне выбор: ведь я поехал к ней в то утро, уверенный, что все должно быть именно так, а потом поговорил с ней и обнаружил, что это вовсе не обязательно. Все пути были еще до ужаса открыты. Она не так уж сильно хотела, чтобы я был с ней, – хотела не в такой мере, как ты.
Или:
– В общем-то, все дело в Ричарде. Я сидел там тогда вечером и, глядя на него, сказал себе: “А ведь он не так уж плох”. У меня сложилось совсем неверное представление о нем по ее описаниям и жалобам: он человечный; он старался. Я сказал себе: “Господи Боже мой, если он не смог сделать ее счастливой, то и я не смогу”.
Или:
– Она такая самонадеянная.
В его попытки объясниться – неуклюжие и надуманные, нелепые и неопределенные – вторгался голос Руфи, мягкий, но с какими-то жесткими нотками, и в этих ее поисках истины было что-то до такой степени унитарианское, убежденное, даже разрушительное.
– Не понравилось мне то, как они оба навалились на тебя.
И:
– Если она так уж тебя любит, почему же ее не устраивает просто связь с тобой? И:
– Они оба такие самонадеянные.
И периоды сдвоенного молчания, не казавшиеся тягостными от того, что оба они рывками – то продвигаясь вперед, то останавливаясь – одновременно начали рассматривать оказавшийся перед ними предмет, набор предметов, тайну из света, и цвета, и тени. В этой готовности жить на параллелях таилась их слабость и их сила.
Когда они сели пить кофе, а за окном такая же темная, как кофе, чернела ночь, зазвонил телефон. Джерри застыл в испуге, вынуждая Руфь подойти к аппарату; она сняла трубку в гостиной, послушала и сказала:
– Он здесь. – И негромко позвала, повернувшись к кухне:
– Джерри, это Ричард.
Он тяжело поднялся из-за стола и прошел сквозь полосы тени к телефону. Руфь слушала, кружа по комнате, включая лампы.
– Да, Ричард. – Иронично, устало, примирительно. Голос у Ричарда словно ссохся, гулкость ушла.
– Джерри, мы разговаривали – сегодня не слишком долго, и я, возможно, чего-то не понял. Правильно ли я тебя понял, что, если я разведусь с Салли, ты не будешь с ней? Повторяю: не будешь?
Старая вилка конем.
Джерри мог бы слабо заблеять, взывая к рассудку, хотя давно убедился, что на хамов это не производит впечатления, или возразить, что жизнь, в отличие от шахматной доски, не всегда только черная или белая. Вместо этого он сказал:
– Совершенно верно. Я не буду с ней.
Ричард помолчал, ожидая, что Джерри объяснит, но объяснений не последовало, и он сказал:
– Я так и подумал, но, откровенно говоря, Джерри, просто не мог поверить. Не мог поверить, что ты такой черствый, хотя Салли уверяет меня, что ты – порядочный. Значит, ты не будешь с ней, что бы ни случилось?
По тому, с какой сценической четкостью Ричард произносил слова, Джерри догадался, что Салли, видимо, слушает по отводной трубке наверху. Он вздохнул.
– Ты будешь с ней. Она твоя жена. А у меня есть своя.
– Не знаю, приятель Джерри, просто не знаю. После того как она вела себя со мной, не знаю, останется ли она моей женой или нет.
– Это уж тебе решать. Как скажешь, так и будет.
Ричард сказал:
– Я заставлю тебя заплатить за это, приятель Джерри. Я заставлю тебя страдать – так, как ты заставил страдать нас. Ты потрясающий малый. Потрясающе жестокий.
Память Джерри метнулась назад – пляж, дюны, желтое бикини, теплое вино, запах их тел, – и он спросил с искренним любопытством:
– В самом деле? Ричард бросил трубку.
Руфь спросила:
– Что ему было надо?
– По-моему, он хотел устроить спектакль и показать Салли, какая я сволочь. Она все слышала по отводной трубке.
– Она что-нибудь сказала? Или ты слышал, как она дышала в трубку?
– Нет.
– Откуда же ты знаешь, что она была у телефона?
Джерри повернулся и рявкнул:
– Потому что она – везде!
Руфь испуганно уставилась на него. Хотя она зажгла лампы на всех столиках у стен, середина большой комнаты тонула в темноте, а именно там Руфь и стояла.
Джерри пояснил:
– Ричард был раздражен, потому что теперь ему надо принимать решение, а ему совсем неохота, как и мне: мужчины не любят принимать решения, они хотят, чтобы Бог или женщины принимали решения за
– Некоторые мужчины, – сказала Руфь.
Она пошла на кухню, а Джерри подошел к окну. В темноте за холодным стеклом был Ричард – ветви вяза переплетались и гнили в лишенной Бога стихии, которая и есть суть его врага. Весь мир был Ричардом. “Я заставлю тебя заплатить за это, приятель Джерри”. Где-то на улице выше их дома с ревом включился мотор автомобиля; Джерри съежился, сознавая, что силуэтом выделяется на фоне окна. Визжа шинами, автомобиль промчался мимо – какие-то мальчишки, никого: выстрела не последовало. Джерри улыбнулся. “Ты малый потрясающий. Потрясающе жестокий”. До сих пор его никто еще не ненавидел. Не любили, не считались с ним, но никто не ненавидел; а это, оказывается, помогает чувствовать себя живым. “Смотрика, Салли-О, верно, из Иисуса Христа получилась хорошая ногтечистка?” Глядя сквозь черное, мутно отсвечивавшее стекло, – стекло, похожее на холодную оболочку его разума, – Джерри порадовался, что нанес своему врагу – мраку неизлечимую рану. Кинжалом своей плоти он заставил умолкнуть насмешников. Иисус был отомщен.
V. Вайоминг
Джерри и Салли сошли с самолета в Шайенне. Они с трудом спускались на негнущихся ногах по гулким стальным ступеням, и Джерри, вдохнув всей грудью воздух, понял, что он – дома: непередаваемый воздух Запада, казалось, навеки освободил его легкие от угрозы удушья. В порыве признательности он поспешно обернулся, чтобы проверить, ощутила ли и Салли эту благодать, – она спускалась за ним следом, держа обоих мальчиков за руки, тогда как он нес Теодору и выданный авиакомпанией большой пластиковый мешок, набитый игрушками и книжками. При виде Салли на душе снова – как всегда – стало радостно. На ней был полотняный костюм в тонкую полоску, с рукавами, доходившими до половины ее длинных, покрытых пушком, рук, поперечные складки, образовавшиеся спереди на юбке от долгого сидения, подчеркивали красоту ее широких бедер. Она улыбнулась и сказала:
– Здорово, верно?
– Небо, – сказал он. – Фантастическое небо. – Над ними, в светлой голубизне, припудренной и строгой, кипели, кипели грозовые тучи, снизу прозрачные, а выше – белые, такие исконно, девственно белые, что глаз невольно окружал их черной каймой, увеличивавшей их массу. По форме они были самые разные, но не тяжелые и не насыщенные дождем, – достаточно появиться в воздухе малейшему дуновению, малейшей перемене, казалось Джерри, и они рассеются.
На западе вздымались горы, фиолетовые, в меловых, а скорее – снеговых пятнах; в прозрачном воздухе далекие пики казались совсем близкими и в то же время необитаемыми, ненастоящими, как внезапно прыгающий на тебя пейзаж с укороченной перспективой, если смотреть на него в телескоп. В рыжеватых просторах, где-то на полпути к горам, бежала одинокая, видимо, невзнузданная лошадь без всадника, а череда деревьев – скорее всего тополей – возвещала близость воды. Долина была устлана свежим, серебристым, изысканно-зеленым ковром – должно быть, полынь, подумал Джерри. Созвездие камней вдали превратилось в отару овец. На переднем плане были озера, поле для гольфа, красный форт. А как раз под ними кричаще-черной страницей лежал макадам аэродрома, испещренный полосами и нефтяными пятнами, цифрами, стрелами и разноцветными крышками закопанных в землю резервуаров – всеми этими знаками сложного языка, которым пользуется во всем мире раса близоруких гигантов. Став на твердую землю, Джерри поднял глаза и сказал:
– Привет?
– Привет, – сказала Салли позади него, уже рядом с ним. – Чувствуешь себя совсем свободным?
– А мы свободны?
– От некоторых вещей. – Произнося это, она откинула назад волосы и широко шагнула вперед. Она устала. Бобби и Теодору тошнило, пока они летели над шахматной доской центральных штатов. Наверное, потому, что Бобби больше всех похож на отца, Джерри обнаружил, что подыгрывает ему, – то ли стремясь преодолеть инстинктивную неприязнь, то ли желая умиротворить мерзкую властность, которую он чувствовал в Ричарде. И сейчас он обратился к мальчику:
– Как дела, шкипер?
– У меня горло болит, – сказал Бобби, утыкаясь лицом в бедро матери.
– Ты просто пить хочешь, – сказал ему Джерри. – Мы тебе сейчас купим кока-колы в аэропорту.
– А я хочу виноградной содовой, – заявил Бобби.
– А где ковбой? – спросил Питер. Хоть и совсем еще крошка, он словно бы вменил себе в обязанность быть буфером между братом и отчимом, отвлекая их от мертвой схватки, которую им вечно предстоит вести.
– Я видел уже двадцать ковбоев, – презрительно объявил Бобби, да так оно и было, потому что даже механики на аэродроме и те носили десятигаллоновые шляпы.
В аэровокзале было такое множество ковбоев, что казалось, танцевальная труппа ждет самолета на Нью-Йорк – все в узких джинсах от Леви, сапогах в гармошку, распахнутых жилетах, крученых шнурках на шее. Но нет, то были обычные люди, запрограммированные и подогнанные под костюм, который в свою очередь подогнан под местную природу. Взглядом, отточенным непогодой до жестокой скуки, бесцветными глазами, из которых небо вытянуло всю краску, ковбои изучали Салли, ее ситцевую красоту. Джерри легонько обнял ее за талию, демонстрируя свое право и отклоняя подозрение в импотентности: ему казалось, всем и каждому ясно, что все трое детей – не его. Салли вздрогнула от его прикосновения, повернулась с застывшим от испуга взглядом и резко сказала:
– Я подержу Теодору, а ты сходи за чемоданами.
– Возьми-ка для Бобби кока-колы вон там, в автомате. Может, там есть и виноградная содовая.
– Если уж брать ему, надо брать всем троим. А он может попить и у фонтанчика. Это у него от рвоты раздражено горло.
– Я обещал мальчику кока-колу.
– Ты избалуешь его, Джерри.
Он подумал: а быть может, и в самом деле по какой-то непонятной причине он стремится перетянуть на свою сторону этого мальчика, оторвать его от матери, которая слишком с ним крута. Он почувствовал, что начинают возникать ситуаций, над которыми ему и в голову не приходило задуматься; внезапно все, даже получение багажа, – а ведь это был, несомненно, их багаж, – показалось ему необычайно сложным, хуже того – непорядочным, нечестивым, вызывавшим чувство клаустрофобии. Он явно переоценил себя. Собрать разбросанные вещи, вывести их всех из аэровокзала на улицу представлялось ему поистине невозможным.
Салли, уловив перемену в его настроении, спросила:
– Рад, что ты здесь?
– Что с тобой – да.
– Я научу тебя ездить верхом. Ты здорово будешь выглядеть на лошади.
– Я сломаю себе шею.
– Смотри, вон наши чемоданы. Теодора, не смей. – Под грохот громкоговорителей и шарканье спешащих пассажиров девочка опустилась на пол и заплакала. – Твой новый папа решит, что ты очень несчастна.
– Я тоже хочу коку, – сказала она.
– Вот, – повернувшись к Салли, сказал Джерри. – Три монеты.
Когда багаж, наконец, был получен, и носильщику дали на чай, и схватили такси, дух приключения – повеление рисковать, завещанное нам Священным писанием, – объединил их вновь. Бобби сел с шофером; Джерри, Салли и двое младших детишек разместились сзади. Машину – вместительный старый “понтиак” – вел индеец. Голос у него, когда он спросил, куда ехать, был низкий, и он тщательно произносил слова, словно выкапывал их из земли или мысленно переводил на английский с какого-то более древнего языка. Бобби, как зачарованный, уставился на блестящие черные волосы, пергаментную щеку и амулет из бусинок на зеркальце заднего обзора, и Джерри почувствовал облегчение от того, что ему удалось на какое-то время умиротворить этого сложного ребенка – его новую совесть. Дорога, которая сразу за аэропортом пошла по голым окраинам, где то и дело приходилось снижать скорость и останавливаться на перекрестках, вывела их на просторы долины, и к Джерри вернулось первое впечатление шири и благодати. Воскрешая познания, почерпнутые из путеводителей, он наугад определял буйволову траву, маттиолы и колокольчики; между пучками полыни были гладкие проплешины, где ничто не желало расти. Чтобы не наслаждаться таким счастьем одному, он протянул руку за спинами детей и переплел свои пальцы с пальцами Салли. А она остекленело глядела на однообразный пейзаж. Ее рука на ощупь была твердой и напряженной – рукою труженицы, что ему нравилось. Хотя она ответила на его застенчивое пожатие, которым он давал понять, что готов оберегать ее, в уголке ее рта появилась горькая складка, словно она сожалела, что уже не может по своей воле дарить ему то, что им завоевано и принадлежит по праву. И будто капнули ядом. Самый воздух изменился – чуть-чуть, но достаточно, чтобы нарушить хрупкое равновесие их обоюдной иллюзии. Запах полыни усилился; такси поехало быстрее; светло-зеленые побеги замелькали с такой стремительностью, что казались голубыми. Голова индейца, как изваяние, вырисовывалась на свету. Детские головки словно застыли изящными черными силуэтами; Джерри произнес: “Эй?”, и Салли не ответила; пустыня вокруг них – и они вместе с нею – испарилась, исчезла, ее никогда и не было.
Джерри и Руфь спускались на самолете к Ницце. Машина накренилась, и сверкающее Средиземное море прыгнуло на них: пилот совершил серьезную ошибку. В самый последний момент, словно карта, вытянутая со дна колоды, под ними все же открылась земля; колеса самолета ударились так, что затрещали шасси; все закачалось, моторы яростно взревели: они приземлились. Чарли рассмеялся. Маленькие, крытые черепицей домики Лазурного берега потянулись мимо, точно игрушки на веревочке, пока самолет подруливал к стоянке. Надпись “АТТАСНЕZ VOS CEINTURES”[32]32
Пристегните ремни (франц.)
[Закрыть] погасла, затем погасло “DEFENSE DE FUMER”[33]33
Курить запрещается (франц.)
[Закрыть]. Они схватили свои пальто и встали; вслушиваясь в гул голосов вокруг, Джерри понял, что самолет, весь выложенный пластиком, такой весь голубой и американский на аэродроме Айдлуайлд, теперь аннексирован французами. Все говорили по-французски, а он этого языка не знал. “Au revoir”[34]34
До свидания (франц.)
[Закрыть], – сказала стюардесса, и они стали спускаться по металлическим ступеням. Воздух был мягкий, чистый и как бы состоявший из отдельных частиц – изрезанный и иссеченный, точно на картинах кубистов, косыми лучами чуть теплого солнца. Им открывались целые миры для обозрения, но глаза Джерри были мертвы: утрата притупила их остроту; дети и жена нетвердой походкой пронесли его чувства по закодированной ленте бетона, через обрывки впечатлений. В толчее у паспортного контроля он услышал – потому что это было повторено несколько раз, – как чиновник в синей форме с раздражающим удивлением произнес: “Trois enfants”[35]35
Трое детей (франц.)
[Закрыть]. Джерри услышал, что его жена разговаривает с этим человеком по-французски, и удивился: что за странная женщина стоит рядом с ним, как она могла держать в себе на запоре целый язык. А в аэровокзале, наполненном, будто во сне, шарканьем чужих ног, стояла Марлен Дитрих в замшевых брюках и сапожках на высоком каблуке и курила сигарету, держа длинный перламутровый мундштук. Его дети, в упоении от чувства безопасности и свободы, промчались под ее взглядом, и эта женщина, сочетание света и тени, призраком возникшая из времен его детства, посмотрела на них с откровенным, неожиданным для призрака интересом и благожелательностью.
Марлен Дитрих выглядела молодо за зубчатой стеной своих чемоданов. Джерри увидел в ней доказательство той истины, что путешествия отодвигают смерть – это способ купить жизнь за мили. Он же путешествует, потому что адвокат Ричарда посоветовал ему уехать на время. Он взял отпуск в своем агентстве и собирался заняться живописью. Они с Руфью снова будут сидеть рядом и рисовать. Он прошел сквозь стекло на улицу, где ждала череда такси, на которых, вопреки ожиданию, значилось: ТАКСИ.
– А Nice?[36]36
В Ниццу (франц.)
[Закрыть] – спросил шофер в куртке такой синевы, какую Джерри видел только на картинах.
– Oui, б Nice s’il vous plaоt[37]37
Да, в Ниццу, пожалуйста (франц.)
[Закрыть], – сказала Руфь и, краснея, назвала отель, словно агент из бюро путешествий мог их подвести. – Votre voiture, est-ce que c’est assez grand pour trios enfants?[38]38
А у вас машина достаточно большая – в ней поместятся трое детей? (франц.)
[Закрыть]
– Oui, oui, ca va, madame, les enfants sont petits.[39]39
Да, да, все в порядке, мадам, дети ведь маленькие (франц.)
[Закрыть]
Чарли сел впереди с шофером, остальные четверо – сзади. Джоффри захныкал, что его совсем задавили.
– Нас всех задавили, – сказал ему Джерри, отчаянно стараясь преодолеть стеснение в легких, которое патологически возникало при малейшем нервном напряжении.
Руфь сказала:
– Посмотрите-ка все в мое окно – прямо как картина. – По ту сторону дороги, дальше от моря, на недавно разбитых участках произрастала древняя культура; крутые зеленые склоны, которые по сравнению со стертыми холмами Коннектикута, казалось, только-только обрели форму, были со скаредным тщанием разбиты на поля и террасы; по этим склонам средневековой перспективой громоздились городки. Европа была четкой по цвету и загроможденной по рисунку. Сероватая зелень на ближних холмах, тускло поблескивавшая, как волосы женщины, когда она их расчесывает, – это, должно быть, оливы. А по другую сторону – извилистая полоса желтовато-грязного песка чуть шире шоссе, окаймленная водорослями и усеянная бетонными волнорезами, отнюдь не напоминала то, что Джерри привык называть пляжем, – тут требуется другое слово. Оно и значилось на зеленом указателе: PLAGE.
Джоанна, зажатая между Джерри и окном, произнесла величественно-безразличным тоном:
– На всех дорожных знаках – маленькие рисуночки. – У Джерри было такое чувство, будто она обращается не столько к своим родителям, сколько к идеальным родителям из школьных хрестоматий, лишенным национальной принадлежности, счастливым и автоматически восхищающимся всеми чудесами жизни.
Стремясь подладиться под ее тон, Джерри сказал:
– Это для того, чтобы такие тупицы, как мы, не потерялись. – Когда путешествуешь, всюду видишь опознавательные знаки, указатели, инструкции. Только дома их нет.
Джоанна спросила:
– Почему здесь столько этих стекляшек?
– Оранжерей?
– Наверное.
– Они выращивают цветы для парфюмерной промышленности.
– В самом деле?
– Я так полагаю.
Мимо них на мотоскутере промчалась блондинка с развевающимися на ветру волосами. На ней были белые брюки в стиле “Сен-Тропез” и полосатая вязаная кофточка, – Джерри вжал ногу в пол: прибавить скорость, нагнать ее, заглянуть ей в лицо. Сердце у него учащенно забилось, но такси ехало с прежней скоростью. Руфь повернулась, вглядываясь в его лицо, и то, что она на нем обнаружила, передалось ей, потом снова передалось ему, словно отразившись в двух зеркалах, и маленькое пространство машины наполнилось душераздирающей тоской и напряжением. Он промямлил в качестве объяснения:
– Непостижимо.
Руфь сказала:
– Ты увидел ее позже, чем я. Сходства почти никакого.
– Очень это плохо, – сказал он. Она отвернулась; он почувствовал, что настроение у нее упало, а у него соответственно поднялось. Он посадил на колени Джоффри, прижал его к себе и спросил:
– Как дела, шкипер?
– Отлично. – Мальчик произнес это каким-то грустным тоном, протянув “и”.
– Тебе все еще кажется, что тебя задавили?
– Не очень.
Чарли, не сводивший зачарованных глаз с шофера, обернулся – веснушчатое личико его сияло лукавством – и сказал:
– Он вечно жалуется, потому что он еще маленький.
Нижняя губа у Джоффри задрожала, животик под рукой отца вздулся под напором воздуха, который он набрал в легкие, готовясь зареветь. Джерри быстро произнес:
– Смотрите-ка! Мы въезжаем в город, который зовут Славным.[40]40
Ницца – Nice – на английском языке означает “славный”.
[Закрыть]
Они въехали в Ниццу – точно въехали в призму. Фасады высоких белых отелей заливало солнце, так что от карнизов и тентов над окнами падали под углом в сорок пять градусов синие тени. Под пальмами, за круглыми стеклянными столиками, сидели дамы и господа в пальто. По Английскому променаду прогуливались люди, четко разделенные на свет и тень, как луна в срединной фазе. Джерри заметил одного типа в самом настоящем монокле. Он увидел женщину в жакете из шиншиллы, которая покупала букетик горных фиалок, завернутый в газету, в то время как пара серых пуделей симметрично обвивала ее ноги своими поводками. За зелеными перилами, ограждающими променад, убегал вдаль, извиваясь, пляж – туда, где над блестящей сталью моря нависает что-то вроде нежно-розового форта; пляж – каменистый, весь в подвижных, намытых водою камешках, в крошечных впадинах и щелях, между которыми, словно в трубах органа, мелодично вздыхал океан. Берег полнился этой музыкой, а вокруг – солнце, сверканье, яркие краски, разноцветные зонты. Джерри сказал Руфи, просто чтобы что-то сказать:
– До чего хорошо. Мне здесь может понравиться. Она восприняла его слова как эстетическую оценку и, проверяя ее, посмотрела в окно.
– Разве не тут обосновываются все короли в изгнании? – спросила она.
Такси свернуло с набережной Соединенных Штатов и поехало вверх по боковой улочке, мимо заржавевшего остова цветочного рынка и магазина с украшенными железной филигранью решетками.
– Nous sommes arrivйs, mes enfants[41]41
Приехали, дети мои (франц.)
[Закрыть], – объявил шофер и обернулся, охватив всех широкой улыбкой, обнажившей желтые от табака зубы. – Ми приехаль! – добавил он на ломаном английском.
А из отеля уже выскочили портье и два его помощника, весело и жадно накинувшиеся на них, ибо в это время года постояльцы редки. Было ведь начало ноября. Предводительствуемые Руфью, они последовали за багажом и долго карабкались по прохладным ступеням зеленовато-серого мрамора к фасаду, похожему на свадебный торт.
Джерри сошел в Сент-Круа. Тропический воздух, живой и нежный, как брызги распылителя, дохнувший ему в лицо на заре в Сан-Хуане, здесь был суше. Джерри чувствовал необычайную легкость во всем теле, на душе у него было хорошо: он спал всего два часа во время ночного полета из Айдлуайлда, где, стремясь избавиться от стеснения в груди, вдруг взял и сел в самолет. И тяжесть из легких ушла. Аэровокзал был новый, без дверей, так что лишь тень лежала границей между внутри и снаружи. В помещение залетал бриз, принося дыхание земли и цветов. За кромкой тени, сквозь дымку равномерно вращающегося распылителя и сетку аэродромной ограды, видно было, как потоки воздуха, взвихренные пропеллерами самолета “Кериб Эйр”, На котором он прилетел, взметнули столбы пыли, и черные носильщики, вдруг обезножев, словно повисли в воздухе. На низком зеленом холме, таком тусклом, точно вся краска впиталась в незагрунтованное полотно, высилась конусообразная громада – должно быть, остатки сахарного завода, подумал Джерри. Земля казалась одновременно истощенной и девственной. Похоже, самое подходящее для него место.
На стоянке такси негр с сигаретой за каждым ухом спросил, куда он хочет ехать – в “Кристианстед” или в “Фредерикстед”. Джерри не ожидал, что здесь будет выбор.
– А который из них вы рекомендуете? Нетр деликатно пожал плечами.
– Сами решайте, приятель. Один – там, другой, – он повел глазами в нужном направлении, – вон там.
– Значит, в оба сразу поехать я не могу? – сказал Джерри, решив пошутить.
Спокойное молчание последовало за его вопросом, не нуждавшимся в ответе; дышалось ему легко, он чувствовал, что начинает любить эту черту обитателей тропиков – терпеливое ожидание. Он сказал:
– Все, что мне надо, это комната и пляж. – Стоял март, ему говорили, что гостиницы к этому времени начинают пустеть.
Негр посмотрел поверх плеча Джерри, затем повернулся и нежным жестом открыл дверцу своего такси.
– Устроим вас в наилучшем виде, – сказал он.
Джерри залез в машину, и за те несколько минут, что он ждал, пока она двинется с места, еще два негра, а потом еще один вышли из тени аэровокзала и сели к нему в такси: один – впереди с шофером, двое других – сзади, с ним. Его оттеснили в угол. Негры, взрослые мужчины, хихикали и болтали о чем-то непостижимом; они переговаривались на каком-то своем языке, помеси колких шепотков и недосказанных намеков, – совершенно непонятном, хоть и английском языке. Такси помчалось на большой скорости по левой стороне прямой дороги, огражденной с обеих сторон стеной сахарного тростника; прямо на них мчалось другое такси, и они в последний момент чудом избежали столкновения – совсем как в аттракционе с зеркалами. Они проезжали мимо каменных остовов с прорезями, в которых когда-то стояли штыри исчезнувших жерновов, мимо хибар, крытых жестью, и более новых, американского типа, домиков, белых, оштукатуренных, с окнами, прикрытыми жалюзи, с бугенвиллеями, с водосточными трубами и цистернами для дождевой воды. На перекрестке указатель гласил: “Верхняя Любовь”; такси остановилось, и один из негров вылез. Шофер спросил громко, совсем другим голосом, явно обращаясь к Джерри:
– Хотите поехать через горы-ы?
– Конечно, – сказал он. Покорись. Забудь.
Они забрались высоко – туда, где были пастбища и стояли раскидистые деревья с белой корой, свисавшей вниз, точно листья, засохшие среди лета. Выше и выше – бирюзовый океан, испещренный пятнами лаванды, то появлялся перед глазами, то исчезал. Теперь вокруг них сомкнулся лес, где волосатые лианы тонули в облаках гибискуса, а корни красного дерева сплетались над землей, образуя у края дороги причудливые храмы-пещеры. Что-то серебристое, точно ртуть, нырнуло под колеса такси, в машине вспыхнул возбужденный разговор, и таксист произнес намеренно четко, для Джерри:
– Ман-гу-ста.
Громыхая по скверной, в выбоинах дороге, они за поворотом вдруг выскочили из леса прямо в небо и остановились. Двое негров вышли и, не оглядываясь, направились к невидимому дому. Джерри понял, что никогда не увидит их домов. Передвинувшись на другой край опустевшего заднего сиденья, он глядел на ленту берега, гоггочку шоссе, точечки красных крыш с такой же высоты, с какой месяц назад глядел на серые крыши Квинса, тесно придвинутые одна к другой, как картонки на складе.
Моторы самолета тогда вдруг заревели сильнее, черная вода подпрыгнула навстречу им, дети умолкли. Руфь сжала его руку. Колеса чиркнули по бетону полосы, огромное голубое тело машины содрогнулось и жалобно заскрипело – минута опасности миновала. Они были дома.
Из окна спальни домика, что они сняли в О-де-Кане, Джерри, задыхаясь от удушья рядом с Руфью, спавшей сном праведницы, мог видеть за глубокой узкой долиной, где когда-то жил? Модильяни со своей любовницей, созвездие Ориона. Созвездие это словно бы сопутствует морю и самой своей вытянутой формой, напоминающей стройного мужчину, почему-то приносит успокоение, помогает дышать. Вернувшись в Америку, Джерри обнаружил, что созвездие трудно найти: его заслоняли вездесущие деревья, затмевали яркие искусственные огни – оно словно переместилось в звездном пространстве. Когда же однажды с какого-то открытого места Джерри увидел своего утешителя в изгнании, у Ориона не было того дружелюбного сияния, какое, возможно, придавала ему близость посеребренного луною тела его переменчивой возлюбленной – Средиземного моря, чей шелестящий сон поверженный охотник, опершись на локоть, казалось, неусыпно оберегал.








