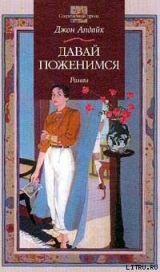
Текст книги "Давай поженимся"
Автор книги: Джон Апдайк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
– Не может быть.
– Может.
– Думаю, что и Руфи было бы безразлично, узнай она обо всем.
Хотя Салли понимала, что Джерри сказал это просто в тон ей, она вдруг услышала свое настойчивое:
– А хочешь, давай не вернемся? Возьмем и удерем?
– Ты лишишься своих детей.
– Я готова.
– Это ты сейчас так говоришь, а через неделю тебе станет их не хватать, и ты возненавидишь меня, потому что их с тобой не будет.
– Ты такой умный, Джерри.
– От этого нам ничуть не легче, верно? Бедняжка ты моя. Тебе нужен хороший человек в мужья и плохой человек – в любовники, а у тебя все наоборот.
– Ричард совсем не такой уж плохой.
– О'кей. Извини. Он – принц.
– Обожаю, когда ты злишься на меня.
– Я знаю. Но я не злюсь. И не собираюсь злиться. Я люблю тебя. Если хочешь ссориться, отправляйся домой.
Она посмотрела вокруг – за столиками сидели студенты художественных школ, преподаватели в обмотанных клейкой лентой очках, толстухи, бежавшие от жары, а на стенах – такие мертвые-мертвые птицы.
– Я туда и отправлюсь, – сказала она.
– И правильно сделаешь. Давно пора. Вот только остановимся по дороге купить что-нибудь моим чертовым деткам.
– Ты балуешь их, Джерри. Ты ведь уезжал всего на один день.
– Они ждут подарков. – Он поднялся, и они вышли через дверь, открывавшуюся прямо на тротуар. Он шагал стремительно, широко – мимо торговцев сластями и автобусов с туристами, и, стремясь не отстать, она задыхалась, так что слова не могла вымолвить. Наконец, сжалившись над ней, он взял ее за руку, но прикосновение было влажным, и обоим стало неловко: они уже перешли тот возраст, когда ходят, держась за руки. У двери в магазин мелочей, где в витрине были выставлены обычные дешевые сувениры – свинки-копилки, флажки, набившие оскомину изображения Кеннеди во всех видах, – выдержка вдруг изменила ей, и она наотрез отказалась зайти.
– Но почему? – спросил он. – Помоги мне выбрать.
– Нет. Не могу.
– Салли.
– Выбирай сам. Это твои дети – твои и Руфи.
Он побледнел: он никогда еще не видел ее такой. Она попыталась загладить ссору:
– Я пойду в отель и уложу твой чемодан. Не волнуйся. Только, пожалуйста, не заставляй меня покупать с тобой игрушки.
– Слушай. Я люблю… – Он попытался взять ее под локоть.
– Не ставь меня в глупое положение, Джерри. Мы мешаем людям входить.
Шагая одна по 14-й улице – от блеска кусочков слюды в асфальте у нее резало глаза, – Салли вдруг заплакала и тотчас поняла, что никому до нее нет дела: никто на нее не смотрит – ни одна живая душа из всего этого множества людей.
Они вместе вышли из отеля и поймали такси. Они пересекли Потомак и проехали мимо какой-то непонятной аварии на дороге через парк у обелиска Вашингтону. Старенький синий “додж” с красным номером штата Огайо лежал вверх колесами на средней полосе – просто непостижимо, как его угораздило перевернуться. Никакая другая машина к этому явно не была причастна. Смеющиеся полисмены под палящим солнцем направляли движение. Две толстухи с всклокоченными волосами обнимались у линии разграничения, а вся поверхность дороги блестела, усеянная стекольной пудрой. Рука Джерри сжала ее руку. Авария осталась позади, машинам стало свободнее, и они поехали быстрее, шофер перестал что-то бормотать, и, покрутив по “восьмеркам”, они подкатили к северному крылу аэровокзала.
В зале ожидания – хотя был обычный рабочий день – неожиданно оказалось много пароду. По лицам оборачивавшихся людей Салли поняла, что их находят красивой парой, в чем-то заурядной, а чем-то запоминающейся: он – в сером, она – в черном, он – с чемоданом, она – с карманным изданием Камю. Она представила себе, как они на протяжении жизни входили бы в аэропорты, на вокзалы, на причалы, в вестибюли гостиниц, и подумала, что они всегда выглядели бы такими же – высокие, молодые, чуть слишком часто друг друга касающиеся. Хорошо бы Джерри перестал то и дело брать ее за руку – это разрушает иллюзию, будто они женаты. А он, видимо, не думал о необходимости поддерживать эту иллюзию здесь. Он поставил чемодан и направился к одной из очередей, а она, покраснев, волнуясь, заняла место в хвосте соседней очереди. Очередь была длинная, двигалась медленно, и постепенно Салли поняла, что атмосфера веселого оживления, царившая вокруг, не имеет никакого отношения ни к ней, ни к ее растерянному виду. Пораженная, она вдруг обнаружила – так поражается человек, который, проснувшись, видит, что находится в комнате, где мебель расставлена точно так же, как в его долгом сне, – что, кроме нее, на свете существуют другие люди и другие проблемы. В очереди чуть позади стоял полный раскрасневшийся человек в мятом дакроновом костюме – от волнения он даже не замечал, что то и дело ударяет ее по ногам своим чемоданом. “Мне надо быть в Ньюарке к семи”, – твердил он. Взволнованное лицо уже не пыталось сохранять вкрадчивое выражение, на которое намекала тоненькая щеточка усов. Одно время Ричард тоже носил такие усы, и Салли подумала, не потому ли его верхняя губа в профиль кажется ей теперь такой голой и беззащитной.
Когда две очереди, изогнувшись, сблизились до расстояния вытянутой руки, Джерри взял ее под локоть и сказал:
– Похоже, забастовка в “Истерн” создала здесь пробку. Надо было нам заранее забронировать места. Когда ты должна вернуться?
– Я думала – между пятью и шестью. Да не волнуйся ты так, Джерри.
– Я волнуюсь не за себя. Руфь поедет встречать меня только после девяти. Давай подумаем. Сейчас пять минут четвертого. Предположим, мы не попадем на три пятнадцать, следующий самолет – в четыре пятнадцать; твоя машина стоит в аэропорту Ла-Гардиа…
– Она может не завестись.
Салли сказала это, чтобы подразнить его. Но он даже не. улыбнулся. Длинное лицо его было напряжено и без смешливых морщинок казалось моложе, неискушеннее. Ричард не раз говорил: Джерри не знает, что такое страдание. Салли поняла эти слова по-своему: что Джерри скользит по поверхности, а Ричард зарывается вглубь; или же: что Джерри со своей женой жить легче, чем ему с нею. Но мысль об этом не оставляла Салли, и она то и дело думала: не для того ли Джерри впустил ее в свою жизнь, чтобы научиться страдать. Он сказал:
– Будем исходить из того, что заведется. Тогда ты приедешь домой чуть позже шести – со скидкой на час “пик”. Это тебя устроит?
– Как выйдет, так и выйдет, – отрезала она. Их разговор явно начал отвлекать стоявшего позади мужчину от собственных забот.
Джерри выхватил у нее из рук деньги и раздраженным жестом показал, чтобы она вышла из очереди.
– Я с таким же успехом могу купить и оба эти чертова билета. Не понимаю, на кой бес нам нужно создавать эту видимость. – Он посмотрел прямо в лицо мужчине, стремившемуся попасть в Ньюарк, и изрек:
– Летайте по воздуху, ругайте без роздыху. – Такая бравада как раз в его стиле: ему приятно создавать впечатление, что он – с любовницей.
Все пластмассовые кресла были заняты. Молоденький моряк-китаец поднялся, уступая Салли место, и она, перешагнув через его спортивную сумку, села. Обычно она не любила, когда к ней относились как к слабому существу, но сейчас охотно приняла предложение моряка. Ей хотелось от всего отключиться. Она углубилась в Камю. Пистолет в руке, слепящий свет. Араб в бумажных брюках. Выстрел, как удар хлыста. Ощущение нереальности. Джерри подошел к ней, держа два желтых билета, и сказал:
– Ну и каша. Оказывается, сегодня на Нью-Йорк не бронируют места – мы все в живой очереди. Но они в любую минуту ждут сообщения о дополнительном самолете. Я уверен, что ты попадешь домой к шести.
– Ш-ш. Ты слишком громко говоришь.
– Слишком громко – для чего?
– А, неважно.
Отрезвленный ее взглядом, он сказал:
– Я получил посадочные талоны с номером очереди.
– На чье имя?
– На мое. О'кей?
Она не могла не улыбнуться.
– Это, кажется, незаконно, – сказала она, потому что он явно именно об этом сейчас и думал.
“Пасхальное шествие” в бравурной аранжировке “Музак” вдруг смолкло, и громкоговоритель забормотал что-то нечленораздельное. Новая волна усталых путешественников скатилась по настилу и растеклась у билетных стоек. Служащие в синих форменных костюмах казались совсем юными и испуганными. Они с преувеличенной четкостью прикрепляли к билетам талончики на багаж и отвечали на вопросы с той непреложной категоричностью, с какой Салли обычно лгала Ричарду. “Ты врешь, как мужчина, – однажды сказал он ей. – Выдумаешь какую-нибудь не правдоподобную историю и держишься ее”. Значит, Ричард знает о ней то, чего не знает Джерри. Она ведь никогда не лгала Джерри. И при мысли об этом он сразу показался ей безнадежно наивным, беспомощным; она встала и пошла к стойке вдоль очереди, состоявшей сплошь из мужчин. Должны же быть какие-то преимущества оттого, что ты – женщина; нельзя только ждать и желать.
Девушка, занимавшаяся билетами, была такая молоденькая, что не побоялась искусственной седины; Салли почувствовала свое превосходство над нею – превосходство умудренной опытом женщины. У этой девчонки нет детей, нет женатого любовника, за которого она не может выйти замуж. Она из причуды покрыла волосы инеем.
– Я должна быть дома к шести, – заявила ей Салли. Но голос ее прозвучал хрустко, робко, тогда как ответ девушки был профессионально тверд.
– Мне очень жаль, мисс, – сказала она. – Следующий самолет на Ла-Гардиа вылетает в четыре пятнадцать. Пассажирам, стоящим в живой очереди, следует пройти к выходу двадцать семь, имея при себе посадочные талоны с порядковым номером.
– Но мы попадем на самолет? – спросила Салли.
– По расписанию следующий самолет на Ла-Гардиа вылетает в четыре пятнадцать, – повторила девушка, ловко прикалывая талончик к билету.
Джерри подошел и встал за спиной Салли.
– Нам сказали, что может быть дополнительный.
– Мы ждем сообщения об этом, сэр, – сказала девушка. Взгляд ее кукольных глаз, умело подмазанных гримом, официально выдаваемым авиакомпанией, охватил Джерри вместе с Салли, но выражение их не изменилось. Салли не была уверена, должна ли она говорить “мы” или “я”. Люди в очереди, услышав их переговоры с девушкой и почувствовав, что эти двое могут попасть на самолет раньше остальных, заволновались, затолкались.
– Прошу соблюдать очередь, – повысив голос, крикнула девушка. – Прошу не выходить из очереди.
Салли вдруг почувствовала симпатию к девушке: пока они с Джерри занимались любовью, таким вот младенцам пришлось взвалить на себя дела целого мира. И теперь, когда взрослые вылезли из своего эгоистического уединения в постели, они с раздражением обнаружили, что мир распадается на части. Какие все мы алчные, какие напористые! Салли стало стыдно, и она закрыла глаза, от души желая снова стать маленькой девочкой. Девочкой, какой она была до того дня, когда отец не вернулся домой. Все поездки, подумала она, таят в себе эту возможность – невозвращения.
– Пить хочется, – сказала она. Джерри спросил:
– Пить или выпить? Чего-нибудь крепкого или просто так?
– Просто так. От алкоголя у меня только больше будет голова кружиться. – Какой-то частицей души она все еще была там, на берегу, с Мерсо и Арабом.
У стойки, где продавали сосиски, стояла такая толпа, что не протолкнешься, но шагах в ста дальше по коридору в направлении центрального зала они обнаружили бар, открытый, точно сцена, с одной стороны; в дальнем конце его был свободный столик. Джерри усадил за него Салли и из отнюдь не блещущего чистотой оазиса, по обеим сторонам которого булькали стеклянные конусы с подцвеченной водой, добыл два пакетика молока в виде двух островерхих палаток из вощеной бумаги. Вернувшись к столику, Джерри поставил один пакетик себе на голову и стал им балансировать. В руке он держал соломинку в белом бумажном пакетике и размахивал ею, как волшебной палочкой. А Салли была Золушкой.
Она сказала:
– Не занимайся эксгибиционизмом.
– А я буду, – сказал он. – Я пришел к выводу, что я страшный человек. Понять не могу, что ты во мне нашла.
Она проткнула отмеченный пунктиром уголок, просунула в отверстие соломинку и принялась пить; по выражению его лица она поняла, что он пустится сейчас в рассуждения.
– Займемся анализом, – сказал он. – Что ты во мне нашла? Должно быть, то, что ты можешь быть со мной лишь считанные минуты – минуты, за которые тебе приходится бороться, – и делает наши отношения бесценными. А вот если мы поженимся, когда я умерщвлю свою жену и по крови своих детей приду к тебе…
– Какие ужасы ты говоришь, Джерри.
– Так мне это видится. Если я таким образом поступлю, я уже не буду тем, кого, тебе кажется, ты любишь. Я буду человеком, бросившим жену и троих детей. Я буду презирать себя, и ты очень быстро станешь относиться ко мне соответственно.
– Я вовсе не уверена, что все именно так произойдет, – сказала она, мысленно пытаясь как-то обобщить свои представления о жизни. Он, право, ничего не понимает. Джерри верит в возможность выбора, в ошибки, в осуждение на вечные муки, – верит, что можно; избежать страданий. Они же с Ричардом просто верят в случай. Да, конечно, детство у нее было несчастливое: неожиданная смерть отца, сумасшествие матери, депрессивное состояние старшего брата, интернаты – и тем не менее в ней жило чувство, что она не имела бы сейчас своего лица, случись все иначе. Она была бы другой – такою, какой ей вовсе не хотелось быть.
– С другой стороны, – сказал он, изящно изгибая кисть (никому из ее знакомых не доставляло такого удовольствия любоваться своими руками), – почему я тебя люблю? Ну, ты мужественная, добрая – в самом деле очень добрая, – роскошная, женственная, живая, в общем – отличная баба, это всякому ясно. Тут уж ничего не скажешь: стоит тебе войти в комнату, все в тебя влюбляются. Я влюбился в тебя, как только увидел, а ты была тогда на девятом месяце – ждала Питера.
– А ты ведь ошибаешься. Я нравлюсь очень немногим.
Он с минуту подумал, словно производя смотр сердец их общих знакомых, и затем сказал с присущей ему жесткой бесстрастностью:
– Пожалуй, ты права.
– Ты вообще единственный, кто видит во мне что-то особенное. – Подбородок у нее задрожал: произнося эти слова, она почувствовала, что еще крепче привязывает себя к нему.
Он сказал:
– Другие мужчины – просто идиоты. Однако же, несмотря на все свои чары, ты несчастлива. Ты нуждаешься во мне, а я не могу тебе себя дать. Я хочу тебя, а получить в свою собственность не могу. Ты – точно золотая лестница, до вершины которой я так никогда и не долезу. Я смотрю вниз – и земля кажется мне клубком голубого тумана. Я смотрю вверх – и вижу сияние, до которого мне никогда не добраться. Это-то и придает тебе непостижимую красоту, и если я женюсь на тебе, я ее уничтожу.
– Знаешь, Джерри, брак – он ведь кое-что и создает, а не только разрушает иллюзии.
– Знаю. Я действительно это знаю. И это меня убивает. Я хочу, помимо всего прочего, – хочу сформировать тебя, создать тебя заново. Я чувствую, что мог бы. А вот с Руфью я этого не чувствую. Она, в общем-то, уже сложилась, и мне, если жить с ней, то лучше всего… – и он на пальцах проиллюстрировал свою мысль, – …на параллелях.
– Давай посмотрим правде в лицо, Джерри, Ты все еще любишь ее.
– Она не вызывает у меня неприязни – это точно. Хотел бы, чтоб было иначе. Это могло бы все облегчить.
Она потянула через соломинку воздух со дна пакета.
– Не пора ли нам двигаться, чтоб не опоздать на четыре пятнадцать?
– Подожди, не затыкай мне рта. Пожалуйста. Послушай. Я вижу все так ясно. У нас с тобой, солнышко мое Салли, – любовь идеальная. Идеальная – потому что она не может быть материализована. Для мира мы не существуем. Мы никогда не лежали вместе в постели, мы не были вместе в Вашингтоне; мы – ничто. И любая попытка начать существовать, вырваться из этой муки убьет нас. О, конечно, мы можем на все наплевать и пожениться и как-то склеить совместную жизнь – в газетах об этом пишут каждый день, – но то, что есть у нас сейчас, мы потеряем. Самое грустное, конечно, что мы в любом случае это потеряем. Слишком вся эта ситуация тяготит тебя. Ты скоро меня возненавидишь. – Он был явно доволен столь блистательным выводом.
– Или ты – меня, – сказала она, поднимаясь. Ей не нравился этот бар. Детишки, ссорившиеся за соседним столиком, вызвали у нее тоску по собственным детям. Мать детишек, хоть и была не старше Салли, выглядела бесконечно измученной.
Когда они выходили из этого бара, напоминавшего сцену, Джерри рассмеялся так театрально, что все головы повернулись в их сторону. Он схватил Салли за руку выше локтя и сказал:
– Знаешь, на что мы похожи? Мне только сию минуту пришло это в голову. Мы с тобой – точно слова молитвы, выгравированные на рукоятке ножа. Помнишь, в детстве мы читали Рипли “Веришь – не веришь!” – там всегда были такие штуки? Выгравировано старым чероки в Стиллуотерсе, штат Оклахома?
Они пошли к выходу на поле по коридору, оклеенному рекламами: одна стена здесь была голубая, другая – кремовая. Салли поняла, что бессильна против этого потока слов: ее словно обезоружили и выставили на посмешище.
– Джерри, наш брак ничем бы не отличался от других браков: жизнь не превратилась бы в сплошной рай, но это еще вовсе не значит, что в ней не было бы ничего хорошего.
– Ох, не надо, – взмолился он, глаза его стали какие-то бесцветные, и он поспешно отвел их от нее. – Не заставляй меня терзаться. Конечно, нам было бы хорошо. Бог ты мой! Конечно, ты была бы мне лучшей женой, чем Руфь. Хотя бы потому, что ты животное классом выше.
“Животное” – это слово больно хлестнуло ее, но, собственно, почему? В Париже она глядела на себя в зеркала и видела правду: люди – животные, белые животные, извивающиеся, рвущиеся к свету. У выхода номер 27 толпились животные в костюмах, они плотно сбились, словно стадо у кручи; от них исходил запах паники. Впервые Салли ощутила безнадежность ситуации. Десятки людей пришли сюда раньше их. Иллюзия порядка, которую поддерживали немногословные молодые агенты по продаже билетов в большом зале ожидания, здесь, среди реклам, предлагающих посетить Бермудские острова и нью-йоркские мюзиклы с длинными, ничего не говорящими названиями, полностью рассыпалась. Ни единого сотрудника авиакомпании. Стальная дверь выхода номер 27, точно вход в газовую камеру, плотно задвинута. Бетонный пол чуть скошен, словно для стока крови. Джерри поставил чемодан у металлической стены и жестом предложил Салли сесть на него, а сам отправился в голову очереди – поговорить с теми, кто был в гуще толкучки. Вернувшись, он сказал:
– Ну и дела. Двое из тех ребят ждут уже с полудня.
– Посадочные талоны у тебя? – спросила она.
Расстроенный, взмокший, он дважды перерыл все карманы, пока, наконец, нашел их и, точно фокусник – стремительным жестом извлек на свет. Внезапно залаял невидимый громкоговоритель. Негр в больших голубых солнечных очках и пилотской фуражке открыл с другой стороны стальную дверь. К нему жался маленький бледный контролер с узким лицом. Громкоговоритель объявил посадку на самолет, вылетающий в четыре пятнадцать на аэродром Ла-Гардиа, выход номер 27, и по коридору, чинно вышагивая, продефилировала группа пассажиров – легкие чемоданчики, хорошо одетые дети и шляпы с цветами. Все это были обладатели забронированных мест. А прочие – “живая очередь” – толпились за оградой из металлических трубок. Один за другим обладатели забронированных мест отмечались у стойки и исчезали. Крещендо недовольных воплей взмыло над сгрудившейся очередью, угрожая захлестнуть негра в голубых солнечных очках; он поднял глаза от билета, который как раз собирался надорвать, и весело сверкнул белоснежными зубами, широкой улыбкой, поражавшей глубиной своей радости, своей мстительности, своего понимания и своего ангельского презрения.
– Потерпите, ребята, – сказал он. – Пусть жена сначала выпроводит его из дома.
Нарочито громкий смех был ответом на эту шутку. Джерри тоже рассмеялся и осторожно бросил взгляд на Салли, а ей был отвратителен смех толпы: они же все подхалимничают перед этим негром. Только бы привлечь к себе его внимание – может, тогда он пропустит их. Дверь, ведущая к самолету, превратилась в позорную преграду; чтобы пройти сквозь нее, требовались улещивания и подкуп. Когда последние обладатели забронированных мест отметились, у стойки пошептались и выкрикнули два номера, не имевших ничего общего с теми, что стояли на посадочных талонах Джерри и Салли. Двое мужчин – таинственные избранники, по костюму и внешнему виду ничем не отличавшиеся от остальных, – отделились от стада и прошли в дверь. Негр приподнял свои голубые солнечные очки и медленно оглядел оставшихся. Глаза у него были налиты кровью. На секунду они остановились на Салли, приподнявшейся было с чемодана.
– Всё, друзья, – сказал он.
В воздухе раздался сдавленный стон протеста.
– А как насчет дополнительного? – крикнул кто-то.
Негр словно и не слышал. Он шагнул в сторону, и стальная дверь с грохотом захлопнулась за ним. Фаланга пассажиров с только что прилетевшего самолета появилась в глубине коридора и двинулась на них – им пришлось отступить в зал ожидания, который сразу словно уменьшился в размерах. Ноги у Салли болели, в горле снова пересохло, и мужчина, стоявший рядом, вдруг показался ей загримированным и чужим, одновременно близким и далеким – точно в пьесе, которую они играли в школе, когда другая девочка изображала ее мужа. Нараставший у Джерри страх, – а Салли чувствовала его запах, – оскорблял ее. Она сказала ему:
– Джерри, ты не видишь всего юмора ситуации. Он спросил:
– Может, попытаем счастья в “Америкен”?
– У меня не хватит денег еще на один билет.
– Господи, у меня тоже. Придется сдать наши билеты и получить деньги.
Он добрых четверть часа проторчал в плотно сбитой, громко выражавшей свое возмущение очереди, и когда билеты были, наконец, сданы и деньги получены, Джерри и Салли помчались по бесконечным чертовым коридорам и лестницам, соединявшим северное крыло аэровокзала с главным зданием. Компания “Америкен” помещалась в самом дальнем конце. Здесь было просторнее, яркий свет не так бил в глаза, но к полированным поверхностям все равно липла чума суеты. От билетных стоек отошли двое-трое со знакомыми лицами – такие же, как они, ветераны ожидания. “Кина, ребятки, не будет”, – весело объявил им один. Значит, их уже приметили. Должно быть, они привлекают внимание – неужели так заметно, что они незаконно вместе? Неужели от них так несет любовью?
Агент по продаже билетов компании “Америкен”, отвечавший точно запущенная магнитофонная лента, подтвердил дурные вести: ни одного места на север до завтрашнего утра. Джерри отвернулся от стойки, губы его брезгливо вытянулись под облезшим от загара носом. Салли спросила:
– А мы можем получить наши места в “Юнайтед”? У нас сохранились посадочные талоны?
– Сомневаюсь. Ох, до чего же я нескладный. Возьми себе лучше пилота в возлюбленные.
Они помчались назад – ее стертые пятки вопили от боли при каждом шаге, – и Джерри снова стал в очередь, и девушка с химически-седыми волосами, состроив гримасу, восстановила их в списке. Он вернулся к Салли и сообщил:
– Она говорит, нечего и думать попасть на тот, что вылетает в пять пятнадцать, но они надеются, что будет дополнительный около шести. Ричард уже вернется домой?
– Наверно. Джерри, не надо делать такое отчаянное лицо. Положение безвыходное. Давай примиримся с тем, что еще несколько часов проведем вместе.
Руки его безвольно висели вдоль тела. Он дотронулся до ее плеча.
– Пойдем погуляем.
Они прошли мимо автоматов, продающих плитки шоколада и книжки Гарольда Роббинса, и, толкнув захватанную двойную дверь, выбрались на воздух. Она сняла туфли, и он нес их – по одной в каждой руке. Она взяла его под локоть, и он, сунув туфлю в карман пиджака, сжал ее пальцы свободной рукой. Они вышли на узкий тротуар, тянувшийся вдоль каких-то безликих, низких кирпичных зданий, – здесь, видимо, никто никогда не гулял, – и двинулись по нему. Асфальт под ее ногами без туфель был теплый. Джерри вздохнул и опустился на низкий бетонный парапет, который разделял два клочка пожухлой травы, нуждавшейся в стрижке. Салли села с ним рядом. Перед ними лежал голый пустырь, где стоял, уткнувшись в землю, одинокий бульдозер, словно его бросили посреди последнего рывка в конце рабочего дня. Мирная тишина повисла над этими акрами ободранной земли. За ними брусочек моста через шоссе поблескивал бесшумно проносившимися машинами. Вдали виднелись деревья, стояли ряды красноватых государственных жилых домов, а еще дальше, на низком синем холме, – аккуратно посаженная роща и надо всем – бескрайнее нежно-голубое небо, зеленоватое ближе к затянутому дымкой горизонту. Пейзаж был какой-то удивительно благостный. Без туфель ноги у Салли перестали гореть, и ее спутник здесь, на фоне неба и травы, вновь обрел реальность.
– Я так и вижу нас в Вайоминге, – сказал он, вытянув руку и указывая куда-то в пространство, – с нами твои дети, и у нас есть лошадь, и холодное маленькое озеро, где можно плавать, и сад, который мы разобьем у дома.
Она рассмеялась. Она заметила как-то мимоходом, что ей всегда хотелось вернуться на запад, но не на побережье, и с тех пор он в своих планах на будущее неизменно исходил из этого. “Вайоминг” – само слово, когда она мысленно писала его, дышало простором, привольем.
– Не дразни меня, – сказала она.
– Разве я тебя дразню? И не думаю. Я говорю все это потому, что так чувствую, хочу, чтобы так было. Извини. Боюсь, слишком я с тобой нюни распускаю; наверно, следовало бы делать вид, будто я вовсе не считаю, что жизнь у нас сложится чудесно. А ведь жизнь у нас сложится чудесно, если я сумею преодолеть чувство вины. Первый месяц мы станем только заниматься любовью и смотреть на все вокруг. Мы ведь будем такие усталые, когда там обоснуемся, и нам придется смотреть на мир заново и строить его, начиная с фундамента: засыпать гравий, потом класть камень за камнем.
Она рассмеялась.
– Мы с тобой будем этим заниматься? Он явно обиделся.
– А разве нет? Это кажется тебе неразумным? Меня, например, после любви с тобой всегда тянет к земле. Сегодня утром, когда мы под руку вышли на улицу, я увидел в витрине магазина маленькое растение, и оно показалось мне удивительно живым. Каждый листочек, каждая жилка. Именно такими я видел предметы, когда учился в художественной школе. В Вайоминге я снова начну писать маслом – и рисовать тостеры для рекламного агентства в Каспере.
– Расскажи мне про художественную школу, Джерри.
– А нечего рассказывать. Я поступил туда и встретил там Руфь, и она очень неплохо для женщины рисовала; отец у нее был священником, и я женился на ней! И не жалею об этом. Мы прожили вместе несколько хороших лет.
– Знаешь, тебе будет ее не хватать.
– В определенном смысле – пожалуй. А тебе, как ни странно, будет не хватать Ричарда.
– Не говори “как ни странно”, Джерри. Ты иногда вынуждаешь меня думать, что все это – дело моих рук. Ты и Руфь были так счастливы…
– Нет.
– …а тут появилась эта злополучная женщина, которая вела себя так, будто хочет завести любовника, тогда как на самом деле хотела заполучить тебя в мужья.
– Да нет же. Слушай. Я ведь уже не один год люблю тебя. И ты это знаешь. И понял я, что люблю тебя, не в ту минуту, когда мы легли в постель, – я это понял, увидев тебя. Что же до брака, то ведь не ты завела о нем разговор. Ты считала его невозможным. А я подумал, что из этого может кое-что получиться. Мне, конечно, не следовало говорить об этом, пока я сам твердо не решил, но ведь и тут мною двигала любовь к тебе: я хотел, чтобы ты знала… Ох, слишком много я болтаю. Даже слово “любовь” начинает звучать бессмысленно.
– В одном ты был не прав, Джерри.
– В чем же? Похоже, я не прав во всем.
– Своей великой любовью ты внушил мне, что быть на положении любовницы – это для меня унизительно.
– Так оно и есть. Ты для этого, право же, слишком хорошая, слишком прямая. Слишком безоглядно ты собой жертвуешь. И я ненавижу себя за то, что все это принимаю.
– Принимай и дальше, Джерри. Если ты не можешь взять меня в жены, пусть хоть я останусь для тебя хорошей любовницей.
– Но я не хочу, чтобы ты оставалась любовницей, – наши жизни для этого не приспособлены. Любовницы – это для европейских романов. А здесь, у нас, другого института, кроме брака, нет. Семья – и баскетбол в пятницу вечером. Ты так долго не выдержишь; тебе кажется, что выдержишь, но я-то знаю, что нет.
– По-моему, я это тоже знаю. Просто я ужасно боюсь, погнавшись за безраздельным обладанием тобой, потерять даже то, что у нас сейчас есть.
– У нас есть любовь. Но любовь должна приносить плоды, иначе она иссякнет. Я вовсе не имею в виду детей – видит Бог, у нас их и так слишком много, – я имею в виду ощущение раскованности, праведности – понимаешь, любовь должна быть освящена благословением. Слово “благословение” кажется тебе глупым?
– А разве мы – не благословение друг для друга?
– Нет. Оно должно исходить не от нас, а свыше.
Над ними в еще ярком небе, тогда как на землю уже наползала тень, беззвучно висел распластанный серебряный самолет. Джерри легонько обнял ее за плечи и совсем по-иному посмотрел на нее – лицо его расползлось в отеческой улыбке, всепрощающей, обволакивающей. Он сказал:
– Эй! – и посмотрел на свои колени. – Ты знаешь, я могу сидеть здесь с тобой и говорить о потерях – о том, что могу потерять тебя и что мы оба можем потерять нашу любовь, но ведь я говорю только потому, что ты – со мной, и все это всерьез не воспринимаю. А вот когда я потеряю тебя, когда тебя со мной не будет, тут я взвою, как зверь. По-настоящему взвою. И все, что мешает мне сейчас прийти к тебе, покажется пустыми словами.
– Но ведь это не пустые слова.
– Нет. Пожалуй, не совсем. Возможно, беда наша в том, что мы живем на закате старой морали: она еще способна мучить нас, но уже не способна поддерживать.
Тембр его голоса, заглохшего в беспросветном мраке, заледенил ее. Она чуть подвинулась вперед, высвобождаясь из-под его руки, встала, глубоко вобрала в легкие воздух и позволила мысли разориться в природе.
– Какой чудесный долгий день, – сказала она, пытаясь вернуть радость, охватившую их при виде этих мест.
– Почти самый долгий в году, – сказал он, поднимаясь с наигранно самоуверенным видом, который старался придать себе всякий раз, как получал отпор. – Никак не могу сообразить, дни сейчас убывают или еще прибывают? – Он посмотрел на Салли и, решив, что она не поняла, пояснил:
– Я имею в виду солнцестояние.
И оба расхохотались от этой его попытки объяснить очевидное.
Они вернулись в зал ожидания и обнаружили, что там по-прежнему полно народу. Самолет в пять пятнадцать улетел. Запах сосисок усилился: настало время ужина. Трое молодые людей за стойками уже явно осатанели от нескончаемого столпотворения. Они перекидывались остротами, то и дело пожимали плечами и не столько отвечали на вопросы разъяренной, взволнованной толпы, сколько стоически сносили ее возмущение. Девушка с седыми волосами потягивала кофе из стаканчика с эмблемой авиакомпании. Джерри осведомился у нее, будет ли дополнительный самолет в шесть часов.








