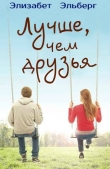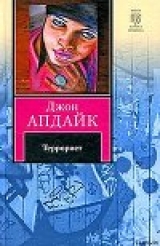
Текст книги "Террорист"
Автор книги: Джон Апдайк
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
– Ваш отец, – подсказывает ему Леви.
– Совершенно верно. Он надеялся, как рассказала мне мать, научиться американскому делопроизводству и технике рыночного дела. А это оказалось не так легко, как ему говорили. Его фамилия – в моем представлении он по-прежнему жив – Омар Ашмави, а ее – Тереза Маллой. Она американка ирландского происхождения. Они поженились задолго до того, как я родился. Так что я законнорожденный.
– Отлично. Я в этом не сомневался. Да это и не имеет значения. Законность не относится к ребенку, если вы понимаете, чтó я имею в виду.
– Понимаю, сэр. Благодарю вас. Мой отец прекрасно знал, что, женившись на американской гражданке, какой бы аморальной дрянью она ни была, он получает американское гражданство, что и произошло, но не американскую сноровку и не связи, ведущие к американскому процветанию. Отчаявшись когда-либо заработать больше, чем на скромную жизнь, он, когда мне было три года, снялся с якоря. Я употребил правильное выражение? Я встретил его в автобиографических мемуарах великого американского писателя Генри Миллера, которые мисс Макензи велела нам прочесть по своему курсу Совершенствования в английском языке.
– Велела это прочесть? Бог ты мой, Ахмад, как изменились времена! Мы держали Миллера под партой. Вы знаете это выражение?
– Конечно. Я же не иностранец. Я никогда не бывал за границей.
– Вы спросили, правильно ли употребили выражение «сняться с якоря». Это старомодное выражение, но большинство американцев знает, что оно значит. Первоначальный его смысл – «удрать из военного лагеря».
– Мистер Миллер, по-моему, употребил его применительно к ушедшей от него жене.
– Да. Ничего удивительного. Я имею в виду то, что она снялась с якоря. Миллер едва ли был легким мужем. – Эти три способа общения с женой в «Сексе». Неужели на английском факультете изучают «Секс»? Неужели ничего не оставляют для познания во взрослом состоянии?
Юноша делает удивительный разворот от странного направления, какое приняли высказывания его наставника.
– Мама уверяет меня, что я не могу помнить отца, – говорит он, – а я его помню.
– Что ж, вам было три года. Биология развития организма такова, что у вас могло сохраниться несколько воспоминаний. – Джек Леви намеревался совсем иначе строить свое интервью.
– Этакая теплая темная тень, – говорит Ахмад, резко нагибаясь вперед от предпринятого усилия. – Очень белые квадратные зубы. Маленькие аккуратные усики. Я уверен, что мое стремление к аккуратности идет от него. Среди моих воспоминаний есть сладковатый запах – вроде лосьона после бритья, – правда, в нем чувствуется острота, так что, возможно, отец только что съел какое-то ближневосточное блюдо. Он был темнокожий, с более темной, чем у меня, кожей и с изящным, тонким лицом. Пробор в его волосах шел почти посредине.
Это намеренное отклонение в сторону смущает Леви. Парень что-то скрывает… Что?
– Возможно, вы путаете фотографию с воспоминанием, – замечает Джек, ставя парнишку на место.
– У меня всего одна или две фотографии. У мамы, возможно, есть и другие, которые она спрятала от меня. Когда я был маленький и ничего еще не знал, она не отвечала на мои вопросы об отце. По-моему, она очень рассердилась на него за то, что он оставил ее. А мне б хотелось когда-нибудь его найти. Не предъявлять ему никаких требований и не винить, а просто поговорить с ним, как говорили бы двое мусульман.
– М-м, мистер… Как вы хотите, чтобы вас называли? Маллой или… – Он снова бросает взгляд на папку. – Ашмави?
– Мама дала мне свое имя для социальной страховки и водительских прав, и найти меня можно в ее квартире. Но когда я окончу школу и стану независимым, я буду называться Ахмад Ашмави.
Леви не отрывает глаз от папки.
– И как же вы намерены обеспечивать свою независимость? У вас были хорошие отметки, мистер Маллой, по химии и по английскому, но я вижу, что в прошлом году вы перешли на профессиональное обучение. Кто вам это посоветовал?
Юноша опускает глаза – две мрачные черные лампы, обрамленные длинными ресницами, – и проводит рукой по лицу, словно прогоняя жужжащего возле уха комара.
– Мой учитель, – говорит он.
– Какой учитель? Переход с одной программы лекции на другую должен быть согласован со мной. Мы с вами могли бы побеседовать – пусть даже мы оба и немусульмане.
– Это не здешний мой учитель. А тот, что в мечети. Шейх Рашид, имам. Мы с ним вместе изучаем Священный Коран.
Леви, пытаясь подавить неприязнь, говорит:
– Так. А знаю ли я, где находится мечеть? Боюсь, что не знаю, если не считать той огромной на Тилден-авеню, которую черные мусульмане после бунтов в шестидесятые годы превратили в развалины. Вы ее имеете в виду? – Он произнес это жестким тоном, чего не хотел. Ведь не этот парнишка разбудил его в четыре часа ночи и насадил ему в голову мысли о смерти или превратил Бет в удручающую толстуху.
– Это мечеть на Уэст-Мэйн-стрит, сэр, в шести кварталах от Линден-бульвара.
– Бульвара Рейгана. Его переименовали в прошлом году, – говорит Леви, укоризненно поджимая губы.
Парнишка на это не клюет. Политика для подростков – темный закоулок в раю для знаменитостей. Опросы показывают, что они считают Кеннеди лучшим президентом после Линкольна, потому что на нем была марка знаменитости, – в любом случае они не знают никого другого, даже Форда и Картера, вот разве что Клинтона и Бушей, если они способны отличить одного Буша от другого.
А юный Маллой – другая фамилия вылетает из памяти Леви – тем временем говорит:
– Мечеть на улице, где полно лавочек, над лавкой косметики и тем местом, где выдают наличные. Ее первый раз нелегко найти.
– И имам этого места, которое трудно найти, велел вам перейти на профессиональное обучение.
Парнишка снова медлит, защищая то, что защищает, а потом, смело глядя своими большими черными глазами, в которых зрачок сливается с радужной оболочкой, произносит:
– Он говорит, что программа колледжа подвергает меня коррумпирующему влиянию – скверной философии и скверной литературы. Западная культура лишена Бога.
Джек Леви откидывается на спинку своего скрипящего, старомодного деревянного кресла-качалки и вздыхает:
– Так оно и есть. – Испугавшись скандала на школьном совете и в прессе, если узнают, что он сказал такое ученику, Леви спохватывается: – Это у меня вырвалось. Эти евангелисты-христиане совсем меня доконали: винят Дарвина в том, что Господь так плохо соорудил вселенную.
Но парнишка не слушает, продолжает свое:
– И потому что западная культура лишена Бога, она погрязла в сексе и предметах роскоши. Взгляните на телевизор, мистер Леви: как там используют секс, чтобы продать то, что вам не нужно. Взгляните на историю, какую преподают в школе, – это же чистый колониализм. Взгляните, какой христиане устроили геноцид исконным американцам, как подточили Азию и Африку, а теперь взялись за ислам со всею мощью Вашингтона, где правят евреи, чтобы таким образом удержаться в Палестине.
– Вот так-так! – произносит Джек, думая: интересно, парень понимает, что разговаривает с евреем? – Да это целый список явлений, чтобы выбить вас из школы. – Ахмад таращит глаза при упоминании о такой несправедливости, и Джек замечает, что радужная оболочка его глаз не чисто черная, а каряя с зеленоватым отливом, щепоткой от мамы Маллой. – А имам никогда не говорил, – спрашивает он, благодаря наклону качалки с доверительным видом пригибаясь к столу, – что такой умный мальчик, как вы, живущий в нашем многоликом и исполненном терпимости обществе, должен познакомиться с разными точками зрения?
– Нет, – говорит Ахмад с удивительной категоричностью, вызывающе надув пухлые губы. – Шейх Рашид этого не говорил. Он считает, что такой релятивистский подход принижает религию, создавая впечатление, что она не имеет особого значения. Вы верите в то, я верю в это, и мы живем вместе – таково умонастроение американцев.
– Правильно. А ему это не нравится?
– Он терпеть этого не может.
Джек Леви, продолжая сидеть пригнувшись, кладет локти на стол и в задумчивости упирается в скрещенные пальцы подбородком.
– А вы, мистер Маллой? Вы тоже терпеть этого не можете?
Парнишка застенчиво вновь опускает глаза.
– Я, конечно, не питаю ненависти ко всем американцам. Но умонастроение американцев – это умонастроение неверных. Оно ведет к страшной гибели.
Он не говорит: «Америка хочет отнять у меня моего Бога». Он защищает своего Бога от этого усталого, неухоженного, неверующего старого еврея и хранит про себя подозрение, что шейх Рашид так рьяно абсолютен в своих доктринах, потому что Бог потихоньку сбежал с его светлых йеменских глаз, голубовато-серых глаз женщины-кафирки. Ахмад, растя без отца, с блаженно неверующей матерью, привык быть единственным почитателем Бога, – тем, чьим невидимым, но ощутимым компаньоном был Бог. Бог всегда был с ним. Как сказано в девятой суре: «У тебя нет иного патрона или помощника, кроме Бога». Бог – существо, близкое ему, эдакий сиамский близнец, присоединенный ко всем частям твоего тела – и внутри, и снаружи, и ты можешь воззвать в любой момент к нему в молитве. Бог – его радость. А этот старый дьявол еврей, прикрываясь своей хитрой мудростью и манерами лжеотца, жаждет разорвать этот союз и отобрать у него Всемилостивейшего и Жизнетворящего.
Джек Леви снова вздыхает и думает о следующем посетителе – еще одном нуждающемся, неприветливом, введенном в заблуждение подростке, готовящемся кинуться в трясину мира.
– Что ж, возможно, мне не следует вам этого говорить, Ахмад, но, учитывая ваши оценки и результаты тестов, а также вашу далеко не заурядную манеру держаться и серьезность, я считаю, что ваш – как же его звать? – имам способствовал тому, что вы зря растратили свои школьные годы. Жаль, что вы сошли со школьной дороги.
Ахмад стремится оправдать шейха Рашида:
– Сэр, у нас нет денег на то, чтобы платить за колледж. Моя мать считает себя художницей, но ей пришлось прекратить свое обучение, когда она стала помощницей медсестры: не могла она оплачивать еще два года, потому что мне надо было идти в школу.
Леви ерошит свои редкие, уже и без того взлохмаченные волосы.
– О'кей, понятно. Сейчас все мы подтягиваем пояса при том, как увеличились расходы на безопасность и как устроенные Бушем войны пожирают то, что было сверхприбылью. Но посмотрим правде в глаза: все еще существует достаточно пособий для умных, достойных цветных детей. Я уверен, мы могли бы добиться этого для вас. Возможно, не Принстон и, возможно, не Ратчерс, но что-нибудь вроде Блумфилда или Ситон-Холла, Фейрлей-Диккинсона или Кина было бы отлично. Но что сейчас об этом говорить. Жаль, что у меня не было вашего дела раньше. Получайте диплом об окончании школы и посмотрите, что вы будете думать насчет колледжа через год или два. Вы знаете, где меня найти, и я постараюсь сделать все, что смогу. Могу я спросить, что вы намеревались делать после выпуска? Если у вас нет никаких перспектив в плане работы, подумайте об армии. Это теперь не самое любимое место, но по-прежнему немало дает человеку – вы приобретете кое-какие навыки и помощь в получении образования впоследствии. Я, например, такую помощь получил. Если вы немного знаете арабский, вы им понравитесь.
У Ахмада лицо становится жестким.
– Армия пошлет меня сражаться с моими братьями.
– Или сражаться за ваших братьев – такое тоже возможно. Ведь не все иракцы – мятежники. В большинстве своем они не такие. Они хотят заниматься бизнесом. Цивилизация ведь началась там. И до Хусейна это была перспективная маленькая страна.
Брови юноши, густые и широкие, как у мужчины, только волоски более тонкие, мрачно сдвигаются. Ахмад встает, чтобы уйти, но Леви еще не готов отпустить его.
– Я спросил, – не отступается он, – вы уже приглядели себе какую-нибудь работу?
Ответ звучит неохотно:
– Мой учитель считает, что мне надо водить грузовик.
– Водить грузовик? Какой грузовик? Грузовики бывают разные. Вам всего восемнадцать, а я случайно знаю, что вы еще три года не сможете получить права на вождение трактора, или автоцистерны, или даже школьного автобуса. Экзамен на права – на коммерческие права – трудный. Пока вам не исполнится двадцать один год, вы не сможете выезжать за пределы штата. И не сможете перевозить опасные материалы.
– Не смогу?
– Нет, насколько я помню. У меня до вас были молодые люди, интересовавшиеся такой работой, – многих отпугнули техническая сторона этого дела и все эти правила. Вам надо будет вступить в профсоюз водителей грузового транспорта. В грузовых перевозках много трудностей. И много бандитов.
Ахмад пожимает плечами – Леви видит, что исчерпал отведенную парнишкой квоту на сотрудничество и любезное поведение. Парнишка замкнулся. О'кей, так же поступит и Джек Леви. Он живет в Нью-Джерси дольше этого мальчишки-показушника. И надеется, что менее опытный из мужчин сломается и нарушит молчание.
Ахмад чувствует, что обязан оправдаться перед этим неудачником евреем. Запах неудачника исходит от мистера Леви, как иногда исходит от матери Ахмада, после того как один дружок бросил ее, а другой еще не появился, и вот уже несколько месяцев она не продала ни одной своей картины.
– Мой учитель знает людей, которым может понадобиться водитель. И кто-нибудь введет меня в курс дела, – поясняет Ахмад. – За это хорошо платят, – добавляет он.
– И работать надо по многу часов, – говорит наставник, с треском закрывая папку, где на первой странице он нацарапал: «пд» и «нк» – свои сокращения: «пропащее дело» и «никакой карьеры». – Скажите мне вот что, Маллой. Ваша вера – она для вас важна?
– Да.
О чем-то парнишка умалчивает – Джек нюхом чувствует это.
– Значит, Бог – Аллах – кажется вам совершенно реальным.
Ахмад произносит медленно, словно в трансе или словно цитирует что-то заученное по памяти:
– Он во мне и рядом со мной.
– Отлично. Отлично. Рад это слышать. Храните это. Я был немного приобщен к религии, мать зажигала на Пассовер свечи, а отец у меня был циник – высмеивал религию, и я последовал его примеру и не сохранил веры. В общем-то я ее не терял. Я считаю: «всё из праха, и возвратится в прах» [3]3
Библия. Книга Екклезиаста. 3:20. – Здесь и далее примеч. пер.
[Закрыть]. Извините.
Парнишка моргает и кивает, несколько напуганный таким признанием. Его глаза кажутся круглыми черными лампами над белоснежной рубашкой – они словно выжжены в памяти Леви и время от времени возникают как зрительный образ солнца в момент заката или вспышка камеры, когда ты покорно позируешь, стараясь выглядеть естественно, и вдруг неожиданно происходит вспышка.
Леви продолжает свое:
– Сколько вам было лет, когда вы… когда вы обрели свою веру?
– Мне было одиннадцать, сэр.
– Любопытно… Я в этом возрасте объявил, что прекращаю заниматься скрипкой. Бросил вызов родителям. Самоутвердился. К черту всех. – Парнишка продолжает смотреть в одну точку, не желая признавать такое единство. – О'кей, – уступает Леви. – Мне хочется немного больше о вас подумать. Возможно, я захочу снова встретиться с вами, дать вам некие материалы до вашего окончания школы. – Он встает и импульсивно берет худую, хрупкую на вид руку высокого юноши, чего не делает с каждым мальчишкой по окончании интервью и никогда не станет нынче делать с девушкой: малейшее касание рискует вызвать жалобу. Кое-кто из этих горячих штучек с пожаром между ног любит пофантазировать. Рука у Ахмада такая вялая и влажная, что Джек поражен: да он все еще застенчивый мальчишка, а не мужчина. – Ну, а если не встретимся, – в заключение произносит наставник, – пусть у вас будет замечательная жизнь, мой друг.
В воскресенье утром, когда большинство американцев еще в постели, правда, некоторые уже спешат на раннюю мессу или намеченный матч по гольфу в еще влажной от росы траве, министр внутренней безопасности переводит уровень так называемой угрозы террора с желтого цвета, что означает «повышенный», на оранжевый, что означает «высокий». Это плохая новость. Хорошая новость – то, что на более высокий уровень угрозы переводятся только отдельные районы Вашингтона, Нью-Йорка и северная часть Нью-Джерси; остальная страна остается на желтом уровне.
Министр сообщает стране со своим почти безупречным пенсильванским акцентом, что, судя по последним данным разведки, изобилующим, по его словам, «тревожными подробностями», в этих столичных районах Восточного побережья готовятся нападения на наиболее чувствительные объекты, которые «враги свободного мира изучали с помощью самых изощренных разведсредств». Финансовые центры, стадионы, туннели, мосты, метро – все это находится под угрозой.
– Вы увидите, – сообщает он телекамерам, выглядящим эдакими амбразурами под цвет пушек, прикрытыми линзами, к которым с другой стороны прильнул океан доверчивых взволнованных граждан, – что по периметрам зданий будут устроены специальные буферные зоны, чтобы там не могли парковаться не имеющие разрешения машины и грузовики; будут введены ограничения на пользование подземными гаражами; сотрудники безопасности с личным знаком и фотографией будут проверять входящих и выходящих из зданий; будет увеличено число стражей порядка и проводиться усиленная проверка сумок на колесиках, пакетов и всевозможных доставок.
Министру нравится выражение «усиленная проверка», и он произносит это подчеркнуто. Он вызывает в воображении картину того, как рослые мужчины в зеленых или голубовато-серых спортивных костюмах раздирают сумки на колесиках и пакеты, своим усердием оправдывая ежедневные страдания министра внутренней безопасности по поводу невыполнимости его нелегкой задачи. А задача его – защищать, несмотря ни на что, почти триста миллионов анархических душ, ежедневно совершающих миллионы неразумных импульсивных поступков и эгоистических действий, ускользающих от возможного наблюдения. Эти коллективные провалы внимания и несоблюдение правил создают идеальную атмосферу, в которой враг может плести интриги и заговоры. Разрушать, часто думал министр, куда легче, чем строить, и беспорядок легче создать, чем общественный порядок, поэтому столпы общества всегда оказываются позади тех, кто уничтожает его, подобно тому (а в юности он играл в футбол за команду «Лихай») как быстроногий принимающий игрок всегда опередит левого или крайнего правого защитника.
– И да благословит Бог Америку, – произносит в заключение министр.
Красный огонек над маленькой амбразурой гаснет. Выступление министра окончено. Он внезапно становится маленьким – теперь его слова услышат лишь кучка телетехников да верные сотрудники, окружающие его в этом тесном помещении средств массовой информации, находящемся в бомбоубежище, в сотне футов под Пенсильвания-авеню. Другие члены Кабинета министров получают федеральные здания из мрамора и известняка, откуда у каждого свой вид из окна, тогда как он вынужден работать в маленьком кабинетике без окон, находящемся в подвале Белого дома. Издав геркулесов вздох усталости, министр отворачивается от камер. Он крупный мужчина с выступающей на спине мускулатурой, что создает дополнительные мучения портным, шьющим его темно-синие костюмы. Рот на его массивной голове выглядит поджатым и маленьким. Казалось, что и волос на этой голове тоже мало – словно натянута чужая шляпа. Его пенсильванский акцент звучит не как проглатывающий слога рык у Ли Якокки или пронзительный гулкий голос Арнолда Палмера, – он принадлежит к более молодому поколению и говорит на нейтральном, приятном для средств массовой информации английском, который только своей торжественностью и произношением некоторых гласных выдает, что источником его является штат, известный своей серьезностью, рвением и стоической покорностью, а также квакерами и угольными шахтами, фермерами-менонитами и богобоязненными пресвитерианцами – стальными магнатами.
– Что скажешь? – спрашивает он своего помощника, стройную, с красноватыми глазами соотечественницу-пенсильванку шестидесяти четырех лет, тем не менее девственницу Эрмиону Фогель.
Прозрачная кожа и боязливая стеснительность Эрмионы указывают на инстинктивное стремление мелкой сошки стать невидимкой. Так же топорно и весело, как министр выражал свое доброе отношение и доверие, он забрал ее с собой из Гаррисбурга и дал ей неофициальную должность: заместитель министра по женским сумочкам. А проблема была вполне реальная: дамские сумочки были выгребными ямами, где лежит все вперемешку, даже сокровища, тут можно укрыть любое количество компактных орудий террористов: складные кусачки, взрывные пульки, револьверы-автоматы, похожие на губную помаду. Развить протокол обыска в этой важной, покрытой мраком неизвестности области помогла Эрмиона, придумав давать охранникам у входа простую деревянную палку, которой они могли тыкать в глубину и никого не возмущать тем, что они роются голыми руками.
Большинство персонала службы безопасности было набрано из национальных меньшинств, а многие женщины – особенно пожилые – содрогались при виде того, как черные или коричневые пальцы роются в их сумках. Задремавший было гигант американского расизма, убаюканный десятилетиями официальных либеральных басен, вновь зашевелился, когда афроамериканцы и лица испанской крови, которые (на что часто поступают жалобы) «даже и говорить-то по-английски по-настоящему не могут», получили право обыскивать, расспрашивать, задерживать, давать разрешение на вылет или отказывать в нем. В стране, где увеличилось число входов, оберегаемых персоналом безопасности, увеличилось и число охранников. Хорошо оплачиваемым профессионалам, путешествующим на самолетах и посещающим недавно укрепленные правительственные здания, представляется, что смуглым низшим слоям общества дана поистине тираническая власть. Уютная жизнь, которая всего десяток лет назад спокойно протекала среди привилегий и привычной вседоступности, теперь – казалось, на каждом шагу – наталкивалась на камни преткновения в виде намеренно не спешащих стражей, подолгу разглядывающих ваши права или посадочные талоны. Там, где раньше уверенная манера держаться, соответствующие костюм и галстук, а также визитка размером два на три с половиной дюйма открывали двери, теперь замок не работает, дверь остается закрытой. Как могут функционировать перетекающие жидкости капитализма, не говоря уж о коммерции интеллектуального обмена и светской жизни семейных кланов в обстановке столь густой сети предосторожностей? Враг достиг своей цели: бизнес и развлечения на Западе непомерно застопорились.
– По-моему, все, как всегда, прошло очень хорошо, – отвечает Эрмиона Фогель на вопрос, который забыл задать министр.
Он озабочен несовместимостью требований приватности и безопасности: удобство людей и безопасность были ежедневной его заботой, а компенсации в виде восхищения публики – почти никакой, да и финансовое вознаграждение крайне скромное, к тому же дети растут и приближается время для поступления их в колледж; и жена, вращаясь в бесконечном светском водовороте республиканского Вашингтона, должна соответствовать его стилю. За исключением одинокой черной женщины, полиглотки и превосходной пианистки, отвечающей за долгосрочную глобальную стратегию, все коллеги министра родились в богатых семьях и нажили дополнительные состояния в частном секторе за время восьмилетнего отдыха от служения обществу при Клинтоне. А министр в эти жирные годы пробивал себе путь наверх с низко оплачиваемых правительственных постов в «ключевом штате». Теперь все клинтонцы – включая самих Клинтонов – жиреют на своих «откровенных» мемуарах, а министр – лояльный и флегматичный – обязан держать рот на замке, сейчас и во веки веков.
И дело не в том, что он знает нечто, чего его арабисты ему не сообщали, – мир, за которым они следят, эта электронная трескотня, разражающаяся поэтическими эвфемизмами и патетическим бахвальством, столь же чужда и отталкивающа для министра, как мир бессонных подонков, даже если они кавказских кровей и выросли в христианстве. «Когда небо разламывается на востоке и багровеет словно роза или крашеная кожа» – включением в эту фразу из Корана не существующих в Коране слов «на востоке» вместе с различными бессвязными и экстравагантными «признаниями» плененных оперативников можно (а то и нельзя) оправдать повышение уровня надзора со стороны полиции и военных, установленного в некоторых финансовых организациях Восточного побережья, которые занимают эффектные небоскребы, столь привлекательные для менталитета суеверного врага. А враг одержим идеей уничтожения священных мест и, подобно нашим старым коммунистическим архипротивникам, убежден, что у капитализма есть штаб-квартира – голова, которую следует срубить, дав таким образом возможность правоверным быть с благодарностью загнанными в аскетичную и догматичную тиранию.
Враг не может поверить, что демократия и потребительские интересы – в крови каждого человека, являясь продуктом инстинктивного оптимизма и жажды свободы каждого индивидуума. Даже для такого верного посетителя церкви, как министр, фатализм Божьей воли и обещание блаженства в ожидающем тебя мире отошли в век обскурантизма. Те, кто все еще верит в это обещание, имеют одно общее: они жаждут умереть. Неверящие же слишком любят эту мимолетную жизнь – эта строфа то и дело возникала в трескотне Интернета.
– Меня распнут за это выступление, – мрачно признался министр своему так называемому заместителю. – Если ничего не произойдет, значит, я – паникер. А если произойдет, то я – ленивая пиявка, высасывающая из общества деньги и допустившая смерть тысяч людей.
– Никто такого не скажет, – заверяет его Эрмиона, и ее бледное лицо старой девы краснеет от сочувствия. – Все – даже демократы – знают, что вы заняты непосильной работой, которую тем не менее надо выполнять ради выживания нашей страны.
– Я полагаю, этим все сказано, – признает объект ее восхищения, и рот его становится еще меньше, подобранный осознанным мрачным юмором.
Лифт мягко спускает их вместе с двумя вооруженными охранниками (одним мужчиной и одной женщиной) и тремя сотрудниками в серых костюмах в подвал Белого дома. На улице в солнечных лучах Виргинии и Мэриленда звучат колокола церквей.
Министр вслух размышляет:
– Эти люди… Почему им хочется творить такие жуткие вещи? Почему они так ненавидят нас? За что такая ненависть?
– Они ненавидят свет, – говорит ему верная Эрмиона. – Как тараканы. Как летучие мыши. «Свет загорелся во тьме, – цитирует она, зная, что пенсильванское благочестие открывает путь к его сердцу, – и тьма его не восприняла».