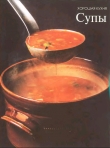Текст книги "Пять четвертинок апельсина (др. перевод)"
Автор книги: Джоанн Харрис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
11
На ферме работы всегда хватает. Натаскать из колодца воды в оцинкованных ведрах и выставить их у стены подвала под навесом, чтоб вода не нагрелась на солнце; подоить коз, отнести бадейку с молоком в молочный сарай и прикрыть чистой муслиновой тряпочкой; отвести коз на пастбище, иначе они все овощи в огороде сожрут; покормить кур и уток; собрать созревшую за ночь клубнику; растопить плиту – хотя я лично сомневалась, что мать будет сегодня что-то печь; вывести нашу кобылу Бекассин на пастбище; налить в поилки свежей воды. В общем, хоть мы и носились как сумасшедшие, на все про все ушло часа два, не меньше. К тому времени, как мы покончили со своими обязанностями, солнце пригревало уже вовсю, ночная влага испарилась с насквозь пропекшихся земляных тропинок, да и роса на траве почти высохла. Пора было в путь.
Ни Ренетт, ни Кассис о деньгах у меня так и не спросили. Да и зачем? Кассис ведь сказал, что я за все буду платить сама, и был уверен, что платить мне нечем. Рен, правда, как-то странно на меня косилась, когда мы собирали последние клубничины, – наверно, была поражена моей самоуверенностью, – а потом, переглянувшись с Кассисом, довольно глупо хихикнула. Я обратила внимание на то, что оделась она особенно тщательно: в плиссированную школьную юбочку и красный джемпер с короткими рукавами, на ногах гольфы и модельные туфельки; волосы уложены хитроумной толстенькой колбаской и высоко подколоты с помощью шпилек. И пахло от Рен как-то незнакомо – чем-то сладковатым, похожим на запах пудры или, может, алтея и фиалок. И губы она накрасила своей красной помадой. Интересно, подумала я, уж не на свидание ли она собралась? Например, с каким-нибудь мальчиком из школы. Ренетт явно нервничала и ягоды срывала слишком торопливо, хотя и не без изящества; мне она казалась похожей на кролика, который ест клубнику, зная, что вокруг полно хищных ласок. Двигаясь вдоль клубничной гряды, я услышала, как Рен что-то шепнула Кассису и неестественно, чересчур пронзительно засмеялась.
Я только плечами пожала. Небось собрались куда-то отчалить без меня. Ну и пусть. Я ведь заставила Рен пообещать мне, что они возьмут меня с собой, и теперь она никак не могла отвертеться. Но с другой стороны, им было известно, что карманных денег у меня нет. А значит, в кино они собираются пойти без меня. Возьмут и оставят меня у фонтана на рыночной площади, велят ждать их там; или отошлют куда-нибудь с выдуманным поручением, а сами будут встречаться со своими новыми друзьями. Я с мрачным видом прикусила губу. Да, над этим стоило поразмыслить. Скорее всего, именно так они и поступят. Они настолько в себе уверены, что им и в голову не пришло, как просто решается проблема с деньгами. Рен-то, конечно, ни за что до Скалы сокровищ не доплыть. А Кассису я по-прежнему кажусь малявкой, которая преклоняется перед ним, обожаемым старшим братом, и никогда не осмелится хоть что-нибудь сделать без его разрешения. Время от времени он посматривал на меня и удовлетворенно улыбался, в его глазах искрилась насмешка.
В восемь мы наконец тронулись в путь. Я сидела позади Кассиса на багажнике его огромного, неуклюжего велосипеда, вытянув вперед ноги и примостив их на раме, в опасной близости от руля. Велосипед Рен был поменьше и поэлегантней, с высоким рулем и кожаным сиденьем. К раме спереди была прикреплена специальная корзинка, в которую она положила фляжку с кофе из цикория и три одинаковых свертка с бутербродами. Голову она повязала белым шарфом, чтобы сберечь прическу, и теперь концы этого шарфа развевались у нее на затылке. Мы останавливались раза три или четыре, чтобы сделать несколько глотков сваренного Рен кофе, проверить, не спустили ли шины, и слегка перекусить хлебом и сыром вместо завтрака. Наконец показались пригороды Анже; мы проехали мимо того collège, где учились Рен и Кассис, – сейчас он был закрыт на каникулы, и у ворот стояли два немецких солдата, – и направились по улице, застроенной аккуратными оштукатуренными домами, к центру города.
Кинотеатр «Palais-Doré»[34]34
«Золоченый дворец» (фр.).
[Закрыть] находился на центральной площади, рядом с тем местом, где обычно устраивали ярмарку. По краям площади выстроились в ряд всякие магазинчики и лавчонки, по большей части открытые с раннего утра; какой-то человек старательно мыл тротуар перед входом в магазин, вытащив на улицу ведро с водой и швабру. Мы пристроили велосипеды в узком переулке между парикмахерской и лавкой мясника, витрина которой была закрыта железными жалюзи. В этом переулке и пройти-то можно было с трудом, не то что проехать: вокруг кучи мусора и отходов; мне подумалось, что вряд ли тут тронут наши велосипеды. Какая-то женщина улыбнулась нам с террасы кафе и выкрикнула приветствие; у нее за столиками уже сидели и завтракали несколько ранних воскресных посетителей, пили кофе с цикорием, ели круассаны и яйца вкрутую. Мимо на велосипеде промчался мальчишка-разносчик, с важным видом трезвоня в звонок. Возле церкви в газетном киоске продавали сводки с полей сражений со списками убитых и раненых. Кассис огляделся и направился прямиком к киоску. Я видела, как он сунул что-то торговцу, после чего тот передал ему сверток, моментально исчезнувший у Кассиса за пазухой.
– Что он тебе такое дал? – с любопытством осведомилась я.
Брат только нетерпеливо повел плечами. Он был страшно собой доволен, доволен настолько, что был просто не в состоянии молчать, хоть ему и хотелось подразнить меня. Заговорщицки понизив голос, он позволил мне взглянуть на свернутые в трубку журналы, которые сразу снова сунул за пазуху.
– Это комиксы. Такие истории с продолжением, – с важным видом пояснил он и подмигнул Рен. – А еще журнал про американское кино.
Сестра даже взвизгнула от восторга и невольно протянула руку, пытаясь выхватить заветный журнал.
– Дай сюда! Ну дай!
Кассис раздраженно шикнул на нее:
– Ш-ш-ш! Тихо, ты! Ради бога, тише! – Он укоризненно покачал головой и снова перешел на шепот. – Он такую любезность мне оказал, а ты орешь. Это с черного рынка, – произнес он почти беззвучно, одними губами. – Он припрятал их специально для меня.
Ренетт с благоговением посмотрела на него. Меня же все это впечатлило куда меньше. Возможно, потому, что я очень мало знала о черном рынке и о подобных редких товарах, а возможно, потому, что во мне уже прорастали семена бунта, заставлявшие оспаривать все то, чем так гордился брат. Я презрительно пожала плечами и равнодушно отвернулась. Но мне все же очень хотелось выяснить, чем этот торговец газетами обязан Кассису, и в итоге я пришла к выводу, что брат, скорее всего, просто бахвалится. Так я и заявила ему, да еще и прибавила насмешливо:
– Если бы я была связана с черным рынком, я бы постаралась раздобыть что-нибудь получше старых журналов.
Мои слова явно задели брата.
– Да я что угодно могу раздобыть, – быстро сказал он. – Комиксы, курево, книги, настоящий кофе, шоколад… – И, прервав вдруг этот список, с издевательским смехом заявил: – А ты даже денег на вонючий билет в кино достать не можешь!
– Я не могу денег достать?
Улыбаясь, я вытащила из кармана фартука кошелек и слегка его встряхнула, чтобы Кассис услышал звон монет. Кошелек он, конечно, сразу узнал и, широко раскрыв от изумления глаза, прошипел:
– Ах ты, маленькая воровка! Сучонка паршивая!
Я молча наблюдала за его негодованием.
– И как ты только его достала?!
– Доплыла и достала! – с вызовом сообщила я. – И это никакое не воровство. Сокровище было общее.
Но Кассис меня почти не слушал.
– Ты просто вороватая сучонка! – распалялся он.
Кажется, больше всего он был возмущен тем, что не только ему одному удается что-то заполучить с помощью собственной хитрости и ловкости.
– Да чем это хуже твоих фокусов с черным рынком? – спокойно возразила я. – Совершенно не понимаю, почему ты недоволен. Мы ведь с тобой примерно в одну и ту же игру играем. – Я специально помолчала, давая ему возможность осознать это. – И злишься ты только потому, что у меня получилось лучше, чем у тебя.
Кассис гневно сверкнул глазами и не сразу нашел что мне ответить.
– Это совсем не одно и то же, – отозвался он наконец.
Но я смотрела на него по-прежнему недоверчиво и чуть презрительно. Расколоть Кассиса всегда было проще пареной репы. В точности как и его сына теперь, столько лет спустя. Ни тот ни другой ни черта не смыслят в хитрости.
Кассис побагровел и вдруг заорал, совсем позабыв, что истинному конспиратору полагается говорить шепотом или вполголоса:
– Повторяю: я могу достать все, что угодно! Например, настоящие рыболовные снасти, чтобы ты поймала свою дурацкую щуку! Или американскую жвачку, или туфли с шелковыми чулками. А хочешь, шелковое белье достану! Хочешь? – в ярости прошипел он.
Я засмеялась. В тех условиях, в каких росли мы, сама мысль о шелковом белье казалась мне смешной и нелепой. Моя реакция привела Кассиса в бешенство. Он схватил меня за плечи и сильно встряхнул.
– Ты это прекрати! – Его прямо-таки колотило, голос у него срывался. – У меня есть друзья, ясно тебе? Я знаю нужных людей! И могу достать-тебе-все-что-ты-захо-чешь!
Сами видите, как легко оказалось вывести его из себя. Мой брат был несколько избалован своим особым положением в семье и слишком уж к этому привык. Как же, старший брат, единственный мужчина в доме. Он первым из нас пошел в школу, и мы, его сестры, привыкли, что он самый умный, самый высокий, самый сильный. Хотя случавшиеся у него порой приступы дикого непослушания – и связанные с ними побеги в лес, дьявольски смелые выходки во время купания в Луаре, мелкие кражи с рыночных прилавков и в магазинах Анже – носили почти истерический характер и ему, по-моему, особого удовольствия не доставляли. Такое ощущение, словно ему постоянно требовалось что-то доказывать нам, младшим, или себе самому.
Своим поведением я совершенно сбила его с толку. Он так стиснул мои плечи, что мне стало ясно: завтра там наверняка появятся здоровенные отметины, темно-синие, как зрелая черника. Но я ничем себя не выдала и продолжала спокойно смотреть на него, словно играя с ним в гляделки.
– Ну хорошо, слушай. У нас с Рен действительно появились новые друзья. – Теперь он существенно понизил голос, стараясь держать себя в руках, но его большие пальцы по-прежнему больно впивались в мои плечи. – Могущественные друзья. Где, по-твоему, она раздобыла эту дурацкую помаду? Или духи? Или ту фигню, которой она себе лицо на ночь мажет? Откуда, по-твоему, мы все это взяли? И как, по-твоему, за это расплатились?
Вдруг Кассис отпустил мои плечи, и я увидела у него на лице странную смесь гордости и самого настоящего ужаса. И догадалась, что его прямо-таки тошнит от страха.
12
Фильм я помню не очень хорошо. «Circonstances Atténuantes» {2}2
Фильм М. Карне «Смягчающие обстоятельства», 1939. Арлетти (настоящее имя Арлетт Леони Батиа) – французская актриса, работавшая в оперетте и мюзик-холле, а с 1931 г. снимавшаяся в кино, прежде всего в фильмах М. Карне; ее игре была свойственна психологическая тонкость и артистизм.
Мишель Симон – знаменитый французский актер, снимавшийся у таких знаменитых режиссеров, как Ж. Ренуар, М. Карне и Ж. Дювивье; особенно известен ролями в фильмах «Набережная туманов» (1938), «Красота дьявола» (1950) и «Дьявол и десять заповедей» (1962).
[Закрыть] с Арлетти и Мишелем Симоном, старый фильм, который Кассис и Рен уже видели. Но сестру это ничуть не смущало; она прямо-таки глаз с экрана не сводила, и на лице у нее было написано искреннее восхищение. Мне же вся эта история показалась слишком оторванной от реальной жизни, во всяком случае, моей собственной. Да и мысли мои витали очень далеко. Два раза рвалась пленка, на второй раз в зале даже зажгли свет. Зрители тут же негодующе загудели, и какой-то испуганный человек в смокинге вышел и громко попросил соблюдать тишину. Тогда немцы, устроившиеся в углу, положив ноги на спинки передних кресел, неторопливо захлопали в ладоши. И вдруг Рен, которую обрыв пленки вывел из блаженного транса – она всегда бывала чрезвычайно недовольна подобными перерывами и жаловалась, что ей не дают нормально досмотреть фильм, – как-то странно взвизгнула и, перегнувшись через меня, возбужденно воскликнула:
– Кассис! Кассис, он здесь!
До меня донесся странный, сладковатый, какой-то химический запах, исходивший от ее волос.
– Ш-ш-ш, – свирепо зашипел на нее Кассис. – Не оглядывайся.
На пару минут они оба застыли, уставившись на мертвый экран; их лица стали совершенно неподвижными, как у мумий. Потом Кассис произнес, еле шевеля губами, как шепчут друг другу в церкви во время службы:
– Кто «он»?
Быстро скосив глаза на группу немцев в углу кинозала, Ренетт ответила, тоже почти не открывая рта:
– Он там, в заднем ряду. И с ним еще кто-то, но я не знаю их.
Показ все не возобновлялся; зрители вокруг уже вовсю топали ногами и что-то гневно выкрикивали. Воспользовавшись суматохой, Кассис быстро оглянулся и сказал Рен:
– Хорошо. Только подожду, пока свет погасят.
Минут через десять свет стал меркнуть. Как только продолжился фильм, Кассис поднялся и, осторожно пригибаясь, стал пробираться в конец зала. Я увязалась за ним. На экране горделиво расхаживала, стреляя глазками, Арлетти в облегающем платье с глубоким декольте. Жидкий, как ртуть, свет лился в зал, освещая наши согнутые фигурки, спешащие по проходу; в этом призрачном свете лицо Кассиса казалось ожившей маской.
– Иди назад, дура малолетняя! – приказал он. – Ты мне совершенно ни к чему, только мешать будешь.
Я покачала головой и решительно заявила:
– Не буду я мешать! А если ты прогонишь меня, я все равно пойду – тебе назло!
– Ладно, – нетерпеливо отмахнулся Кассис.
Он прекрасно понимал, что так или иначе я настою на своем. Даже в темноте было видно, как он дрожит – то ли от возбуждения, то ли от страха.
– Только пригнись пониже, – буркнул он. – И не лезь, пока я буду вести переговоры.
Добравшись до последнего ряда, мы присели на корточки неподалеку от немецких солдат, являвших собой словно островок среди обычных зрителей. Некоторые из них курили; в темноте мерцали красные огоньки на концах сигарет, мельком освещая их лица.
– Вон он, видишь, в самом конце ряда? – прошептал Кассис. – Это Хауэр. Мне надо с ним кое-что обсудить. А ты просто стой рядом, и чтоб ни звука, ясно?
Я промолчала. Не собиралась я ничего ему обещать!
Брат метнулся по проходу и тут же оказался рядом с тем солдатом, которого звали Хауэр. Я с любопытством огляделась. Никто не обращал на нас ни малейшего внимания. В нашу сторону посматривал только один немец, стоявший у нас за спиной у самой стены. Это был стройный молодой человек, остролицый, в залихватски сдвинутой на затылок фуражке. В одной руке у него была раскуренная сигарета. Я слышала, как Кассис что-то настойчиво шепчет этому Хауэру, затем раздался хруст каких-то бумажек. И вдруг тот остролицый немец приветливо мне улыбнулся и махнул рукой с зажатой в ней сигаретой.
Меня словно кто толкнул: я узнала его! Это же тот самый немец, который тогда был на рынке и видел, как я украла апельсин! Я вся похолодела и не могла сдвинуться с места, лишь тупо на него уставилась.
Он снова поманил меня рукой. В призрачном свете, падавшем с экрана, казалось, что под глазами и под скулами у него пролегли страшноватые, сумрачные тени.
Я нервно посмотрела на Кассиса, но тот был полностью поглощен беседой с Хауэром и взглядов моих не замечал. Молодой остролицый немец по-прежнему выжидающе смотрел на меня с легкой улыбкой на губах. Он стоял чуть поодаль от остальных и сигарету держал за самый кончик, прикрывая ее сложенной лодочкой ладонью; кожа между сжатыми пальцами, тонкими и длинными, просвечивала алым. Он был в военной форме, но мундир небрежно расстегнул, и это отчего-то придало мне храбрости.
– Иди-ка сюда, – тихо позвал он.
От страха я утратила дар речи. Казалось, рот набит соломой. Лучше всего было бы, конечно, убежать, да ноги были как ватные. Понимая, что спасения нет, я гордо вздернула подбородок и двинулась к немцу.
Он усмехнулся и снова затянулся сигаретой.
– Ты ведь та самая девочка с апельсином, верно? – уточнил он, когда я приблизилась.
Я молчала.
Но его, судя по всему, мое молчание ничуть не смутило.
– А ты ловкая. Я тоже в детстве был ловким. – Он сунул руку в карман и вытащил оттуда что-то завернутое в серебряную бумагу. – На вот. Тебе понравится. Это шоколад.
Окинув его подозрительным взглядом, я произнесла:
– Не надо мне вашего шоколада.
Немец снова усмехнулся.
– Ты, значит, больше апельсины любишь?
Ну что я могла ответить?
– Помню один сад у самой реки, – тихо продолжал он. – Неподалеку от той деревни, где я вырос. В саду были самые крупные и самые черные сливы на свете. А кругом – высоченный забор. И хозяйские собаки весь день спущены с поводка. Чего я только в то лето не делал, чтобы добраться до слив! Все перепробовал. Прямо-таки больше ни о чем думать не мог.
Голос у него был приятный, и акцент совсем незаметный, а глаза сквозь сигаретный дымок казались такими ясными. Я осторожно его изучала, не смея пошевелиться, не понимая, уж не подшучивает ли он надо мной.
– Как известно, ворованное да выпрошенное всего слаще. Куда слаще, чем то, что досталось бесплатно. Тебе так не кажется?
Теперь я уже не сомневалась: ну да, точно, он пытается высмеять меня! Глаза мои невольно вспыхнули от возмущения.
Судя по всему, он это заметил, потому что снова засмеялся и протянул мне шоколадку.
– Ну же, Цыпленок, бери, не бойся. Представь себе, что украла ее у «этих вонючих бошей».
Шоколадка совсем размякла, и я сразу сунула ее в рот. Это был настоящий шоколад, а не тот беловатый и чересчур твердый эрзац, какой мы изредка покупали в Анже. Немец с явным удовольствием наблюдал, как я ем, а я поглядывала на него с прежней, ничуть не уменьшившейся подозрительностью и существенно возросшим любопытством.
– И что, вы до них добрались в конце концов? – не выдержав, спросила я липким от шоколада голосом. – Ну, до тех слив?
Немец кивнул.
– Добрался, Цыпленок. До сих пор помню их вкус.
– И вас не поймали?
– И это я тоже, увы, помню, – печально улыбнулся он. – Я съел так много, что меня стошнило, по этим следам меня и нашли. А ведь я так здорово спрятался! И все же я получил что хотел. По-моему, это самое главное, согласна?
– Да, – отозвалась я. – Своего добиться всегда приятно. Я тоже люблю выигрывать. – Я помолчала. – Поэтому вы никому не сказали про тот апельсин?
Немец пожал плечами.
– А с какой стати я должен был кому-то докладывать? Меня это совершенно не касалось. И потом, у торговца было еще много апельсинов. Одним-то он мог пожертвовать.
– У него их целый грузовичок, – заметила я, вылизывая кусочек фольги, чтобы не пропала ни одна капелька шоколада, и чувствуя, что этот немец полностью меня поддерживает.
– Некоторые люди хотят как можно больше себе загрести. Прижимистые, только о себе и думают, – сказал он. – Ты как считаешь, справедливо это?
– Вот и мадам Пети из галантерейной лавки за кусок парашютного шелка целое состояние требует, а ведь ей он бесплатно достался! – возмущенно воскликнула я, покачав головой.
– Именно!
И тут до меня дошло, что упоминать о мадам Пети, наверно, не следовало бы. Я быстро взглянула на немца, но он, кажется, меня не слушал, а очень внимательно наблюдал за Кассисом, который все еще о чем-то шептался с Хауэром в самом конце ряда. Меня это неприятно задело: значит, Кассис ему интересней, чем я?
– Это мой брат, – сообщила я.
– Да что ты? – Немец снова посмотрел на меня и улыбнулся. – Вас тут целая семья! И сколько же вас всего?
Я мотнула головой.
– Я самая младшая. Меня зовут Фрамбуаза.
– Приятно познакомиться, Франсуаза.
Усмехнувшись, я поправила:
– Меня зовут Фрамбуаза!
– Лейбниц. Томас.
Он протянул руку. И я после секундного колебания пожала ее.
13
Так я и познакомилась с Томасом Лейбницем. Не знаю уж почему, но Ренетт пришла в ярость из-за того, что я общалась с ним, и до конца фильма на меня дулась. Хауэр сунул Кассису еще пачку «Голуаз», потом мы оба прокрались на свои места. Кассис закурил, а я погрузилась в размышления и лишь к концу фильма обрела способность задавать вопросы. И тут же спросила:
– Значит, эти сигареты как раз и означают, что ты «можешь достать все, что угодно»? Помнишь, как ты орал на меня?
– Ну естественно.
Кассис был явно доволен собой, но все же, пожалуй, испытывал некоторое беспокойство, несмотря на сияющую физиономию. Сигарету он держал, точно так же прикрывая ее ладошкой, как тот молодой немец. Вот только у Кассиса этот жест выглядел неуклюже и нарочито.
– А ты в обмен кое-что рассказываешь?
– Ну, мы иногда… действительно кое-что им рассказываем, – признался Кассис, самодовольно ухмыляясь.
– Что, например?
Брат пожал плечами.
– Началось все с того старого идиота с его радиоприемником. – Теперь он говорил очень тихо. – Но тогда вышло по справедливости. Нечего ему было приемник у себя под кроватью прятать! И нечего было притворяться, будто мы прямо-таки преступление совершаем, когда всего лишь подсматриваем, как во дворе маршируют немцы. В общем, иногда мы оставляем для них записки – в кафе или передаем с курьером. Иногда они через того газетчика кое-что передают нам. А иногда и сами приносят. – Кассис пытался казаться беззаботным, но я-то чувствовала, как он напряжен и взволнован. – В общем-то, ничего особенного в этом нет, – продолжал он. – Почти все боши пользуются черным рынком при отправке посылок в Германию. И вещи кое-какие домой отсылают, те, которые реквизировали, понимаешь? Так что ничего такого особенного мы не делаем, – повторил он.
Немного подумав, я неуверенно начала:
– Но ведь гестапо…
– Ох, Буаз, и когда ты только вырастешь! – Кассис вдруг рассердился, как это бывало всегда, когда я приставала к нему. – Ну что ты знаешь о гестапо? – Он нервно оглянулся и снова понизил голос. – Конечно же, с ними мы дел не имеем. Это совсем другое. Запомни: это обычная сделка. Но тебя наши дела совершенно не касаются.
Исполненная обиды, я резко к нему повернулась:
– Почему это не касаются? Я тоже кое-что понимаю!
Теперь я уже жалела, что так мало рассказала тому немцу о мадам Пети; надо было добавить, что она еврейка.
Кассис нахмурился и покачал головой:
– Нет, в эти дела тебе лучше пока не соваться.
Возвращались мы в напряженной тишине из-за опасений: а вдруг мать уже встала и догадалась, что мы без разрешения уехали в город? Но дома мы обнаружили, что она пребывает в каком-то необычайно приподнятом настроении. Она ни разу не упомянула ни о запахе апельсинов, ни о «проклятой бессоннице» и ни словом не обмолвилась о том безобразии, которое я сотворила у нее в комнате. А приготовленный обед был почти праздничным: суп с цикорием и морковкой, boudin noir[35]35
Черная кровяная колбаса (фр.).
[Закрыть] с яблоками и картошкой, темные блинчики из гречневой муки и на десерт clafoutis[36]36
Фруктовый пирог (фр.).
[Закрыть], сочный и немного тяжеловатый, из последних прошлогодних яблок, щедро посыпанный коричневым сахаром и корицей. Мы, как всегда, ели молча, но мать на этот раз словно ничего не замечала вокруг – ни нашего настороженного молчания, ни моих спутанных волос и грязноватого лица; она даже забыла сделать замечание, чтобы я убрала локти со стола.
«Может, это апельсин сделал ее такой ручной?» – недоумевала я.
Впрочем, уже на следующий день мать пришла в себя и свое наверстала с лихвой. Мы по мере сил старались избегать ее, торопливо делая привычную работу по дому, а потом ретировались к реке и забрались на Наблюдательный пост. Но игра не клеилась, даже когда к нам присоединился Поль. Он, правда, теперь все чаще чувствовал себя лишним, как бы исключенным из нашего тесного кружка, и редко проводил с нами время. Я искренне сожалела об этом и отчасти ощущала себя виноватой; уж мне-то хорошо было известно, каково это, когда тебя исключают; но я ничего не могла с этим поделать и никак не могла предотвратить наше отдаление друг от друга. Что ж, думала я, теперь и Полю придется сражаться с собственным одиночеством, как это делала я.
К тому же Поль не нравился нашей матери, как, впрочем, и все семейство Уриа. В ее глазах Поль был лентяем, который просто не хочет ходить в школу, и тупицей, неспособным научиться читать. Другие деревенские дети посещали школу и умели читать и писать. Родителей Поля мать называла жалкими людишками и утверждала, что ни один настоящий мужчина не станет зарабатывать на жизнь, торгуя мотылем на обочине проезжей дороги, и ни одна уважающая себя хозяйка не станет чинить дома чужое белье. Но с особой злобой мать относилась к Филиппу Уриа, дяде Поля. Сперва я считала, что это обычная деревенская зависть к богатому соседу. Филипп Уриа владел самой большой в Ле-Лавёз фермой: необозримыми полями подсолнечника, обширными плантациями картофеля, капусты и свеклы, стадом из двадцати коров, множеством коз и свиней и даже собственным трактором (в то время как местные крестьяне все еще по большей части пользовались ручным плугом с запряженной в него лошадью). А еще у него был настоящий доильный аппарат! Нет, это самая обыкновенная зависть, говорила я себе, обида бедной вдовы, в одиночку бьющейся с жизнью, на живущего рядом успешного, зажиточного вдовца. И все равно ее ненависть выглядела как-то странно, особенно если учесть, что Филипп Уриа был старинным другом нашего отца. Они вместе росли, вместе ловили рыбу, плавали в Луаре и хранили общие секреты. Филипп собственноручно вырезал имя нашего отца на памятнике павшим воинам и всегда по воскресеньям приносил туда цветы. Но мать упорно отказывалась его признавать и лишь сухо кивала ему при встрече. Впрочем, общительностью она никогда не отличалась. Но как мне казалось, после той истории с апельсиновыми корками она стала относиться к Филиппу еще более враждебно.
На самом деле мне лишь значительно позже удалось выяснить истинную причину этой неприязни. Если честно – лет через сорок, когда я наконец прочитала ее альбом. Когда сумела разобрать эти бредущие поперек страницы строки, написанные микроскопическим, неровным, вызывающим головную боль почерком.
«Уриа уже известно, – писала она. – Я заметила, как он порой на меня смотрит – с жалостью и любопытством, как на животное, которое случайно переехал на дороге. Вчера вечером он видел, как я выходила из "La Rép"[37]37
Кафе «La Mauvaise Réputation».
[Закрыть] с тем, что вынуждена там покупать. Он ничего мне не сказал, но я сразу поняла: догадался. Он уверен, конечно, что нам бы следовало пожениться. Для него это самое оно – вдова и вдовец поженятся, объединят земли. У Янника ведь не было брата, который мог бы после его смерти унаследовать ферму, а женщине как-то не пристало одной тянуть на себе такое хозяйство».
Если бы мать была обычной милой женщиной с уживчивым характером, я бы, возможно, вскоре кое-что и заподозрила. Но определение «милая женщина» Мирабель Дартижан никак не подходило. Она была твердой и колючей, как каменная соль; мрачной, как речной ил, а приступы гнева у нее случались столь же неожиданно, как летняя гроза, и были неотвратимы, как удар молнии. Я никогда даже до причин этого внезапного гнева не доискивалась, просто старалась по мере сил избежать прямого попадания.