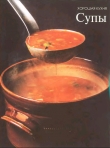Текст книги "Пять четвертинок апельсина (др. перевод)"
Автор книги: Джоанн Харрис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
16
Через неделю мы снова встретились с Лейбницем на том же месте. Кассис сообщил ему, что в «Рыжей кошке» по ночам играют в азартные игры, и передал те несколько слов, которые подслушал, когда кюре Траке возле кладбища с кем-то обсуждал тайник, где спрятано церковное серебро.
Но Лейбница, кажется, заботило нечто совсем иное. Он повернулся ко мне и произнес:
– Мне пришлось это прятать. Кому-то из наших может не понравиться, что я дарю тебе такие вещи.
И он вытащил из-под мундира, небрежно брошенного на берегу, узкий зеленоватый брезентовый чехол фута в четыре длиной, внутри которого что-то дребезжало и погромыхивало. Он подтолкнул эту штуковину ко мне и, поскольку я не решалась к ней прикоснуться, добавил:
– Бери, бери. Это тебе.
В чехле оказалась удочка. Не новая, правда, но прекрасного качества, это было ясно даже мне. Из темного бамбука, ставшего почти черным от частого употребления, с блестящей металлической спиннинговой катушкой, вращавшейся легко, словно она была на подшипниках. Я испустила восторженный вздох и, все еще не веря собственному счастью, спросила:
– Так она… моя?
Лейбниц рассмеялся – весело, беспечно – и воскликнул:
– Ну конечно твоя! Нам, рыболовам, следует держаться вместе, верно?
Сперва я осторожно дотронулась до удочки, потом жадно ее ощупала. Катушка была холодной и чуть маслянистой, словно ее смазали жиром, прежде чем сунуть в чехол.
– Только придется тебе спрятать ее где-нибудь в надежном месте, ясно, Цыпленок? – предупредил меня Лейбниц. – И никому ничего не говори, ни маме, ни друзьям. Ты ведь умеешь хранить тайны?
– Конечно, – заверила я.
Он улыбнулся. Глаза у него были очень ясные, темно-серые.
– Вот и хорошо. И постарайся непременно поймать ту щуку, о которой ты рассказывала мне, ладно?
Я снова кивнула, и он засмеялся.
– Поверь, с такой удочкой можно даже нашу подводную лодку поймать!
Пытаясь понять, до какой степени он шутит, я оценивающе на него посмотрела. Пусть себе веселится, подумала я, он ведь не со зла, да и слово свое он сдержал. Но одно меня все-таки тревожило.
– А мадам Пети… – неуверенно начала я. – С ней ничего плохого не случится?
Немец вынул изо рта окурок и швырнул в воду.
– Полагаю, нет, – обронил он довольно равнодушно. – Если она, конечно, сама станет держать язык за зубами. – Он вдруг остро на меня взглянул и сразу перевел глаза на Кассиса с Рен. – Кстати, вы все тоже постарайтесь держать язык за зубами, идет?
Мы дружно кивнули.
– Ах да, вот тут у меня еще кое-что есть для тебя… – Он сунул руку в карман и протянул мне апельсин. – Только, боюсь, вам придется его разделить. Достать удалось всего один.
Вот так он окончательно и очаровал нас, понимаете? Все мы угодили под воздействие его чар; Кассис, правда, испытывал чуть меньше восторга, чем мы с Рен, – просто потому, наверно, что был постарше и больше разбирался в тех опасных вещах, которые так нас соблазняли. Ренетт буквально вспыхивала нежным румянцем, застенчиво посматривая на Лейбница, а я… ну, я-то, пожалуй, увязла сильнее всех. Началось с той удочки, позже было немало и всякого другого. И потом, этот его акцент, его ленивая, самоуверенная повадка, его чудесный, беспечный смех… О да, это был настоящий чаровник! Куда до него Яннику, сыну Кассиса, который тоже все пытался меня очаровать – с такой-то кислой рожей и суетливым, настороженным взглядом, как у хищной ласки! Уж что-что, а держался Томас Лейбниц всегда совершенно естественно; даже я это отлично понимала, одинокая девчонка, голова которой вечно была забита всякой ерундой.
Пожалуй, я и объяснить не сумею, чем он был так уж хорош. Рен, наверно, ответила бы, что все дело в его глазах – в том, как он смотрит на тебя и молчит, а глаза его при этом становятся то серо-зелеными, то серо-коричневыми, как река; или в том, как он носит фуражку, лихо сдвинув ее на затылок и засунув руки в карманы, точно мальчишка-прогульщик. А Кассис, наверно, сказал бы, что главное – это его беспечная храбрость. Лейбниц и впрямь мог переплыть Луару в самом широком месте или повиснуть вниз головой с Наблюдательного поста, словно ему тоже четырнадцать лет, как Кассису, и он тоже, как и все мальчишки, презирает любую опасность. И потом, он сразу все понял о Ле-Лавёз, еще до того, как успел ступить на эту землю. Он ведь и сам был деревенским парнишкой родом из Шварцвальда и часто делился с нами разными забавными историями о своей большой семье, о братьях и сестрах, о своих планах на будущее. Планов у него, кстати, возникало великое множество. Иной раз чуть ли не каждое предложение он начинал фразой: «Когда война кончится и я разбогатею…» И без конца перечислял, что же он тогда сделает. Он был первым взрослым на нашем жизненном пути, который все еще думал как мальчишка, строил планы как мальчишка, и, возможно, именно это больше всего нас и подкупало в нем. Он был одним из нас, вот и все. Он играл по нашим правилам.
За время войны он уже убил одного англичанина и двоих французов, но никакой тайны из этого не делал и говорил об этом так, что не возникало ни малейших сомнений: выбора у него не было. А ведь среди этих французов мог быть и наш отец! – позже осенило меня. Но даже если бы это было и так, я бы простила Лейбница. Да я все на свете готова была ему простить!
Сначала я, конечно, осторожничала. Мы встречались с ним еще три раза – дважды с ним одним у реки и один раз в кино, где он был вместе с Хауэром, а также рыжим приземистым Хайнеманом и медлительным полным Шварцем. Дважды мы передавали ему записки через того черноволосого мальчишку, который поджидал нас у газетной стойки; и два раза получали передачи от Лейбница: сигареты, журналы, книги, шоколад и упаковку нейлоновых чулок для Ренетт. Как правило, взрослые почти не остерегаются детей и при них не очень-то стараются следить за языком. Благодаря этому нам удавалось выудить прямо-таки невероятное количество самых разнообразных сведений, которые мы и передавали Хауэру, Хайнеману, Шварцу и Лейбницу. Другие солдаты с нами почти не общались. Шварц, который немножко знал французский, иногда весьма плотоядно поглядывал на Ренетт и что-то ей нашептывал по-немецки – и мне почему-то казалось, что все эти слова звучат грубо и непристойно. Хауэр отличался скованностью и неловкостью, а Хайнеман, наоборот, был очень шустрым, нервным и энергичным и вечно скреб свою рыжеватую щетину, казавшуюся совершенно неотделимой от его физиономии. Но при виде прочих немцев мне всегда было не по себе.
Один лишь Томас ко всему этому не имел отношения. Он был таким же, как мы. Он был одним из нас. И мы полностью ему доверяли – так, как, может, не доверяли больше никому. Эта наша взаимная привязанность, возможно, не была столь очевидной, как равнодушие нашей матери, явная нехватка друзей или даже тяготы войны, и не была столь значимым событием, как, допустим, гибель отца. Впрочем, всего перечисленного сами мы почти не замечали; мы существовали как бог на душу положит, в собственном маленьком мирке, полном диковатых фантазий, и появление в нашей жизни Томаса определенно застало нас врасплох. До этого момента мы и сами не понимали, как отчаянно он нужен нам. Не из-за того, что он приносил шоколад, жевательную резинку, косметику и журналы. Нет, просто нам был нужен хоть кто-то, кому можно поведать о своих подвигах и удивить своими поступками; с кем можно разделить тайны; кто обладает не только молодым задором, но и определенной мудростью и жизненным опытом; кто умеет увлечь, рассказать о чем-то так увлекательно, как Кассису и не снилось. Приручение, впрочем, произошло не сразу. Мы ведь были «дичками», как выражалась мать, и с нами еще требовалось найти общий язык. Но это Томас понял, должно быть, с самого начала и повел себя весьма умно, завоевывая нас поодиночке, одного за другим, каждому давая возможность ощутить себя особенным. Боже мой, да я и теперь еще почти верю в его искренность! Даже теперь.
Удочку я для пущей сохранности спрятала на Скале сокровищ. Пользоваться ей приходилось очень осторожно – уж больно у нас в Ле-Лавёз много было любителей совать нос не в свое дело; если вовремя не остеречься, хватило бы и брошенного мимоходом намека, чтобы мать почувствовала неладное. Поль, разумеется, об удочке знал, но я соврала ему, что когда-то она принадлежала отцу; впрочем, Поль при своем жутком заикании к сплетням ни малейшей склонности не имел. А если он что-либо и заподозрил, то держал подозрения при себе, и я была ему за это весьма благодарна.
Июль выдался жаркий, но дождливый; грозы случались чуть ли не через день; в небе над рекой постоянно клубились страшноватые багрово-серые клубы туч. Под конец месяца Луара совсем вышла из берегов; все мои ловушки и сети смыло и унесло течением. Вода залила даже кукурузные поля на ферме Уриа, причем кукурузные початки были совсем зелеными, им еще недели три по крайней мере полагалось зреть. Теперь дождь лил почти каждую ночь; молнии с треском разрывали небеса, точно листок фольги. Рен при этом испуганно вскрикивала и пряталась под кровать, а мы с Кассисом, наоборот, стояли у открытого окна, разинув рты, – мы все пытались проверить, нельзя ли поймать радиосигнал с помощью зубов.
Тем летом головные боли у матери случались особенно часто, хотя узелком с апельсиновыми корками – действие которого я существенно усилила, пополнив его шкуркой того апельсина, который подарил Томас, – я пользовалась всего дважды в июле и еще ни разу с начала августа. Так что приступы у нее случались в основном сами по себе; кроме того, она без конца маялась бессонницей и просыпалась, по ее собственным словам, «с полным ртом колючей проволоки и без единой здравой мысли в голове». В те дни я мечтала о Томасе так же страстно, как умирающий от голода – о хлебе насущном. По-моему, Рен и Кассис испытывали примерно те же чувства.
Непрекращающиеся дожди наделали немало бед и в нашем фруктовом саду. Яблоки, груши и сливы, разбухнув от чрезмерного количества влаги, стали лопаться и гнить прямо на ветках; осы въедались в исходившие соком плоды, и казалось, деревья покрыты живым коричневым плащом, от которого исходит неумолчное жужжание. Мать делала все, что было в ее силах. Она даже прикрыла самые любимые деревья брезентом, пытаясь защитить их от дождя, но толку от этого было мало. Почва, насквозь пропеченная и выбеленная июньской жарой, теперь превратилась в вязкое месиво; деревья стояли в озерцах воды, в которой гнили их обнажившиеся корни. Мать постоянно подсыпала к стволам смесь земли с опилками, пытаясь предотвратить загнивание, но и это не помогало. Фрукты падали на землю и превращались в какую-то сладковатую подливу из падалицы и глины. То, что еще можно было собрать, мы, конечно, собирали и спешно превращали в повидло, но было уже абсолютно ясно: урожай пропал, не успев толком созреть; спасти его хотя бы частично не было никакой возможности. Мать совсем перестала с нами общаться. За эти недели сплошных страданий ее постоянно сжатые губы превратились в тонкую белую линию, глаза совершенно провалились, а тот тик, что обычно возвещал начало очередного ужасного приступа, теперь преследовал ее почти постоянно. Все это приводило к тому, что количество таблеток в заветной бутылочке, хранившейся в ванной, стало уменьшаться гораздо быстрее, чем прежде.
Особенно молчаливыми и безрадостными были рыночные дни. Мы продавали все, что могли продать. Урожай у всех в нашей местности был никудышный; по-моему, на берегах Луары не осталось ни одного фермера, который не пострадал бы от ливней. Бобы и фасоль, картошка и морковь, кабачки и помидоры – все сперва пострадало от жары, а потом от непрерывных дождей, так что на продажу собрать почти ничего не удавалось. И тогда мы стали распродавать те припасы, что остались с зимы: консервы, домашние колбасы, вяленое мясо, паштеты и даже домашнюю свиную тушенку, сваренную относительно недавно, потому что свинью пришлось зарезать. Мать пребывала в отчаянии и каждую такую распродажу воспринимала как последнюю в своей жизни. В иные дни лицо у нее было таким горестно-мрачным, что покупатели не только ничего у нас не покупали, но попросту испуганно шарахались от нашего прилавка; у меня внутри все прямо-таки сжималось от страха и огорчения из-за матери – из-за всех нас, – а она продолжала стоять с каменным лицом, словно ничего не видя вокруг и приставив палец к виску, точно дуло пистолета.
Однажды, приехав на рынок, мы обнаружили, что окна лавки мадам Пети забиты досками. Месье Лу, торговец рыбой, поведал мне, что в один прекрасный день она попросту собрала вещички и куда-то скрылась, никому ничего не объяснив и даже адреса не оставив.
– Может, это из-за немцев? – предположила я, и мне стало немного не по себе. – Ну, из-за того, что она еврейка и все такое?
Месье Лу как-то странно на меня посмотрел и ответил:
– На этот счет мне ничего не известно. Я знаю только, что она буквально в один день снялась с места и исчезла. А ни о чем другом я понятия не имею и тебе об этом болтать не советую. Если у тебя, конечно, осталась хоть капелька ума.
И он снова так холодно и неодобрительно на меня посмотрел, что я, испугавшись, тут же извинилась и поспешила уйти, чуть не забыв пакет с подаренными мне рыбными обрезками.
Мне, конечно, стало легче, когда выяснилось, что мадам Пети вроде бы арестована не была, но вместе с тем меня терзало непонятное чувство неудовлетворенности и обманутых надежд. Какое-то время я молча размышляла, а потом начала потихоньку расспрашивать и выведывать – и в Анже, и у нас в деревне, – что случилось с теми людьми, о которых мы докладывали немцам. Мадам Пети; месье Тупе или Тубон, учитель латыни; парикмахер из той мастерской, что напротив «Рыжей кошки», которому приносили много разных свертков; те два человека, беседу которых мы как-то в четверг подслушали возле кинотеатра после окончания фильма. Довольно странно, но мысль, что мы собираем совершенно бессмысленные, никому не нужные сведения – и возможно, только с целью позабавить или посмешить Томаса и его приятелей-немцев, – тревожила меня куда сильнее, чем понимание того, что наше стукачество причинило некоторым людям действительно серьезный вред.
Должно быть, Кассис и Рен давно уже догадались, в чем дело. Но в девять лет ты живешь еще совсем в ином мире, чем в двенадцать или тринадцать. Понемногу я вызнала, что никто из тех, на кого мы доносили, не был арестован или допрошен, и ни одно из тех мест, которые нам казались подозрительными, обыску не подверглось. Даже загадочное исчезновение месье Тубона было легко объяснимым.
– О, его пригласили на свадьбу дочери в Ренн! – радостно сообщил мне один из учителей по кличке месье Ду[41]41
Doux (фр.) – добряк.
[Закрыть].– Так что никуда он не исчезал, киска, и никакая это не тайна. Я сам передал ему приглашение.
Но я все никак не могла успокоиться и, наверно, еще целый месяц постоянно думала об одном и том же, пока голова не начала гудеть от этих мыслей, точно бочка с осами. Мысли о тех людях не покидали меня, когда я ходила на реку ловить рыбу и ставила свои верши, когда мы играли с Полем и стреляли из рогаток или раскапывали в лесу звериные норки. Я даже похудела. Мать критически оглядела меня и заявила, что я слишком быстро расту, что это вредит моему здоровью и нам придется пойти к врачу. Доктор Леметр прописал мне каждый день выпивать стакан красного вина, но и это ничуть не помогло. Мне казалось, что все только на меня и смотрят, только меня и обсуждают. Я совсем утратила аппетит. Теперь я отчего-то решила, что Томас и другие немцы – это тайные члены Сопротивления и они попросту хотят меня разоблачить и уничтожить. Наконец я не выдержала и все выложила Кассису.
Мы с ним сидели на Наблюдательном посту. Снова шел дождь. Рен осталась дома с насморком. Я вовсе не собиралась посвящать брата во все свои страхи, но стоило мне начать, и слова сами собой посыпались изо рта, точно зерно из порванного мешка. Остановить этот поток было невозможно. В одной руке у меня была удочка в зеленом чехле, и от возбуждения я с такой силой взмахнула ей, что удочка улетела куда-то в заросли ежевики.
– Мы же не дети малые! – сердито возмущалась я. – Неужели они не верят тому, что мы рассказываем? Зачем Томас подарил мне это… – я с яростью ткнула пальцем в сторону упавшей удочки, – если я таких подарков не заслуживаю?
Кассис растерянно посмотрел на меня.
– Можно подумать, ты действительно хочешь, чтобы кого-то расстреляли, – с явной неприязнью произнес он.
– Ничего я не хочу! – разозлилась я. – Я просто подумала…
– Да ты вообще никогда не думаешь, – перебил меня Кассис своим прежним тоном, нетерпеливо-высокомерным, исполненным презрения. – Ты что, решила, будто мы помогаем сажать людей в тюрьму или расстреливать? Неужели ты действительно так думаешь?
В его голосе звучало возмущение, но, кажется, мои подозрения ему льстили.
Да, именно так я и думала. И что бы Кассис ни говорил, но я была уверена: именно этим он и занимается. Я пожала плечами и промолчала.
– Какая же ты все-таки наивная, Буаз, – с надменным видом заявил братец. – Нет, ты и впрямь еще мала, чтобы участвовать в таких делах.
Вот тут до меня окончательно дошло: он и сам не очень-то во всех этих «делах» разбирается. Он, конечно, соображал быстрее меня, но сначала и он тоже пребывал в неведении. Потому-то тогда, в кино, ему и было страшно настолько, что он весь взмок от волнения. Да и потом я не раз замечала в его глазах страх, когда он с Томасом беседовал о «делах». Лишь позднее, значительно позднее он стал разбираться, что к чему.
Я молча смотрела на него. Он нетерпеливо махнул рукой, отвел глаза в сторону и вдруг крикнул:
– Это же шантаж! – Он прямо-таки выплюнул это слово мне в лицо, даже слюной меня забрызгал. – Ты что, совсем глупая? Самый настоящий шантаж! Как считаешь, им там, в Германии, легко живется? Думаешь, им эта война дается проще, чем нам? Думаешь, у их детей есть и нормальная обувка, и шоколад, и все прочее? Неужели ты не понимаешь, что им самим тоже, может быть, иногда хочется таких вещей?
Однако я не отвечала, лишь слушала его, разинув рот.
– Ясное дело, тебе это и в голову никогда не приходило. – Кассис разозлился по-настоящему, но злился скорее не из-за моей, а из-за своей собственной недогадливости. – Там ведь людям тоже плохо живется, дура ты этакая! – вдруг снова заорал он. – Немцы тоже каждый грош откладывают и посылают домой. Вот и вынюхивают все про разных людей, а потом заставляют их платить, обещая молчать про их делишки. Ты же сама слышала, как он тогда мадам Пети назвал настоящей торговкой с черного рынка. Думаешь, ей позволили бы уехать, если б он проболтался насчет нее хоть кому-нибудь из своих? – Кассис как-то странно задыхался, словно хотел рассмеяться и не мог. – Да ни в жизни! Ты что, не знаешь, как они в Париже поступают с евреями? И о лагерях смерти ни разу не слышала?
Я лишь молча пожала плечами, ощущая себя полной идиоткой. Конечно, я слышала об этих вещах. Но у нас-то в Ле-Лавёз все было иначе! До нас, разумеется, тоже доносились разные сплетни, но в моем детском восприятии они странным образом переплелись с «лучом смерти» из «Войны миров» Уэллса, а Гитлер напоминал Чарли Чаплина из тех фильмов, о которых писали в киножурналах Ренетт. Реальные факты мешались в моем сознании со сказками и легендами, со слухами и литературными образами; сводки с полей сражений представлялись картинками из книжки комиксов о межзвездных боях в глубинах Вселенной, куда более далеких, чем планета Марс; ночные авианалеты из-за Рейна, бомбежки и артиллерийская стрельба казались похожими на наши невсамделишные бои со стрельбой из рогаток, а немецкие подводные лодки наводили на мысль о «Наутилусе» из «Двадцати тысяч лье под водой».
– Значит, шантаж? – тупо переспросила я.
– Бизнес, – резким тоном поправил меня Кассис. – А по-твоему, справедливо, когда у некоторых людей есть и шоколад, и кофе, и хорошая обувь, и журналы, и книги, а другим ничего не остается, как только обходиться без всего этого? Тебе не кажется, что за подобные привилегии надо платить? Что надо хоть немного делиться с теми, кто ничего не имеет? А как быть с такими лицемерами, как месье Тубон? А с разными лжецами? Разве они не должны расплачиваться за свою ложь? И учти, они запросто могут себе это позволить. И никто при этом не пострадает.
Мне казалось, что Кассис говорит примерно то же самое, что сказал бы и Томас; от этой мысли слова брата сразу становились более значимыми, весомыми, я уже не могла их игнорировать и медленно кивнула в знак согласия.
Кассис как будто вздохнул с облегчением и тут же с жаром, но уже более спокойно, прибавил:
– Мы ведь ни у кого ничего не крадем. То барахло с черного рынка должно принадлежать всем. Я просто стараюсь, чтобы и мы получили свою долю – по справедливости.
– Как Робин Гуд?
– Вот именно.
Я снова кивнула. Если так, то все, что мы делаем, и впрямь честно и разумно.
Несколько успокоившись, я слезла с дерева и отправилась искать упавший в заросли ежевики чехол с удочкой. Приятнее всего было сознавать, что уж удочку-то свою я действительно заработала праведным трудом.