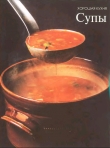Текст книги "Пять четвертинок апельсина (др. перевод)"
Автор книги: Джоанн Харрис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
14
На той неделе мы в Анже больше не ездили, и ни Кассис, ни Ренетт, похоже, не имели ни малейшего желания обсуждать со мной ту встречу с немцами. Да и я как-то не решалась упоминать о своей болтовне с Лейбницем, хоть и была не в силах тот разговор забыть. Воспоминания о нем то наполняли мою душу какими-то тревожными предчувствиями, то вдруг заставляли ощутить в себе некую странную силу.
Кассис казался каким-то беспокойным; Рен злилась на меня, смотрела сердито; к тому же целую неделю шли дожди, Луара грозно вздулась, а поля подсолнечника окутала синеватая дымка. После нашей поездки в Анже минуло уже семь дней. На рынок в последний раз мать ездила с Ренетт, а мы с Кассисом бродили с недовольным видом по насквозь мокрому саду, и я, глядя на зеленые сливы на ветках, с какой-то странной смесью любопытства и тревоги вспоминала о Лейбнице. Мне казалось, что я вряд ли когда-нибудь его увижу.
И все-таки я увидела его, причем совершенно неожиданно.
Это случилось тоже в рыночный день ранним утром. В тот раз была очередь Кассиса помогать матери; он укладывал в повозку продукты на продажу. Рен носила из холодной кладовой свежие сыры, завернутые в виноградные листья, мать собирала яйца в курятнике. Я же только-только вернулась с реки с утренним уловом: парочкой небольших окуней и несколькими уклейками. Все это я порубила на куски в качестве будущей наживки и оставила в ведерке под окном. Обычно в такой день немцы в деревне не появлялись, и когда к нам в дверь постучали, я бросилась открывать.
На пороге стояли трое: двое были мне неизвестны, а третьим был Лейбниц. На этот раз он выглядел очень подтянутым и аккуратным, мундир застегнут, винтовка спокойно лежит на сгибе руки. Увидев меня, он сперва изумленно раскрыл глаза, потом улыбнулся.
Если бы не он, я вполне могла бы и дверь у них перед носом захлопнуть, как Дени Годен, когда немцы попытались реквизировать его скрипку. И уж совершенно точно я бы позвала мать. Но тут меня вдруг охватила такая неуверенность, что я лишь неловко топталась у дверей, не зная, что делать.
Лейбниц повернулся к своим спутникам и заговорил с ними по-немецки. По жестам, которыми он сопровождал фразы, я догадалась, что он хочет сам осмотреть нашу ферму, а их отсылает дальше, в ту сторону, где живут Рамондены и Уриа. Один из тех двоих посмотрел на меня и что-то сказал. Все трое засмеялись. Потом Лейбниц кивнул им, все еще улыбаясь, и прошел мимо меня на кухню.
Я понимала, что надо бы позвать мать. Когда к нам заходили немецкие солдаты, мать еще больше мрачнела и с каменным презрением наблюдала за тем, как легко они реквизируют у нас все, что им нужно. А тот день был и вовсе не подходящий: у нее и так настроение хуже некуда, неожиданное вторжение немцев стало бы последней каплей.
Добывать продукты немцам становилось все труднее. Это мне Кассис объяснил. Ведь и немцам надо что-то есть. «А они привыкли жрать как свиньи, до отвала, – с презрением говорил мне брат. – Ты бы видела их столовую: уминают целые караваи хлеба – и с джемом, и с паштетом, и с rillettes, и с сыром, и с солеными анчоусами, и с ветчиной, да еще и тушеной капустой с яблоками закусывают. Ты бы просто глазам своим не поверила!»
Лейбниц прикрыл за собой дверь и огляделся. Теперь, когда ушли те двое, он явно чувствовал себя гораздо свободнее и держался раскованно, почти как штатский. Он пошарил в кармане, вытащил сигарету и закурил.
– Вы зачем к нам пришли? – спросила я наконец. – У нас ничего нет.
– Приказ, Цыпленочек, – пояснил Лейбниц. – Отец твой дома?
– А у меня нет отца, – с вызовом ответила я. – Его немцы убили.
– О, извини. – Он будто смутился, а я испытала, пожалуй, даже некоторое удовлетворение. – Ну а мать твоя где?
– Там, за домом. – Я гневно на него посмотрела. – Сегодня рыночный день. Если вы отберете то, что мы приготовились везти на рынок, у нас вообще ничего не останется. Мы и так еле-еле перебиваемся.
Немец снова огляделся; по-моему, на лице у него был явственно написан стыд. Я видела, с какой грустью он изучает чистые плитки пола, латаные занавески, старый, весь в рубцах, сосновый стол, не накрытый ни клеенкой, ни скатертью. Некоторое время он колебался, потом тихо произнес:
– Мне придется это сделать, Цыпленочек. Меня накажут, если я не буду подчиняться приказам.
– Вы могли бы сказать, что ничего не нашли. Или что уже ничего не осталось, когда вы пришли.
– Да, наверно, мог бы… – Глаза его вдруг вспыхнули: он заметил под окном ведерко с кусками рыбы. – Приманка? У вас в семье кто-то рыбачит? Кто же это? Твой брат?
– Нет, я.
Лейбниц был поражен.
– Ты? Мала ты еще, чтоб рыбачить-то.
– Мне уже девять! – сердито воскликнула я, уязвленная его словами.
– Уже девять? – В глазах Лейбница плясали веселые искорки, но он не улыбался. – А знаешь, я ведь и сам заядлый рыбак, – признался он шепотом. – Что ты тут ловишь? Форель? Карпа? Окуня?
Я молча помотала головой.
– На кого ж ты тогда охотишься?
– На щуку.
Щуки – самые умные из пресноводных рыб. Очень коварные и, несмотря на свою хищную пасть, очень осторожные. Наживку для них нужно подбирать тщательнейшим образом, иначе их на поверхность не выманишь. Любая мелочь способна вызвать у щуки подозрения – незначительное изменение температуры воды, один лишь намек на движение. Быстро и легко щуку не поймаешь; может, конечно, чисто случайно повезти, но обычно рыбаку требуется немало времени и терпения, чтобы выловить эту рыбу.
– Ну, тогда дело другое, – задумчиво промолвил Лейбниц. – Вряд ли я брошу своего брата-рыбака в беде. – Он с улыбкой посмотрел на меня. – Значит, щука?
Я кивнула.
– И на что ты ловишь? На червя или на хлебные шарики?
– И на то и на другое.
– Ясно.
Он больше не улыбался: тема была серьезная. Я молча наблюдала за ним. Кассису всегда становилось не по себе, когда я так смотрела.
– Вы только не забирайте то, что мы приготовили для рынка, – повторила я.
Теперь была его очередь молча смотреть на меня. Наконец он ответил:
– Ладно. Надеюсь, мне удастся придумать для них какую-нибудь правдоподобную историю… Но тебе придется держать язык за зубами. Иначе я попаду из-за вас в большую беду, ясно?
Я кивнула. Еще бы не ясно! В конце концов, и он ведь никому не проболтался насчет украденного мной апельсина. Я плюнула на ладонь, чтобы скрепить наш договор, и он даже не усмехнулся. Наоборот, заключая со мной сделку, пожал мне руку со всей серьезностью, как взрослой. Я была почти уверена, что и он попросит меня о каком-нибудь одолжении, но он ни о чем не попросил, и мне это очень понравилось. Значит, Лейбниц не такой, как другие немцы, решила я.
А потом он пошел прочь; я долго смотрела ему вслед, но он так и не обернулся. Я видела, как он ленивой походкой идет по улице к ферме Уриа, как тушит сигарету о стену дома и от ее тлеющего конца разлетаются красные искры, ясно видимые на фоне темного камня, добытого на берегах Луары.
15
Ни Кассису, ни Рен я ничего не сказала об этой встрече с Лейбницем. Мне думалось, что рассказать им – значит лишить столь важное событие всей его таинственной значимости. Тайну я хранила глубоко в душе, изучая и разглядывая ее лишь мысленно, словно украденное сокровище. Понимание того, что у меня есть такая серьезная тайна, пробуждало во мне ощущение собственной взрослости и какой-то неожиданной силы.
Теперь я и вовсе с презрением относилась к той любви, которую Кассис питал к комиксам, а Рен – к губной помаде. Небось считают, они одни такие умные, а что такого особенного они совершили? Ведут себя как дети, которые хвастаются в школе какими-то невероятными приключениями, вот немцы и относятся к ним как к детям и подкупают их всякими безделушками. Но Лейбниц даже и не пытался меня подкупить. Он общался со мной как с равной, уважительно.
А вот ферма Уриа в тот день здорово пострадала. Немцы забрали у них недельный запас яиц, половину молока, два бока свиной солонины, семь фунтов сливочного масла и бочонок растительного, две дюжины бутылок вина, которые были кое-как спрятаны за перегородкой в подвале, да еще кучу разных колбас и консервов. Об этом я узнала от Поля, и меня, конечно, немного мучили угрызения совести – ведь Филипп Уриа обеспечивал продуктами и семью Поля; но я пообещала себе непременно делиться с Полем всем, чем смогу. И потом, лето еще только начиналось. Филипп Уриа наверняка сумеет довольно быстро восполнить свои потери. Между тем у меня в голове зрел новый план.
Мешочек с апельсиновыми шкурками по-прежнему хранился в надежном месте. И разумеется, не у меня под матрасом. А вот Ренетт упрямо продолжала прятать свои штучки для наведения красоты именно под матрасом и считала, что никто об этом не догадывается. Мой тайник отличался куда большей изобретательностью. Я положила мешочек со шкурками в стеклянную баночку с завинчивавшейся крышкой и засунула ее примерно на глубину локтя в бочку с солеными анчоусами, стоявшую у матери в подвале. Кусочек нитки, привязанный к горлышку банки, позволял мне моментально ее отыскать в случае необходимости. То, что ее найдет кто-то еще, было весьма сомнительно; мать терпеть не могла пряного запаха анчоусов и всегда посылала за ними меня, если они были нужны для готовки.
Я знала, что содержимое мешочка еще пригодится.
Дождавшись вечера среды, я вытащила мешочек и спрятала его в зольнике под плитой, где жар способствовал быстрому распространению апельсинового аромата. Ну и мать, естественно, вскоре уже терла пальцами висок, трудясь у плиты, и сердито на меня покрикивала, если я не успевала достаточно быстро подать ей муку или принести дров. Она то и дело брюзгливо предупреждала: «Смотри не разбей лучшие тарелки!», и все принюхивалась, как животное, с отчаянием и растерянностью поглядывая по сторонам. А я еще и дверь на кухню закрыла, чтобы усилить эффект, и теперь там прямо-таки разило апельсином. Потом я, как и в прошлый раз, сунула мешочек с корками ей в подушку, быстренько зашила прореху и надела на подушку полосатую наволочку; правда, теперь корочки стали ломкими и немного почернели от жара, полежав под плитой, и я понимала, что больше мне, пожалуй, заветным мешочком воспользоваться не удастся.
Обед пригорел.
Но никто не осмелился даже упомянуть об этом. Мать изумленно трогала пальцем хрупкие черные кружева сгоревших блинчиков, потом снова и снова терла виски; в итоге я почувствовала, что еще немного – и закричу. На этот раз она не спрашивала, не принес ли кто из нас в дом апельсины, хотя ей явно очень хотелось задать этот вопрос. Нет, она просто крошила обгоревший край блинчика, касалась виска, снова крошила, снова терла висок, и так без конца, лишь иногда нарушая повисшее за столом молчание гневным окриком, заметив какое-нибудь мелкое нарушение привычного распорядка.
– Рен-Клод, режь хлеб на доске! Нечего крошки сыпать на чистый пол!
Голос ее жалил, как оса, и звучал как-то чересчур нервозно. Я отрезала себе ломоть хлеба, нарочно повернув каравай на доске так, что он лежал мякишем вверх. По непонятной причине мать всегда злила моя привычка отрезать хрустящие горбушки с обоих краев; она считала, что я уродую хлеб и сминаю среднюю часть каравая.
– Фрамбуаза, переверни хлеб как следует! – Она снова летучим движением дотронулась до виска, словно проверяя, что голова у нее все еще на месте. – Сколько раз тебе повторять…
Вдруг она умолкла на середине фразы, склонив голову набок и некрасиво разинув рот.
Наверно, с полминуты она сидела в таком положении – с ничего не выражающим взглядом, точно тупой ученик, который пытается вспомнить теорему Пифагора или правило написания причастных оборотов. Глаза у нее были как зеленое стекло или как лед зимой и ровным счетом ничего не выражали. Мы молча переглядывались, наблюдая за ней; секунды тикали одна за другой; наконец она шевельнулась. Снова последовал знакомый раздраженный жест, и она как ни в чем не бывало принялась убирать со стола, хотя мы еще и до половины обеда не добрались. Но никто, конечно, ни словом не возразил.
На следующий день, как я и предсказывала, мать осталась в постели, а мы снова преспокойно поехали в Анже. Но на этот раз в кино не пошли, просто слонялись по улицам, и Кассис нахально курил сигарету. Потом в центре города мы уселись на террасе кафе, которое называлось «Le Chat Rouget»[38]38
«Рыжая кошка» (фр.).
[Закрыть]; мы с Ренетт заказали себе diabolo-menthe[39]39
Содовая с сиропом и мятой (фр.).
[Закрыть], брат покусился было на пастис, но под презрительным взглядом официанта сник и покорно заказал panaché[40]40
Пиво, разбавленное лимонадом (фр.).
[Закрыть].
Рен пила осторожно, стараясь не размазать помаду. И все почему-то нервно оглядывалась, крутила головой, словно кого-то высматривала.
– Кого мы ждем? – с интересом спросила я. – Ваших немцев?
Кассис бросил на меня гневный взгляд.
– Громче ты не можешь, кретинка малолетняя? – рявкнул он. Потом все же снизошел до объяснений и почти шепотом пояснил: – Да, мы иногда действительно здесь встречаемся. Тут легче записку передать – никто и не заметит. Мы тут разные сведения им продаем.
– Какие еще сведения?
Брат насмешливо фыркнул и нетерпеливо ответил:
– Разные. Например, о тех, у кого есть радиоприемники. Или о черном рынке. О тех, кто торгует запрещенными товарами. Или о Сопротивлении.
Он как-то особенно подчеркнул последнее слово и еще больше понизил голос.
– О Сопротивлении?.. – растерянно отозвалась я.
Попытайтесь представить себе, что мы, дети, тогда знали об этом. Много ли это слово для нас значило? Да нет, конечно. Мы жили по собственным правилам и законам; мир взрослых был для нас далекой планетой, населенной неведомыми существами, о жизни которых нам почти ничего не известно. А уж о Сопротивлении мы знали и еще меньше. Слышали, конечно, что вроде бы есть такая легендарная организация. Это сейчас благодаря книгам и телевидению Сопротивлению уделяется столько внимания, а тогда ничего подобного и близко не было. Я, во всяком случае, никаких особых разговоров об этом не помню. Зато хорошо помню безумные споры и даже драки в нашем кафе из-за всяких противоречивых слухов; помню, как пьяницы громогласно призывали свергнуть новый режим; помню, как горожане перебирались к родственникам в деревню, спасаясь от притеснений со стороны оккупационных войск. Собственно, одного-единственного, всеобщего Сопротивления – некой тайной армии, существование которой было бы понятно всему народу, – не существовало, это миф. Существовало множество различных группировок: коммунисты, гуманисты, социалисты, жертвователи собой, грабители и пьяницы, оппортунисты и святые; и все эти группировки, в общем, отвечали требованиям времени. Но никакой Армии сопротивления и даже ничего напоминающего такую армию не было и в помине. Как не было и особых тайн, с этим связанных. Наша мать, во всяком случае, отзывалась обо всем этом с презрением. С ее точки зрения, было куда проще пережить этот тяжкий период, не поднимая головы.
Но как бы то ни было, а слова Кассиса произвели на меня сильное впечатление. Сопротивление. Это слово пробуждало в моей душе извечную любовь к приключениям, к драматическим событиям. Мне мерещились противоборствующие банды, сражающиеся за власть, ночные эскапады со стрельбой, тайные встречи под покровом ночи, сокровища и опасности, к которым, естественно, следует относиться с презрением. Все это в некотором смысле напоминало те игры, которыми раньше все мы так увлекались, Рен, Кассис, Поль и я, – со стрельбой мелким картофелем из рогаток, с паролями и особыми ритуалами. Просто, как мне казалось, границы этих игр словно расширились, вот и все. Да и ставки стали повыше.
– Ни с каким Сопротивлением ты не знаком! – насмешливо воскликнула я, чтобы Кассис не очень-то воображал.
– Пока, может, и нет, – согласился Кассис. – Но кое-что выяснить я могу. И кое с кем познакомиться. Мы, между прочим, уже немало всяких таких вещей раскопали.
– Да все нормально, – поспешила успокоить меня Ренетт. – Мы ни о ком из Ле-Лавёз ничего не рассказываем. С какой стати нам доносить на своих?
Я кивнула. Это и впрямь было бы несправедливо.
– А вот в Анже все иначе. Там все стучат друг на друга.
Обдумав эти слова, я заявила:
– Я тоже могу кое-что узнать.
– Тоже мне, может она! – презрительно фыркнул Кассис.
И я, разозлившись, чуть не призналась ему, что рассказала Лейбницу о мадам Пети и парашютном шелке, но заставила себя промолчать. А потом задала вопрос, который не давал мне покоя с того дня, когда Кассис впервые обмолвился об их «сделке» с немцами.
– Как они поступают с теми, о ком вы рассказываете? Неужели расстреливают? Или, может, посылают на фронт?
– Конечно же нет! Не будь дурой, Буаз!
– Что же тогда они делают с ними?
Но Кассис уже не слушал меня. Он не сводил глаз с газетной стойки возле церкви на той стороне улицы; оттуда на нас не менее пристально посматривал какой-то черноволосый паренек, примерно ровесник Кассиса. Потом парнишка нетерпеливо махнул нам рукой, Кассис тут же расплатился, поднялся и скомандовал:
– Пошли.
Мы с Ренетт тоже послушно встали и последовали за ним. Судя по всему, брат был с черноволосым парнем в приятельских отношениях – они, наверно, в школе вместе учатся, предположила я, уловив несколько слов насчет задания на каникулы, после чего они оба как-то нервно захихикали, прикрывая рты ладонями. Потом мальчишка сунул Кассису в руку свернутую в несколько раз записочку.
– Увидимся, – произнес Кассис, и они преспокойно разошлись в разные стороны.
Записка была от Хауэра.
– По-французски неплохо объясняются только Хауэр и Лейбниц, – сообщил Кассис, пока мы с Рен по очереди читали записку, – а остальные – Хайнеман и Шварц – пользуются лишь несколькими расхожими фразами. Впрочем, Лейбниц вообще говорит как настоящий француз, например родом из Эльзас-Лотарингии; во всяком случае, у него и выговор такой же гортанный, как у всех эльзасцев. Так что, может, он и есть француз.
Чувствовалось, что Кассису приятно так думать. Как будто служить информатором для какого-то может-быть-француза менее предосудительно!
«Встретимся в двенадцать у школьных ворот, – гласила записка. – У меня кое-что для вас есть».
Ренетт коснулась листа кончиками пальцев; от возбуждения на ее щеках вспыхнул румянец.
– Сейчас сколько времени? – спросила она. – Мы не опоздаем?
Кассис покачал головой и ответил:
– Мы же на велосипедах. Интересно, что там у них приготовлено?
Когда мы выводили велосипеды из своего излюбленного переулка, Рен вытащила из кармана пудреницу и быстренько навела красоту, поглядывая в зеркальце. Нахмурилась, вынула из кармана золотой тюбик с помадой, ярко накрасила губы, удовлетворенно улыбнулась, немного подправила помаду, снова улыбнулась и спрятала пудреницу. Меня, впрочем, это не особенно удивило. Еще после первой поездки в город мне стало ясно, что у нее на уме не только кино. Уж больно тщательно она стала одеваться и причесываться; и потом, эта помада, духи – нет, она явно делает все это ради кого-то. Ну и ладно, мне, в общем-то, было все равно. Я давно привыкла к Рен и ее штучкам. В свои двенадцать лет она выглядела шестнадцатилетней, а с завитыми, тщательно уложенными волосами и накрашенными губами могла сойти и за девушку постарше. Я не раз видела, какие взгляды бросают на нее мужчины у нас в деревне. А Поль Уриа при виде Рен и вовсе терял не только дар речи, но и способность соображать. Даже Жан-Бене Дарьюс, человек уже пожилой, лет сорока, даже Гюгюст Рамонден, даже Рафаэль, хозяин кафе, не могли равнодушно пройти мимо нашей Рен. Все на нее засматривались, это точно. Да и сама Рен обращала внимание на парней. Едва поступив в collège, она с первого дня только и болтала, что о мальчиках, с которыми познакомилась. Одну неделю она восхищалась Жюстеном, у которого такие чудные глаза; потом Раймондом, который вечно заставляет весь класс покатываться со смеху; потом Пьером-Андре, который так здорово играет в шахматы; потом Гийомом, чьи родители в прошлом году переехали в Анже из Парижа. Анализируя все это теперь, я припомнила, когда ее разговоры о мальчишках вдруг прекратились: почти сразу после того, как город был занят немецким гарнизоном. Впрочем, подробности меня не интересовали, хотя какая-то тайна в этом, конечно, была. Но тайны Ренетт крайне редко вызывали мое любопытство.
Хауэр стоял у ворот на часах. Наконец-то при свете дня я получше его разглядела – оказалось, немец как немец, с широким, крайне невыразительным лицом. Он прошептал Кассису: «Выше по течению минут через десять», словно вещая уголками рта, почти не двигая губами. Потом он замахнулся на нас, якобы раздраженно, и закричал, чтобы мы убирались прочь; мы, разумеется, тут же вскочили на велосипеды и помчались к реке. И ни разу не обернулись; даже Ренетт и та не обернулась. Из чего я сделала вывод, что отнюдь не Хауэр – объект ее нового увлечения.
Не прошло и десяти минут, как мы увидели Лейбница. Сперва мне показалось, что сегодня он вообще без формы – он не только мундир, но и сапоги снял и, сидя на парапете, болтал в воздухе босыми ногами, а внизу неслась коварная коричневая Луара. Лейбниц радостно замахал нам рукой, явно приглашая присоединиться к нему. Мы стащили велосипеды на берег, спрятали так, чтобы не было заметно с дороги, и уселись с ним рядом. Он выглядел моложе, чем мне помнилось, и вряд ли был намного старше Кассиса, но в его повадке чувствовалась та беспечная уверенность в себе, какая моему брату и не снилась; да и в будущем, сколько брат ни старался, он не смог обрести эту уверенность.
Кассис и Ренетт молча смотрели на Лейбница – так дети в зоопарке смотрят на опасного зверя в клетке. Ренетт снова вся раскраснелась. Но на Лейбница наши пытливые взгляды, судя по всему, не производили ни малейшего впечатления. Он неторопливо закурил, усмехнулся и, выпустив целое облако дыма, сказал:
– А с этой вдовой Пети здорово получилось. – Он хмыкнул. – У нее там не только парашютный шелк оказался, но и тысяча других весьма полезных вещей. Вот это настоящая торговка с черного рынка! Все, что хочешь, найти можно! – Лейбниц подмигнул мне. – Отличная работа, Цыпленочек.
Брат с сестрой удивленно на меня уставились, но молчали. Молчала и я; душа моя пела от наслаждения, вызванного его искренней похвалой, и все-таки меня не покидала какая-то странная тревога.
– Мне на этой неделе вообще везло, – продолжал Лейбниц тем же веселым тоном. – А это вам жевательная резинка, шоколад и… – сунув руку в карман, он вытащил оттуда какой-то пакетик, – еще вот.
В пакетике оказался носовой платочек, обшитый кружевом, – разумеется, для Ренетт. Моя сестрица прямо-таки побагровела от смущения.
Затем Лейбниц повернулся ко мне.
– Ну а ты, Цыпленочек? Чего ты сама-то хочешь? – Он усмехнулся. – Помаду? Крем для лица? Шелковые чулки? Нет, это скорей твоей сестренке по вкусу. Может, куклу или игрушечного медвежонка?
Он явно меня поддразнивал, но его светлые глаза весело блестели, в них отражались солнечные зайчики, игравшие на воде.
Это был самый подходящий момент, чтобы признаться: на мадам Пети я донесла нечаянно, ее имя просто от злости сорвалось с языка. Но Кассис по-прежнему смотрел на меня с нескрываемым удивлением, и Лейбниц по-прежнему ласково мне улыбался, и меня вдруг осенила гениальная идея.
Не колеблясь больше ни секунды, я выпалила:
– Хочу хорошие рыболовные снасти! Настоящие рыболовные снасти! – Я немного помолчала, самым наглым образом глядя Лейбницу прямо в глаза, и прибавила: – И еще апельсин.