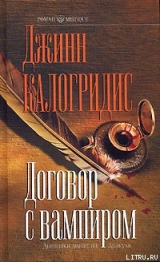
Текст книги "Договор с вампиром"
Автор книги: Джинн Калогридис
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)
Джинн Калогридис
Договор с вампиром
Дьявол – он ведь тоже ангел.
Мигель де Унамуно (испанский писатель и философ, 1864-1936)
Посвящается S.
* * *

ДНЕВНИК АРКАДИЯ ЦЕПЕША
(Без даты; написано второпях на внутренней стороне обложки)
Господь, в Которого я не верю, помоги мне! Я не верю в Тебя... точнее, не верил. Но если существует бесконечное Зло, каким я уже стал... я уповаю, что наряду с ним существует и бесконечное Добро, и да будет оно милосердным к тому, что осталось от моей души.
Я – волк. Я – Дракул. Мои руки обагрены кровью невинных жертв. Но теперь я хочу убить его...
Глава 1
ДНЕВНИК АРКАДИЯ ЦЕПЕША
5 апреля 1845 года
Отец умер.
Мери давно уже спит, лежа в старой низенькой кровати на колесиках, на которой в детстве мы спали с моим братом Стефаном. Бедняжка, она так утомилась, что даже мерцание моей свечи ей не мешает. До чего же странно видеть Мери рядом с незримо присутствующим призраком маленького Стефана, среди предметов, знакомых мне с детства, в этой комнате с высокими потолками и толстыми каменными стенами, наконец, в этом доме, где, кажется, до сих пор бродят тени моих предков. Такое ощущение, будто мое прошлое и настоящее неожиданно столкнулись.
Я сижу за старинным дубовым письменным столом, за которым сиживал еще мальчишкой, постигая азы грамоты. Левая рука лежит на его крышке, отполированной и исцарапанной несколькими поколениями маленьких непоседливых Цепешей. Скоро взойдет солнце. Я смотрю в окно, обращенное на север, где сквозь мглу проступают величественные стены фамильного замка. Кроме дяди, там сейчас никто не живет. Я с гордостью думаю о своих предках, о славной истории нашего рода и не могу сдержать слез. Я плачу тихо, чтобы не разбудить Мери, однако слезы не приносят облегчения, и только когда я вожу пером по бумаге, это хоть как-то притупляет горечь утраты. Я решил вести дневник и записывать туда события всех этих печальных дней, дабы лучше помнить отца. Я просто обязан сохранить в сердце неувядаемую память о нем, чтобы в будущем суметь нарисовать своему еще не родившемуся потомку (я пишу "потомок", поскольку нам не дано знать, кто у нас родится) словесный портрет деда.
Как я надеялся, что отец дождется внуков...
Нет. Довольно слез. Писать! Если Мери проснется и застанет меня в таком виде, это лишь добавит ей страданий. Она и так достаточно настрадалась по моей вине.
В течение нескольких минувших дней мы находились в непрестанном движении, путешествуя по морю и по суше, меняя корабль на поезд, а поезд – на дилижанс. Мне казалось, что я перемещаюсь не столько в пространстве, сколько во времени. Там, в Англии, как будто осталось мое настоящее, а сам я быстро и неумолимо возвращался в мрачное прошлое своих предков. Лежа в купе спального вагона, в котором мы выехали из Вены, я прислушивался к дыханию спящей Мери и смотрел на игру света и теней за плотно зашторенным окном. У меня вдруг возникла пугающая уверенность, что наша счастливая лондонская жизнь окончилась навсегда и больше уже не вернется. Мери и наш будущий ребенок – только они связывали меня с той жизнью. Мери – мой спасительный якорь – крепко спала, уверенная в моей любви, крепости наших уз, исполненная радости скорого материнства. Она спала на боку – только так она и могла спать, будучи на седьмом месяце беременности. Белые, словно алебастровые, веки, окаймленные золотом, были плотно сомкнуты, пряча безбрежную синеву ее глаз. Тонкая ткань ночной сорочки лишь подчеркивала внушительные размеры ее чрева, скрывавшего наше будущее. Осторожно, чтобы не разбудить жену, я коснулся ее живота и не смог сдержать благодарных слез. Мери – она такая сильная, спокойная и одновременно безмятежная, как море в штиль. Я старался спрятать свои чувства, опасаясь, что их напор дурно подействует на нее. Я всегда твердил себе: эта сторона моего характера осталась в Трансильвании[1]1
Трансильвания (дословно «Залесье») – историческая область на севере Румынии. В XIX веке была провинцией Австро-Венгерской империи. – Здесь и далее примечания переводчика.
[Закрыть]– мрачном краю, порождавшем в душе тоску и отчаяние. Только покинув родину, я узнал, что такое настоящее счастье. До отъезда в Англию я написал на родном языке целые тома печальных и весьма заумных стихов, но на берегах Альбиона оставил это занятие. У меня никогда не возникало желания попробовать писать стихи по-английски.
В Англии у меня была совсем другая жизнь, но теперь мое прошлое неотвратимо становилось моим будущим.
Поезд, грохоча на стыках, увозил нас все дальше от Вены. Я лежал рядом с женой и еще не родившимся ребенком и плакал. Плакал от радости, что они рядом со мной, и от страха перед будущим, способным погасить эту радость. И еще я плакал от неопределенности жизни, что ожидала нас в старинном доме, затерявшемся среди карпатских гор.
В моем родном доме.
Однако, будучи предельно честным с самим собой, не могу сказать, чтобы известие о смерти отца явилось для меня неожиданностью, подобной грому среди ясного неба. Предчувствие его смерти не оставляло меня на всем пути от Бистрицы[2]2
Бистрица (Bistrija) – город на севере современной Румынии, невдалеке от Восточных Карпат. Население около 80 тыс. человек. В XIX веке входил в состав Австро-Венгерской империи и являлся центром комитата (округа) Бистриц-Нашод.
[Закрыть](по-английски надо написать от Бистрица, а я решил вести свой дневник на английском, иначе язык слишком скоро забудется), и моя голова была полна мрачных мыслей. Телеграмму[3]3
Это фантазия автора. В 1845 году телеграфной связи между Англией и австро-венгерским захолустьем попросту не существовало. Первый телеграфный кабель через Ла-Манш, связавший Англию с Францией, был проложен только в 1852 г.
[Закрыть]о болезни отца мы получили от Жужанны около десяти дней назад и с тех пор могли только гадать, стало ли отцу лучше или, наоборот, хуже. А тут еще кучер. Услышав, куда мы едем, этот сгорбленный старик вгляделся в меня, затем торопливо перекрестился и воскликнул:
– Храни меня Господь! Да вы из рода Дракула!
Звук ненавистного имени вогнал меня в краску.
– Моя фамилия Цепеш, – поправил я кучера, сознавая всю бессмысленность своих слов.
– Как вам будет угодно, добрый господин, только не говорите графу ничего худого обо мне!
Старик вновь перекрестился, теперь уже дрожащей рукой. Когда я сказал ему, что мой дядя (я привык называть этого человека дядей, хотя, если быть точным, дядей он приходился моему отцу, а мне – двоюродным дедом) уже выслал нам навстречу свой экипаж, у старика полились слезы и он стал умолять нас подождать до утра.
За годы, проведенные в Англии, я успел позабыть о суевериях и предрассудках, свойственных местным крестьянам. Забыл я и о страхе и тайной ненависти, с которыми здесь (да и не только здесь) относятся к боярам – родовой румынской аристократии. Я часто упрекал отца за презрение к крестьянам, сквозившее в его письмах. Теперь же я со стыдом обнаружил, что схожее чувство пробудилось и во мне.
– Что за глупости? – довольно грубо оборвал я причитания кучера.
Я был вынужден это сделать. Мери хотя и не понимала румынского, однако по лицу старика догадалась о его состоянии и теперь глядела на нас обоих с тревожным любопытством.
– Говорю тебе, с тобой не случится ничего дурного, – повторил я.
– И с моей семьей тоже? Тогда поклянитесь, добрый господин.
– И с твоей семьей тоже. Клянусь, – поспешно произнес я и помог Мери залезть в коляску.
Не переставая кланяться, старик забрался на козлы.
– Благослови вас Бог, господин! И вашу жену тоже.
Как мог, я постарался удовлетворить любопытство Мери и рассеять ее подозрения, сказав, что местные жители неохотно ездят по лесным дорогам в темноте.
– Они боятся волков или разбойников? – спросила Мери.
– Они сами не знают, чего боятся. Предрассудки, дорогая, всегда лишены рациональной основы.
Коляска тронулась, и мы покатили в сторону Карпат. День клонился к вечеру. Разумнее было бы задержаться до утра в Бистрице и передохнуть – мы и так провели в дороге почти весь день. Но нам обоим не давали покоя слова из телеграммы Жужанны: "Приезжайте как можно скорее". К тому же, зная, что дядя послал за нами экипаж, мы не захотели заставлять тамошнего кучера дожидаться нас всю ночь.
Мы ехали вдоль карпатских предгорий. На холмах, живописно изрезанных перелесками, время от времени встречались одиноко стоящие домики – хутора. Изредка попадались деревушки. Мери не скрывала своего восхищения красотой моих родных мест и все время подбадривала меня. Я и в самом деле чувствовал себя виноватым перед нею. Привезти Мери в такую глушь, где все для нее незнакомое и чужое! Но честное слово, после нескольких лет жизни в громадном и грязном городе я успел позабыть не только о местных предрассудках. Я забыл, до чего же красива моя родная страна. А чистый и свежий воздух разительно отличался от лондонского зловония. Я сказал Мери, что через какой-нибудь месяц земля вокруг покроется цветами.
Прошло еще несколько часов. Солнце садилось, окрашивая в бледно-розовые тона величественные заснеженные вершины Карпат. Даже у меня, выросшего в этих местах, перехватило дух от сказочного великолепия природы. Признаюсь: тяжелые предчувствия не мешали мне гордиться родной землей и испытывать тоску по дому. А ведь я совсем забыл о нем в водовороте лондонской жизни.
Родной дом. Каких-то десять дней назад эти слова означали для меня Лондон...
Вместе с наступившими сумерками сумеречными сделались и мои мысли. Я вспоминал страх, мелькнувший в глазах нашего кучера, думал о предрассудках, которые, как в зеркале, отражались в его словах и жестах, и о враждебности, скрытой под внешней учтивостью.
Под стать моим мыслям изменился и пейзаж. Чем выше в горы увозила нас коляска, тем более чахлой и низкорослой становилась растительность. Когда мы поднялись по крутому склону, я заметил невдалеке сливовый сад. Точнее, бывший сливовый сад, ибо в деревьях, представших нашим взорам в сиреневых сумерках, давно иссякли жизнетворные соки. Их стволы чем-то напоминали сгорбленные спины здешних старух-крестьянок, привыкших таскать на себе непомерные тяжести. Мертвые деревья молча взывали к небесам о милосердии. Мне вдруг показалось, что вся земля вокруг сгорбилась. Горбатая земля, горбатые люди, причем суеверия горбили их еще сильнее, нежели тяжелая работа.
Удастся ли нам, оказавшись среди них, чувствовать себя по-настоящему счастливыми?
Вскоре стемнело. Чахлые фруктовые сады сменились прямыми и высокими соснами. Мелькание темных силуэтов деревьев на фоне еще более темной гряды гор, а также убаюкивающее покачивание рессорной коляски сморили меня, и я заснул.
Сон мой был тяжелым и сопровождался странными сновидениями.
Я вернулся в детство. Задрав голову, я разглядывал высоченные сосны, над которыми, будто горная вершина, возвышался дядин замок. Верхушки деревьев скрывали клочья тумана. Внизу было прохладно и сыро, пахло хвоей и недавно выпавшим дождем. Теплый ветерок приятно шевелил мои волосы, играл листьями и травой. Появилось солнце, и тысячи капелек вспыхнули бриллиантовыми россыпями.
В тишине раздался мальчишеский крик. Обернувшись, я увидел среди солнечных пятен своего старшего брата Стефана – веселого шестилетнего сорванца. Его темные глаза озорно блестели (наверняка задумал какую-нибудь очередную шалость), лицо, чем-то напоминавшее традиционное изображение сердца, раскраснелось. Губы над узким подбородком заговорщицки улыбались. Рядом с братом стоял здоровенный серый Пастух – помесь английского дога с волком. Нам он достался маленьким щенком и рос вместе с нами.
Махнув мне рукой, Стефан повернулся и побежал в лес. Пастух радостно устремился за ним.
Я почему-то испугался, но страх быстро прошел. Чего бояться, если с нами Пастух? Трудно было найти более преданного и свирепого защитника, чем этот пес. Да и отец где-то поблизости (это я знал с уверенностью сновидца), а потому с нами ничего не случится.
Я бросился вслед за Стефаном и Пастухом, смеясь и сердясь одновременно. Брат был старше меня всего на год, но в таком возрасте год – значительный срок. Он бегал быстрее, чем я. Услышав мои крики, Стефан ненадолго остановился, глянул через плечо и, довольный тем, что мне его не догнать, скрылся в темной, влажной листве.
Я тоже вбежал в лес. Приходилось то и дело нагибаться, иначе нижние ветви могли больно отхлестать по щекам и плечам и вдобавок окатить водой. Чем дальше я углублялся в лес, тем сумрачнее он становился. Вскоре мое лицо горело от пощечин, которые мне надавали коварные ветки. Мне было больно, глаза наполнились слезами, и теперь вместо смеха я всхлипывал, хватая ртом воздух. Я бежал все быстрее. А ветки словно сговорились меня задержать. Их очертания стали похожи на чудовищ из сказок. Я совсем потерял из виду и брата, и собаку. Правда, я еще слышал звонкий смех Стефана, но откуда-то издалека.
Трудно сказать, сколько времени я продирался сквозь эту угрюмую чащу. Мне казалось, что целую вечность. Вдруг смех брата оборвался. Послышался глухой стук, будто Стефан споткнулся и упал. Затем раздался его короткий пронзительный крик. На несколько секунд все смолкло, после чего я услышал негромкое, но жуткое урчание. Оно переросло в рычание. Стефан страшно завопил. Я бросился на его вопль, сам выкрикивая имя брата.
Деревья расступились, и я очутился на краю поляны. Солнце, пробивавшееся сквозь редеющий туман, освещало жуткую картину. Я застыл от ужаса: Пастух стоял над моим братом, сомкнув свои массивные челюсти на его шее. Заслышав мои шаги, пес поднял голову и невольно порвал зубами нежную кожу. С серебристой морды Пастуха капала кровь.
Я заглянул в глаза животного. Они были тусклыми и бесцветными, разительно отличаясь от привычно блестящих глаз нашей доброй и верной собаки. На меня смотрели белые глаза хищника. Глаза волка.
Увидев меня, Пастух оскалил зубы и угрожающе зарычал. Потом он медленно, очень медленно припал к земле, напружинился и прыгнул в мою сторону. Невзирая на приличный вес, Пастух взлетел в воздух, как пушинка. Я примерз к месту, но, к счастью, не утратил дара речи, ибо в следующее мгновение я завопил что есть мочи.
Откуда-то сзади ударил выстрел. Пастух испустил хриплый крик и рухнул замертво. Обернувшись, я увидел отца. Тот, отбросив дымящееся ружье, подбежал к Стефану, но поделать было уже ничего нельзя: Пастух – дотоле добрейший и послушнейший пес – разорвал моему брату горло. Я метнулся к Стефану. Мне почему-то было важно увидеть корень или корягу, за которую он зацепился, и камень, о который ударился головой.
А потом с поразительной ясностью, какой отличаются самые кошмарные сновидения, я увидел своего умирающего брата.
Из ранки на лбу густо струилась кровь, но эта рана казалась пустяком в сравнении с его горлом. Пастух за считанные секунды успел располосовать Стефану шею. Содранная кожа висела окровавленными лоскутами, и я не мог отвести взгляд от обнажившихся костей, хрящей и окровавленных жил.
Самое ужасное, что мой брат умирал, но еще не умер. Он силился в последний раз вдохнуть воздух, испустить последний крик. Стефан лежал, устремив на меня испуганные глаза, в которых застыла немая мольба о помощи. Из разорванной глотки, переливаясь на солнце, вылетали ярко-красные пузырьки – сотни маленьких окровавленных радуг. Стебельки травы, не успев просохнуть после дождя, сгибались под другой влагой – человеческой кровью.
Я пробудился от кошмарного сна как раз в тот момент, когда кучер остановил лошадей. Должно быть, я спал не менее часа, ибо мы успели въехать в ущелье Борго и добраться до того места, где мы планировали пересесть в карету, отправленную за нами дядей. Мери тоже задремала, поскольку и она не сразу пришла в себя и некоторое время удивленно оглядывалась по сторонам. Сбросив остатки сна, мы выбрались из коляски. Я выгрузил наши вещи. Кучер, не проронив ни слова, развернулся и уехал, а мы остались ждать посланный за нами экипаж.
Ждали мы совсем недолго. Не прошло и пяти минут, как мы услышали скрип колес и стук копыт. Из ночного тумана вынырнула коляска, запряженная четверкой норовистых угольно-черных лошадей. Лошади бешено вращали глазами и раздували ноздри. Дядин кучер спрыгнул с козел и подошел к нам, чтобы поздороваться и погрузить наши вещи. Из отцовских писем я знал, что прежний кучер – старый Санду – умер пару лет назад. Новый был мне совершенно незнаком. Смуглый, светловолосый, с лицом, на котором за маской угодливости скрывались жестокость и несговорчивость. Человек этот не понравился мне сразу. Я не стал расспрашивать его об отце. Он тоже не проронил ни слова Я решил: уж лучше дождаться и все узнать от родных, чем задавать вопросы этому неприятному субъекту. Впрочем, он был достаточно расторопен, ибо вскоре наши чемоданы были погружены и надежно перехвачены веревками, а мы сами сидели в коляске, закутавшись в теплые накидки. Последнее было отнюдь не лишним, ибо ночью в горах холодно даже летом. Мы с Мери тоже молчали. Она вновь дремала. Мне спать не хотелось, и я убивал время, размышляя о недавно увиденном кошмаре. Конечно, если его вообще можно назвать сном.
Полагаю, это было не сновидение, а воспоминание, посетившее меня во сне. Возможно, толчком к нему послужил знакомый запах влажной сосновой хвои. Мой брат действительно погиб столь ужасающим образом, когда мне еще не исполнилось пяти лет. Но наяву все обстояло по-иному: я не отважился подойти к окровавленному Стефану. Когда я услышал его предсмертные хрипы и увидел склонившегося над ним отца, то почти сразу же потерял сознание.
Через несколько лет, когда отец более или менее оправился после трагической гибели Стефана и гнетущего чувства собственной вины (Боже, как он корил себя за доверие к Пастуху!), он рассказал мне о возможной причине того, что наша собака в мгновение ока превратилась в дикого зверя. Стефан, считал отец, споткнулся, упал и расшиб себе лоб. Хлынула кровь. Ее запах пробудил у Пастуха инстинкты хищника, и добродушный пес преобразился, став безжалостным волком. Пастух тут ни при чем – какой спрос с животного? А вот его самого, утверждал отец, судьба жестоко покарала за излишнюю доверчивость к собаке-полукровке.
* * *
Воспоминания о гибели Стефана наполнили меня ужасом, причем это ощущение нарастало. Увы, мои предчувствия оправдались...
К отцовскому дому мы подъехали около полуночи, проделав утомительный подъем по нескончаемому серпантину песчаных дорог. Мы с кучером помогли Мери выйти из коляски. (Мою жену потрясли размеры и великолепие дома, не идущего ни в какое сравнение с нашим скромным лондонским жильем. В Англии я предпочитал не говорить о том, насколько богат род Цепешей. Что-то скажет моя дорогая женушка завтра, когда взойдет солнце и она увидит старинный замок, рядом с которым даже этот внушительный особняк выглядит игрушечным?) Признаюсь, я пережил несколько мгновений неподдельного страха, когда с каменных ступенек к нам бросился здоровенный сенбернар. Однако в его лае не было ничего угрожающего, пес просто здоровался с нами. Вслед за ним на лестнице появился... мой умерший брат, что заставило меня сразу же позабыть про сенбернара.
Мраморно-белый лоб Стефана окаймляли иссиня-черные волосы. Прошло уже двадцать лет, но он оставался все тем же шестилетним мальчиком. Стефан медленно поднял руку, приветствуя меня. Я заморгал, посчитав увиденное галлюцинацией. Призрак брата не исчезал. Только теперь я заметил, что бледная ладошка и разорванная белая полотняная рубашка покрыты темно-красными пятнами (в лунном свете они выглядели почти черными). Я понял: брат поднял руку вовсе не для приветствия, а чтобы скрыть кровь.
Я неотрывно смотрел на призрачное видение. Стефан протянул ко мне руку (с его детских пальчиков капала кровь), указывая на что-то, находившееся у нас за спиной. Разумеется, Мери и кучер не видели призрака, поэтому я украдкой обернулся назад, но ничего не увидел. Только ночной лес с темными силуэтами деревьев.
Я вновь повернулся к Стефану, успевшему спуститься по каменным ступеням вниз. Он молчаливо, но выразительно указывал в сторону леса.
Я ощутил сильное головокружение и, невольно вскрикнув, закрыл глаза. В здешних краях полно легенд о мороях[4]4
Moroi (рум.) – вампир, упырь, вурдалак.
[Закрыть]– неупокоившихся душах мертвецов. Крестьяне верят, будто тайные грехи или зарытые сокровища вынуждают эти души скитаться по земле до тех пор, пока не откроется правда. Но какие грехи могли быть у маленького Стефана? Сомнительно также, чтобы ребенок знал тайну спрятанного в лесу клада. Умом я понимал: призрачное видение вызвано всего лишь усталостью после длительного путешествия и страхом услышать печальное известие. Я причисляю себя к современным людям и верю в науку, а не в Бога и дьявола.
Я открыл глаза. Стефан исчез. В дверях стояла моя сестра Жужанна.
Мое сердце сжалось от боли. Мери поспешно прикрыла рукой рот, но и у нее вырвался горестный стон. Мы оба сразу же поняли: мой отец мертв. Жужанна была в трауре, ее глаза покраснели и опухли от слез. Обрадовавшись встрече, она попыталась улыбнуться нам, но улыбка мгновенно погасла под тяжестью горя.
Милая моя сестричка, как же ты постарела за эти несколько лет, что я отсутствовал дома!.. Она была старше меня всего на два года, а казалось – на все пятнадцать. В ее иссиня-черных волосах (таких же, как у меня и у маленького Стефана) появилась седина, посеребрившая виски и макушку. Осунувшееся лицо избороздили морщины. Смерть отца придавила Жужанну. Мне стало стыдно: ведь все самое тяжелое легло на ее хрупкие плечи.
Я бросился к ней, миновав то место, где совсем недавно стоял призрак Стефана. Жужанна успела сделать всего лишь шаг. Я нежно обнял ее. Мы оба зарыдали, не стесняясь своих слез.
– Каша, – повторяла она. – Каша, милый...
Меня давно так никто не называл, и это детское имя-прозвище больно царапнуло меня по сердцу. (Объясню происхождение этого странного имени. В детстве у нас была старая повариха из русских, звавшая меня уменьшительным русским именем Аркаша. Если отбросить первые две буквы, получалось "каша" – весьма странное и противное кушанье, которым нас изо дня в день кормили на завтрак. Правда, мне часто удавалось одурачить повариху: выкинув куда-нибудь ненавистную кашу, я предъявлял старухе пустую тарелку и уверял, что все съел. Жужанна любила меня поддразнивать, называя Кашей. Незаметно это имя пристало ко мне.). Жужанна показалась мне совсем бесплотной, и, как бы ни был я охвачен горем, меня серьезно встревожило ее состояние. Сестра родилась хромой и с искривленным позвоночником. Сколько я ее помню, она всегда была слабым и болезненным созданием.
– Когда, Жужа? – спросил я по-румынски.
Неужели я четыре года провел в Лондоне, разговаривая исключительно по-английски и почти забыв о своей принадлежности к роду Цепешей? В тот момент мне казалось, что я никуда не уезжал.
– Вечером, сразу после заката, – ответила она, и я сразу же вспомнил кошмарный сон, привидевшийся мне, когда мы ехали в коляске. – Где-то в полдень он впал в беспамятство и в сознание больше не приходил. Но до этого отец успел продиктовать тебе письмо...
Утирая платком слезы, Жужанна подала мне сложенный лист бумаги, который я не глядя опустил в карман жилетки.
Громадный сенбернар взбежал по ступеням и остановился подле хозяйки. Я невольно отпрянул. Жужанна поняла мой жест – когда Пастух разорвал Стефану горло, ей было семь.
– Не бойся, – сказала она мне, поглаживая пса. – Брут – собака чистых кровей. Он очень добрый и покладистый.
Ну и имя! Интересно, что заставило мою сестру так назвать своего любимца?
Жужанна проковыляла вниз и подошла к Мери, которая до сих пор терпеливо стояла в стороне, не желая нам мешать.
– Какая же я все-таки грубая, – по-английски сказала Жужа. – Давно мечтала увидеть свою дорогую невестку, а теперь заставляю ее ждать. Добро пожаловать, Мери.
После нескольких лет, проведенных в Лондоне, акцент сестры резал мне ухо. Мери тоже несколько опешила. Она привыкла читать письма Жужанны, написанные безупречным литературным английским языком, и, наверное, решила, что речь последней отличается такой же безупречностью.
Со всем изяществом, какое позволяло нынешнее положение, Мери пошла навстречу Жуже и, поцеловав мою сестру, произнесла:
– Ваши удивительные письма покорили меня. Мне казалось, что мы с вами – давние подруги. Как я рада наконец увидеть вас, и как жаль, что наша первая встреча происходит при столь печальных обстоятельствах!
Жужанна взяла Мери за руку и повела с ночного холода в теплый дом. Неужели я снова очутился в знакомой большой гостиной? Всхлипывая и вытирая слезы, Жужа рассказала нам о болезни отца и его последних днях. Наш разговор продолжался около часа. Затем, спохватившись, сестра заявила, что проводит нас в нашу комнату (мою прежнюю комнату!), ибо Мери сильно утомилась и нуждается в отдыхе. Уложив жену в кровать, я отправился с Жужей к отцу.
Выйдя из восточного крыла дома, мы миновали поросший травой холм и оказались возле семейной часовни. Точнее, перед тем, что некогда было семейной часовней, поскольку отец никогда не скрывал своих атеистических воззрений, привив и нам скептическое отношение к церкви и ее требованиям. Еще издали мы услышали мелодично-печальные голоса плакальщиц, исполнявших бочете[5]5
Bocete (рум.) – особый вид причитаний, который специально нанятые плакальщицы исполняют у тела усопшего в ночь перед похоронами.
[Закрыть]– традиционные песни-причитания. Рискну перевести на английский несколько строк из одной песни:
Отче, от нас уходить не спеши,
Встань же и слезы нам осуши.
Еще не пробил час смертный твой —
Молви нам слово, очи открой.
Все христианские атрибуты часовни: иконы, статуи и кресты – давным-давно были удалены из алтаря, но остались на стенах в виде ярких мозаичных изображений святых, выполненных в древних византийских канонах. Купол, в центре которого крепилась цепь массивной люстры, также был мозаичным. Христос-Спаситель бесстрастно взирал с вышины на человеческую суету. Войдя, я сразу же увидел изображения, которые очень любил разглядывать в детстве: великомученик Стефан[6]6
Великомученик, забитый камнями за проповедь учения Христа (см: Деяния Апостолов, 6:5,6:8 – 8:2). Следует отметить, что самое деятельное участие в расправе над Стефаном принимал некто Савл – впоследствии ревностный христианин, апостол Павел.
[Закрыть](его я всегда отождествлял со своим братом), Люцифер, падающий с небес, и доблестный святой Георгий, убивающий ненасытного дракона.
Здание часовни утратило свое первоначальное назначение и из места молитв превратилось в место уединенных размышлений. Тем не менее, здесь все равно сохранялась атмосфера благоговейного покоя. Несколько лет подряд (тяжелых лет), пока не начала рубцеваться рана, нанесенная отцу гибелью Стефана, он часами просиживал здесь.
Мы тихо прошли к задней стене часовни. Она служила усыпальницей. На золотых табличках были выгравированы имена наших предков, обретших здесь последнее пристанище. В часовне уже давно никого не хоронили, ибо полтора века назад на полпути между домом и замком воздвигли новую усыпальницу. Я шел мимо умерших предков, чувствуя на себе их взгляды. В шелесте нашей одежды мне слышался их одобрительный шепот. Меня охватило весьма странное чувство – предельно обостренное чувство времени. Подобное чувство возникало у меня, когда я путешествовал. Только сейчас я двигался не назад, в минувшие эпохи, а вперед. Я двигался быстро, почти бегом (как тогда бежали Стефан и Пастух), навстречу настоящему. Навстречу судьбе.
Отец лежал близ алтаря, в гробу, сделанном из отполированного вишневого дерева (мне сразу вспомнился Стефан, лежавший в своем детском гробике). Сам алтарь был затянут черной материей и уставлен зажженными свечами. Рядом с изголовьем и ногами покойного горело по толстой погребальной свече в бронзовом подсвечнике. По обе стороны от изголовья стояли женщины в черном, исполнявшие бочете. Они напоминали отцу обо всех, кого он покинул, будто и в самом деле верили, что отец повременит уходить в мир иной и откроет глаза. Я застыл в нескольких футах от гроба. Мне не хотелось приближаться, чтобы плакальщицы видели мое горе.
– Оставь меня, Жужа, – попросил я сестру. – Пойди отдохни. Ты и так заботилась об отце все эти годы. Теперь я о нем позабочусь.
Последние слова наверняка показались бы моей жене достаточно странными, однако у нас существует обычай: не оставлять на ночь покойника одного. Полагаю, этот обычай, как и большинство остальных, обусловлен крестьянскими суевериями и невежеством. Считается, что в ночные часы нужно оберегать душу усопшего от всех злых сил, которые попытаются ее похитить. Представляю, как бы это не понравилось моему отцу, всегда восстававшему против крестьянских суеверий. Мне же хотелось не столько соблюсти традицию, сколько выказать свое уважение отцу. К сожалению, я приехал слишком поздно и уже ничем иным не мог ему помочь. Пусть хоть так я отдам ему дань памяти. Мой отец был добрым и терпимым человеком. Думаю, он понял бы, что движет мною, и не стал бы противиться.
В горе ведешь себя вопреки здравому смыслу. Я вдруг почувствовал, что меня раздражают плакальщицы. Как странно: получалось, сам я имел право соблюсти старинный обычай (который, повторяю, никогда не нравился моему отцу), а плакальщицам в этом праве отказывал. Объяснение нашлось почти сразу же: я был сыном покойного и хотел остаться с отцом наедине, без присутствия кого бы то ни было.
Жужанна не стала мне возражать. Прежде чем уйти, сестра сказала:
– Вечером приходил слуга из замка. Принес мне письмо от дяди. Прочти.
Она достала из-за пояса письмо и подала мне. Я развернул лист и узнал мелкий, как бисер, почерк дяди. Вот перевод этого письма (в той мере, в какой я сумел запомнить содержание):
Милая моя Жужанна!
Позволь мне высказать в этом письме свои самые искренние соболезнования. Я целиком разделяю твое горе и скорблю вместе с тобой. Ты наверняка знаешь, что во всем мире не было для меня человека ближе и дороже, чем твой отец. Если б не его блестящее и разумное управление хозяйством, я бы давно разорился и погиб. Но деловые отношения были лишь малой частью того, что нас связывало. Хотя Петру приходился мне племянником, я любил его, как брата, а тебя с Аркадием – как своих детей. Верь мне: пока я дышу, вы оба не будете ни в чем нуждаться. Пока я жив, вам нечего бояться. Ведь вы – последние в роду Цепешей, гордость нашей династии и надежда на будущее. Дорогая, если сейчас тебе что-либо нужно или же есть нечто, что тебе просто хотелось бы иметь, окажи мне честь и позволь исполнить твое желание.
Передай от меня привет нашему дорогому Аркадию (он ведь должен сегодня приехать) и его жене, а также мои искренние соболезнования. Надеюсь, они добирались сюда с максимальными удобствами и ничем не рисковали. Жаль, что кончина Петру омрачит им радость приезда.
Я нанял плакальщиц, они будут петь бочете по твоему отцу. Пожалуйста, не тревожься насчет устройства похорон. Все хлопоты я возьму на себя. С твоего позволения, сегодня я навещу часовню, дабы провести некоторое время рядом с покойным. Поскольку это будет поздно ночью, я не хочу никого тревожить и всего лишь прошу не запирать ее дверь.
Твой любящий дядя В.
Я кивнул Жужанне, показывая, что дочитал письмо. Она молча сложила лист и убрала его обратно за пояс. Мы понимающе переглянулись – Жужа предупредила, что мое уединение может оказаться нарушенным. Взглянув с любовью и почтением на отца, сестра приподнялась на цыпочки и нежно поцеловала меня в щеку.
Я стоял, не шевелясь, и слушал причитания плакальщиц и неуверенные, шаркающие шаги Жужанны по холодным каменным плитам. Скрипнули петли тяжелой двери. Жужа ушла.




