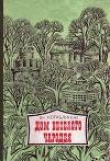Текст книги "Потерянный горизонт"
Автор книги: Джеймс Хилтон
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
– Их слишком много, мой дорогой Конвэй. А мы только маленькая спасательная шлюпка на волнах штормового моря. Мы можем взять на борт нескольких уцелевших в кораблекрушении. И если к нам ринутся все свалившиеся в воду, мы сами пойдем на дно… И сейчас давайте не будем об этом думать. Говорят, вы общаетесь с нашим замечательным Бриаком. Милейший мой соотечественник, хотя я и не разделяю его мнения о Шопене как о величайшем композиторе мира. Я, как вам известно, предпочитаю Моцарта…
Конвэй дождался, пока унесли чашки и слугу окончательно отпустили на ночь, и лишь после этого отважился напомнить о вопросе, который остался без ответа.
– Мы говорили о Мэлинсоне, и вы сказали, что это будет моя проблема. Почему же именно моя?
Верховный Лама очень просто сказал:
– Потому что, сын мой, я собираюсь умереть.
Заявление потрясло Конвэя, и некоторое время он не мог вымолвить ни слова. Разговор продолжил сам Верховный Лама:
– Вы удивлены? Но ведь, друг мой, в конце концов, все мы смертны – даже в Шангри-ла. Не исключено, мне еще дано будет прожить несколько мгновений или даже, коль на то пошло, несколько лет. Я поведал вам простую вещь. Уже вижу конец – вот и все. Очень мило, что вы выглядите таким обеспокоенным, и я не стану притворяться, утверждая, будто перед лицом смерти, даже в моем возрасте, я лишен всяких сожалений. На счастье, во мне осталось мало того, что могла бы забрать физическая смерть. Насчет остального, то тут все религии проявляют приятное единодушие в своем оптимизме. Меня ничто не тревожит, но в оставшиеся часы я должен привыкнуть к новому ощущению. Я должен осознать, что время у меня есть только на одно-единственное дело. Догадываетесь ли вы, о чем идет речь?
Конвэй молчал.
– Это касается вас, сын мой.
– Вы оказываете мне огромную честь.
– Я имел в виду гораздо больше.
Конвэй слегка кивнул, но ничего не сказал. И, немного выждав. Верховный Лама продолжил:
– Вы, наверное, знаете: частота наших встреч выходит за рамки здешних обычаев. Но наша традиция и состоит в том, чтобы никогда не быть рабами традиции. У нас нет железных, несокрушимых правил. Мы поступаем так, как считаем нужным, немного следуя примерам прошлого, но более руководствуясь той мудростью, которую имеем сегодня, и провидением, позволяющим нам заглядывать в будущее. Все это и вдохновляет меня на свершение последнего моего дела.
Конвэй по-прежнему молчал.
– Вам, сын мой, я вручаю судьбу Шангри-ла.
Напряженность наконец спала. И Конвэй почувствовал силу вежливого и доброжелательного убеждения. Эхо произнесенных слов замерло в тишине, и Конвэй слышал лишь стук собственного сердца. И вот словно в том же ритме зазвучали слова:
– Я ждал вас, сын мой, очень долго. Я сидел в этой комнате и вглядывался в лица новопришельцев. Я всматривался в их глаза и вслушивался в их голоса. И всегда надеялся, что однажды найду вас. Мои коллеги старели и набирались мудрости, но вы, хотя и молоды, уже обладаете этой мудростью. Мой друг, задача, которую я вам завешаю, не потребует изнурительных усилий. Вериги, которые несут члены нашего ордена, только шелковые. Будьте мягким и терпеливым. Заботьтесь о том, что обогащает ум. Мудро и тихо ведите дела, не забывая о бушующей вокруг буре. Все это будет для вас легко и приятно, и вы, не сомневаюсь, найдете великое счастье.
Конвэй попытался ответить, но не мог, пока новая яркая вспышка молнии, скользнувшая бледным светом по шторе, не заставила его воскликнуть:
– Буря… вы говорили о буре…
– Да, сын мой, грядет такая буря, какой свет еще не видывал. Не защитит оружие, не помогут власти, ничего не подскажет наука. Она не уляжется, пока не будут растоптаны все цветы культуры и все человеческое не будет обращено в хаос. Я это предвидел, когда еще и не прозвучало имя Наполеона, а сейчас с каждым часом эта картина разворачивается передо мной все яснее. Скажите, разве я ошибаюсь?
– Нет, думаю, что вы можете оказаться правы. Крах, подобный этому, уже случался в прошлом, и после него наступила растянувшаяся на пять столетий мрачная эпоха Средневековья.
– Сравнение не совсем точное. Потому что та мрачная эпоха на самом деле была не такой уж мрачной – она вся расцвечена сверкающими огнями, а если бы Европа тогда действительно осталась совсем без света, он горел бы в других местах, буквально повсюду, от Китая до Перу, и огонь возможно было принести оттуда. Но грядущий мрак накроет сразу весь мир. Некуда будет бежать, негде укрыться, если не считать приютов, очень хорошо спрятанных или очень убогих, чтобы привлечь внимание. А Шангри-ла, надеемся, окажется и тем и другим. Летчик, который понесет смертельный груз, дабы обрушить его на большие города, пролетит мимо, а если случайно и заметит обитель, едва ли посчитает ее достойной его бомбы.
– И вы полагаете, будто все это произойдет при моей жизни?
– Я верю, что вы переживете эту бурю. И потом, в эпоху всеобщего развала, вы также будете жить, старея, набираясь мудрости и терпения. Вы сохраните аромат нашей истории и обогатите его своим умом. Вы будете встречать здесь чужестранцев и знакомить их с системой управления, которую создают возраст и мудрость. И может случиться, один из этих пришельцев станет вашим преемником, потом, когда вы будете очень-очень старым. Дальше мое видение теряет ясность, но смутно я различаю движение новой жизни, движение слабое, но вдохновляемое надеждой вернуть утраченные, отошедшие в легенду сокровища. А они будут храниться здесь, сын мой, здесь, в укрытой горами долине Голубой Луны, чудом сбереженные для нового Возрождения…
Речь оборвалась, и Конвэй увидел перед собой лицо, исполненное отрешенной и все покоряющей красоты. Но сияние погасло, и осталась только маска, темная и мрачная, будто из сморщенного, старого дерева. Она не двигалась, глаза были закрыты. Некоторое время как во сне Конвэй всматривался в застывшее лицо старца, наконец, до его сознания дошло, что Верховный Лама мертв.
Конвэй ощутил необходимость оказаться в реальном мире. Иначе в возникшее положение невозможно было поверить. Повинуясь инстинкту, Конвэй взглянул на часы. Было пятнадцать минут пополуночи. Он пересек комнату, подошел к двери и вдруг сообразил, что понятия не имеет, к кому и как обратиться за помощью. Он знал: тибетцы отпущены на ночь, а где искать Чанга или кого-нибудь еще, ему было неведомо. Он в нерешительности стоял на пороге темного коридора. За окном он видел чистое небо, хотя горы еще поблескивали серебром полыхавших молний. И тут, будто погружаясь в сон, он почувствовал себя хозяином Шангри-ла. Со всех сторон его окружали милые ему вещи, и они создавали тот мир внутренней жизни, в который он уходил все дальше и дальше покидая обычную суету земного существования. Его взгляд скользнул по шторам. Он вглядывался во тьму и видел блеск крошечных золотых заклепок на обильных волнах лака, покрывавшего мебель. Аромат туберозы, тончайший, готовый вот-вот исчезнуть, вел его за собой из комнаты в комнаты. Так он спустился во внутренний дворик и вышел к пруду. Над Каракалом плыла полная луна. Было двадцать минут второго.
А потом Конвэй заметил рядом с собой Мэлинсона, который держал его за руку и поспешно уводил прочь. Он никак не мог сообразить, что, собственно, происходит, и слышал только возбужденный голос юноши.
Глава одиннадцатая
Они поднялись в комнату с балконом, обычно служившую им столовой. Мэлинсон все еще-сжимал его руку и почти насильно тащил за собой.
– Ну же, Конвэй, до рассвета мы должны собраться – и прочь отсюда! Колоссальная новость, дружище! Хотел бы я знать, что подумают утром старик Барнард и мисс Бринклоу, когда обнаружат наше отсутствие… Но ведь они сами решили остаться, а нам без них, может быть, и лучше… Носильщики в пяти милях за перевалом. Они прибыли вчера с грузом книг и всего такого прочего. Завтра трогаются в обратный путь… Теперь ясно, как эти здешние людишки хотели нас облапошить. Просто ничего нам не говорили. Этак мы проторчали бы еще бог знает как долго… Послушайте, в чем дело? Вы заболели?
Конвэй опустился в кресло, наклонился вперед и положил локти на стол. Он провел рукой по глазам.
– Заболел? Нет, не думаю. Просто… да, видимо, устал.
– Наверное, это из-за грозы. Где вы пропадали все это время? Я прождал вас несколько часов.
– Я… я встречался с Верховным Ламой.
– А, с этим! Ну, слава Богу, в последний раз.
– Да, Мэлинсон, в последний раз.
В голосе Конвэя и в последовавшем затем его молчании Мэлинсон уловил нечто такое, из-за чего пришел в ярость.
– Ладно, хорошо бы вы преодолели эту чертову заторможенность. Нам, знаете ли, надо изрядно пошевелиться.
Конвэй сосредоточился, стараясь обрести ясность сознания.
– Извини, – сказал он. Отчасти проверяя свою способность к самообладанию, отчасти же чтобы выяснить достоверность своих ощущений, он зажег сигарету. – Боюсь, я не совсем понимаю… Ты говоришь, носильщики…
– Да, носильщики, дружище. Возьмите себя в руки.
– Ты думаешь, надо пойти к ним?
– Думаю? Да чего тут думать, они всего в пяти милях за перевалом. И мы должны уходить сейчас же.
– Сейчас же?
– Да, да. Что мешает?
Конвэй еще раз попытался вернуться в реальный мир. Наконец он сказал:
– Надеюсь, ты понимаешь, что это не так просто, как кажется на первый взгляд?
Мэлинсон зашнуровывал тибетские горные сапоги – высокие, до колен. Ответил он резко:
– Я все понимаю. Но мы должны это сделать. И сделаем, если повезет. И если поторопимся.
– Сомневаюсь…
– О небо! Конвэй, вам что, так трудно преодолеть свою робость? У вас вообще сохранилась хоть капля мужества?
Эти слова, прозвучавшие страстно и уничижительно, помогли Конвэю собраться с мыслями и силами.
– Сохранилась или нет – к делу не относится. Но если хочешь знать, как я смотрю на все это, слушай. Вопрос касается нескольких довольно важных мелочей. Предположим, ты сумеешь пройти перевал и добраться до носильщиков. Откуда ты знаешь, что они согласятся взять тебя с собой? Чем ты можешь склонить их к согласию? Тебе не приходило в голову, что они могут оказаться не такими сговорчивыми, как это тебе кажется? Не можешь же ты всего-навсего представиться и потребовать себе свиту. Все это не проходит без подготовки, без предварительной договоренности…
– Лишь бы задержаться! – с горечью воскликнул Мэлинсон. – Боже, что вы за человек! К счастью, я могу действовать и независимо от вас. Поэтому-то все уже подготовлено. Носильщики получили плату заранее. И они согласились взять нас с собой. И вот она, одежда, вот снаряжение для этого путешествия. Все готово. Так что ваш последний предлог отпадает. Ну, давайте, двигайтесь.
– Но… Я не понимаю…
– А я и не рассчитываю, что понимаете. Но это не имеет значения.
– Кто же все это устраивал?
Мэлинсон ответил грубым тоном:
– Ло-Тсен, если уж вам непременно надо знать. Сейчас она там, вместе с носильщиками. И ждет.
– Ждет?
– Да, она уходит с нами. Полагаю, у вас нет возражений?
При упоминании о Ло-Тсен оба мира перемешались в сознании Конвэя. Резко, почти с негодованием, он воскликнул:
– Ерунда! Это невозможно.
Мэлинсон тоже кипел злостью.
– Почему невозможно?
– Потому что… Ну, просто невозможно. По разным причинам. Поверь мне, это не пройдет. Меня поражает твой рассказ об уже случившемся. Но чтобы Ло-Тсен двинулась еще дальше, сама мысль об этом нелепа.
– Не вижу тут ничего нелепого. Желание выбраться отсюда столь же естественно в ее случае, как и в моем.
– Но она не хочет выбираться отсюда. Вот где твоя ошибка.
Мэлинсон выдавил из себя улыбку.
– Вы, кажется, думаете, будто знаете о ней гораздо больше, чем я, – проговорил он. – Но может быть, это вовсе не так.
– Что ты хочешь сказать?
– Что не обязательно выучивать кучу языков. Есть и другие способы добиться взаимопонимания между людьми.
– Ради всего святого, куда ты клонишь? – воскликнул Конвэй и уже спокойнее продолжал: – Это глупо. Оставим пререкания. Давай, Мэлинсон, выкладывай. Я все еще ничего не понимаю.
– А чего же тогда вы разводите столько шума?
– Скажи мне правду. Пожалуйста, правду.
– Ладно, все достаточно просто. Юное создание, девочка в заточении среди скопища чокнутых старцев – естественно, она убежит при первой возможности. А до сих пор такой возможности не было.
– А ты не допускаешь, будто это только твоя выдумка? Что ты приписываешь ей свои собственные настроения? Ведь я же тебе говорил: она здесь вполне счастлива.
– А почему же она согласилась пойти с нами?
– Каким же образом? Она не говорит по-английски.
– Я спросил ее по-тибетски. Мисс Бринклоу подобрала нужные слова. Разговор у нас был не очень бойкий, но поняли мы друг друга достаточно хорошо. – Мэлинсон слегка покраснел. – Проклятие, Конвэй, не смотрите на меня так, а то можно подумать, будто я покушаюсь на ваши владения.
В ответ Конвэй сказал:
– Никто, надеюсь, так не подумает. Но этими словами ты сказал мне больше, чем хотел. Могу только добавить, что мне очень жаль.
– А о чем, черт возьми, вам надо сожалеть?
Конвэй разжал пальцы и дал сигарете упасть в пепельницу. Он чувствовал себя усталым, полным тревог и противоречивых нежных чувств, которые, будь его воля, лучше бы не поднимались. Он сказал мягко:
– Я не хочу этих постоянных распрей между нами. Ло-Тсен очаровательна, я знаю, но почему мы должны пререкаться по этому поводу?
– Очаровательна? – с горечью повторил Мэлинсон. – Много больше, чем очаровательна. Вам не следует думать, будто в этих делах все такие же хладнокровные, как и вы. Восхищаться ею, словно изящной вещицей, выставленной в музее, – вот, кажется, ваше представление о том, чего она заслуживает. Но моя точка зрения практичнее, и если я вижу, что человек, который мне нравится, попал в беду, я стараюсь хоть как-то помочь.
– Но разве ты не излишне запальчив? Куда, по-твоему, она направится, если покинет это место?
– Наверное, у нее есть друзья в Китае или еще где-нибудь Во всяком случае, там ей будет лучше, чем здесь.
– Как ты можешь быть настолько уверенным в этом?
– Ну, я сам постараюсь окружить ее вниманием, если этого не сделает кто другой. В конце концов, когда вы спасаете людей, вытаскивая их из какой-нибудь дьявольской трясины, вы же не спрашиваете, есть ли у них место, куда податься.
– А Шангри-ла, по-твоему, – дьявольская трясина?
– Разумеется. Здесь царят мрак и зло. Все этим было пропитано с самого начала. И то, как нас сюда затащили, беспричинно, с помощью безумца. И то, как потом удерживали, выставляя то один предлог, то другой. Но для меня самое страшное – то, как Шангри-ла воздействовала на вас.
– На меня?
– Да, на вас. Вы просто спокойно бродили вокруг, будто для вас ничего не имеет значения, с готовностью остаться здесь навсегда. Вы ведь даже говорили, будто вам здесь нравится… Конвэй, что с вами случилось? Неужели вы не можете вернуться к себе настоящему? Мы так хорошо действовали вместе в Баскуле. Тогда вы были совсем другим.
– Дорогой мой мальчик! – Конвэй протянул Мэлинсону руку, и тот с чувством, горячо пожал ее.
Мэлинсон продолжал:
– Не думаю, что вы это понимаете, но мне было ужасно одиноко в последние недели. Всем, казалось, на все наплевать, даже на самое важное. У Барнарда и мисс Бринклоу имелись своего рода извиняющие обстоятельства. Но поистине страшно было обнаружить, что и вы против меня.
– Сожалею.
– Вы это все время повторяете, но что толку?
В неожиданном порыве Конвэй произнес:
– Тогда давай я тебе кое-что расскажу. Может быть, толк появится. Выслушав меня, ты, надеюсь, поймешь многое, кажущееся сейчас странным и необъяснимым. Во всяком случае, поймешь, почему Ло-Тсен просто не может уйти отсюда с тобой.
– Не думаю, чтобы нашлись доводы, способные переубедить меня на сей счет. И давайте как можно короче. Нам нельзя терять время.
Конвэй сжато, как только мог, пересказал всю услышанную от Верховного Ламы историю Шангри-ла.
Совсем не собирался он этого делать. Но теперь почувствовал, что иначе нельзя. Обстоятельства требовали поступить таким образом. Мэлинсон и впрямь – именно его проблема, и он должен был решать ее по своему усмотрению. Говорил он быстро и легко. И по мере того, как рассказ продвигался, Конвэй снова начал ощущать, что попадает во власть удивительного вневременного мира. Красота этого мира захватывала его, и несколько раз у него возникало чувство, будто он не говорит, а читает страницы своей памяти, настолько четкими были мысли и чеканными фразы. Лишь об одном он умолчал, но только потому, что не хотел поддаться чувству, с которым еще не совладал. Он не сказал о кончине Верховного Ламы и о том, что сам стал в эту ночь его преемником.
Завершая рассказ, он почувствовал спокойствие. Он радовался, что преодолел этот рубеж, сознавал невозможность иного решения. Замолкнув, он тихо поднял глаза, уверенный в правильности своего поступка.
Но Мэлинсон лишь постукивал пальцем по столу и после долгой паузы произнес:
– Право, Конвэй, не знаю, что и сказать… Вы, видимо, совсем лишились рассудка…
Надолго повисла тишина, и они сидели и смотрели друг на друга, окунувшись каждый в свое настроение. Конвэй – замкнутый и разочарованный; Мэлинсон – взвинченный, раздраженно-беспокойный.
– Значит, ты полагаешь, будто я сошел с ума? – сказал наконец Конвэй.
Мэлинсон нервно засмеялся:
– Ну… я вполне, черт возьми, могу так думать после вашего рассказа. То есть… ну, в общем… такая бессмыслица… По-моему, тут нет предмета для обсуждения.
Конвэй взглянул на него и сказал голосом, полным удивления:
– Считаешь, бессмыслица?
– Ну а как я могу считать иначе? Извините, Конвэй, скажу довольно грубо, но какой же здравомыслящий человек способен поверить во всю эту белиберду?
– Значит, ты по-прежнему полагаешь, будто нас переправили сюда по чистой случайности, по милости некоего безумца, который тщательно подготовил угон самолета, и только для того, чтобы доставить себе удовольствие перелетом в тысячу миль?
Конвэй предложил сигарету, и Мэлинсон взял ее. Разговор прервался, и оба они, казалось, были этим довольны. Потом Мэлинсон сказал:
– Послушайте, нет смысла разбирать каждое отдельное событие. Дело в том, что по вашей теории здешние люди послали незнамо куда человека с поручением завлечь чужестранцев. И этот парень целенаправленно обучался профессии летчика и тянул время, пока не подвернулась подходящая машина, готовая к вылету из Баскула с четырьмя пассажирами… Ну, не скажу, чтобы теоретически это было невозможно. Если взять этот эпизод сам по себе, о нем еще можно порассуждать. Но когда вы вставляете его в нагромождение таких вещей, которые уж абсолютно невозможны, – насчет лам, живущих столетиями, открытого ими эликсира молодости и чего-то там еще… Н-да, меня все это просто заставляет удивляться, какая муха вас укусила. И больше ничего.
Конвэй улыбнулся:
– Да, тебе в это трудно поверить. Поначалу вроде бы и я так думал, сейчас уж точно не помню. Конечно, история необычная, но, полагаю, ты согласишься, что и место это необычное. Подумай обо всем, что мы здесь увидели, мы оба, – о долине, заброшенной в неведомых горах, о монастыре с библиотекой, полной английских книг…
– О да, с центральным отоплением, современной канализацией, вечерним чаем и так далее. Действительно, все это просто чудесно.
– Хорошо, и что же ты отсюда выводишь?
– Признаться, почти ничего. Сплошная загадка. Но это еще не причина, чтобы верить сказкам о физически невозможном. Верить в горячую ванну, потому что вы сами в ней полоскались, – это одно. И совсем другое – верить в многовековой возраст стариков, голословно утверждающих, будто они прожили столетия. – Он опять рассмеялся и сказал с прежним беспокойным нетерпением: – Слушайте, Конвэй, это место вывело вас из равновесия, что в общем-то неудивительно. Собирайте свои вещи. Давайте уходить. Мы закончим этот спор через пару месяцев после славного ужина в ресторане «Мэйдн».
Конвэй спокойно возразил:
– У меня нет ни малейшего желания возвращаться к той жизни.
– Какой жизни?
– Той, о которой ты думаешь… Ужины… Танцы… Поло… Ко всему этому.
– Но я слова не говорил о танцах и поло! Впрочем, чем они плохи? Вы хотите сказать, что не пойдете со мной? Вы собираетесь оставаться, как и те двое? Тогда по крайней мере не мешайте мне смыться отсюда! – Мэлинсон отшвырнул сигарету и прыжком метнулся к двери. Глаза его горели. – Вы безумны, Конвэй! – крикнул он. – Вы спятили! Я знаю, что вы всегда спокойны а я всегда кипячусь. Но я по крайней мере в здравом уме, а вы нет! Меня предупреждали, когда я собирался в Баскул. Я думал, они ошиблись, но теперь вижу, правильно предупреждали.
– О чем предупреждали?
– Они говорили, что вас тряхануло взрывом во время войны и с тех пор у вас появились странности. Я вас не упрекаю. Знаю, вы ничего не можете поделать. И Бог ведает, как противно мне это говорить… Ох, я пойду. Все это пугает, гнетет. Но я должен идти. Я дал слово.
– Ло-Тсен?
– Да, если хотите.
Конвэй встал и протянул руку.
– Прощай, Мэлинсон.
– Последний раз спрашиваю: вы идете?
– Не могу.
– Тогда прощайте.
Они пожали руки, и Мэлинсон ушел.
Конвэй остался в одиночестве. Его одолевали мысли, подсказанные врезавшимися в память словами. Что все прекрасное преходяще и подвержено гибели. Что два мира в конечном счете несовместимы. И что один из этих миров всегда висит на волоске. Проведя некоторое время в размышлениях, он посмотрел на часы. Было без десяти три.
Он все еще сидел за столом и курил, когда вновь появился Мэлинсон. Молодой человек вошел взволнованным и, увидев Конвэя, отступил назад в полумрак, желая сначала собраться с мыслями.
Немного выждав, Конвэй спросил:
– Ау, что случилось? Почему ты вернулся?
Очевидная естественность вопроса подтолкнула Мэлинсона выйти на свет. Он стянул с себя тяжелую накидку из овечьих шкур и сел. Лицо его было пепельно-серым, тело била крупная дрожь.
– Мне не хватило духу! – вскричал он, всхлипнув. – То место, где нас связывали веревками, помните? Туда я дошел… А дальше не смог. Я боюсь высоты. И при луне все так страшно. Глупо, да?
Он совсем расклеился и забился в истерике, пока Конвэй не помог ему прийти в себя.
Успокоившись, Мэлинсон сказал:
– Им, здешним людям, нечего бояться. Никто никогда не посягнет на них с суши. Но Боже, как много бы я дал за то, чтобы пролететь над ними с грузом бомб!
– Почему бы тебе этого хотелось, Мэлинсон?
– Так как это место следует уничтожить – что бы оно в себе ни таило. Оно нездоровое и нечистое. А значит, оно тем более заслуживает ненависти, если окажутся правдой все небылицы, которые вы мне тут плели. Умудренные старцы ползают здесь пауками, подкарауливая каждого, кто приблизится… Грязно… И вообще, кому хочется жить до такого возраста? А насчет вашего драгоценного Верховного Ламы, то если он хотя бы наполовину так стар, как вы говорите, значит, пришла пора, чтобы кто-нибудь положил конец его страданиям… Ох, Конвэй, почему вы не хотите уйти со мной? Мне противно молить вас о личной услуге. Но черт побери, я молод, и мы были такими хорошими друзьями. Неужели моя жизнь ничего не значит для вас перед ложью, исходящей от этих страшных людей? А Ло-Тсен? Она тоже молода, и для вас это тоже ничто?
– Ло-Тсен не молода, – сказал Конвэй.
Мэлинсон поднял глаза и залился истерическим смехом:
– Ах, конечно, не молода! Какая там молодость! На вид ей семнадцать, но вы сейчас расскажете, что она просто хорошо сохранилась в свои девяносто.
– Мэлинсон, она появилась здесь в 1884 году.
– Вы бредите, дружище.
– Ее красота, Мэлинсон, как и всякая красота в мире, отдана на милость тех, кто не умеет ее ценить. Она нежное существо, которое может существовать лишь там, где хрупкие творения окружены любовью. Унеси его из долины и увидишь, что от него останется только далекое эхо.
Мэлинсон громко захохотал, будто откликаясь на собственные мысли, которые внушали ему уверенность.
– Этим меня не удивить. Именно здесь она остается только эхом, коль скоро она вообще может им быть. – И, помолчав, добавил: – Такой разговор ни к чему не приведет. Лучше отбросим поэтические упражнения и вернемся к действительности. Конвэй, я хочу вам помочь. Все это чистейшая чепуха, знаю, но готов поговорить о ней, если вам от этого станет хоть немного лучше. Допустим, то, что вы мне рассказали, находится в пределах возможного и действительно заслуживает внимания. Теперь скажите мне серьезно, какими доказательствами вы располагаете в подтверждение этой истории.
Конвэй молчал.
– Всего-то и случилось, что некто наплел вам всякого вздора. Даже от самого надежного человека, которого вы знаете всю жизнь, вы не приняли бы подобных утверждений без доказательств. А какие у вас тут доказательства? На мой взгляд, никаких. Разве Ло-Тсен рассказывала вам о себе?
– Нет, но…
– А почему же принимать на веру то, что говорят о ней другие? И все эти дела насчет долголетия – у вас есть хотя бы одно доказательство со стороны?
Конвэй немного подумал и сказал о неизвестных сочинениях Шопена, которые исполнял Бриак.
– Хорошо, мне это ничего не говорит, я не музыкант. Но даже если они подлинные, разве не могло быть так, что они попали ему в руки иным путем, не тем, который подтвердил бы правдивость его истории?
– Несомненно, могло бы.
– Теперь об этой существующей, по вашим словам, методе – о сохранении молодости и так далее. Что это? Вы говорите, некое лекарство. Ладно, я хочу знать, какое лекарство. Вы его хоть раз видели, пробовали? Кто-нибудь представлял вам точную информацию на этот счет?
– Подробности, признаюсь, мне не известны.
– А вы и не спрашивали о подробностях? Вам вообще не пришло в голову, что такого рода россказни требуют подтверждений? – Конвэй не ответил, и Мэлинсон продолжал: – Что вы действительно знаете об этом месте? Вы поговорили с несколькими стариками – вот и все. Помимо этого, можно только сказать, что расположенное здесь заведение хорошо оборудовано и управляется с умом. Как и почему оно возникло, мы не имеем ни малейшего представления. И почему они хотят удержать нас здесь, если действительно хотят, тоже загадка. Но конечно же, все это не дает оснований принимать на веру легенду, которую нам подсовывают. В конце концов, дружище, вы же критически настроенная личность. Вы не поверите сказанному даже в английском монастыре. И право же, не понимаю, почему вы так легко проглатываете все на свете только из-за того, что это происходит в Тибете.
Конвэй кивнул. Погруженный в глубокие размышления, он не мог удержаться от одобрения четкости, с какой была высказана другая точка зрения.
– Ваше замечание справедливо, Мэлинсон. Правда, когда дело касается веры, не подкрепляемой весомыми доказательствами, все мы, кажется, склонны соглашаться с тем, что нам нравится.
– Но разрази меня гром, если я обрадуюсь, что доживу до такого возраста, когда я наполовину буду мертвецом. Лучше дайте мне жизнь короткую, да веселую. И весь этот треп насчет будущей войны – по-моему, жидковато. Кто может знать, когда грянет новая война и что она с собой принесет? Разве последняя война не посрамила всех пророков? – И, поскольку Конвэй молчал, он продолжил: – В любом случае я не верю, когда что-нибудь объявляют неизбежным. А если и бывает неизбежное, нечего бояться. Одному Богу известно, как бы я вел себя на войне. Скорее всего заледенел бы от страха. И все же лучше это, только бы не оказаться заживо похороненным здесь.
Конвэй улыбнулся:
– Мэлинсон, ты проявляешь выдающуюся способность ошибаться в оценке моей персоны. В Баскуле ты считал меня героем. Теперь думаешь, я трус. А на самом деле я ни то ни другое. Впрочем, это не имеет значения. Вернувшись в Индию, расскажи там, если тебе хочется, что я остался в тибетском монастыре, так как испугался еще одной войны. Причина вовсе не в этом. Но не сомневаюсь, что тебе поверят люди, уже признавшие меня чокнутым.
Мэлинсон с грустью отвечал:
– Знаете, глупый это разговор. Что бы ни случилось, я слова не произнесу против вас. Можете положиться. Я не понимаю вас? Допустим. Но… но… хотел бы понять. Очень хотел бы. Как я могу вам помочь, Конвэй? Что я должен сказать, сделать?
Последовало долгое молчание. Конвэй нарушил его, произнеся:
– У меня есть один вопрос. Если позволишь, очень личный.
– Да?
– Ты влюблен в Ло-Тсен?
Бледное лицо молодого человека тут же покрылось краской.
– Кажется, да. Знаю, вы скажете, будто это нелепо и бессмысленно. Да, вероятно, так и есть. Но ничего не могу поделать со своими чувствами.
– Я вовсе не думаю, что это нелепо.
Их жаркий спор постепенно превращался в спокойную беседу.
Конвэй признался:
– Я тоже ничего не могу поделать с моими чувствами. И так уж получается, что ты и эта девушка – самые дорогие для меня люди… Хотя тебе это может показаться странным. – Оборвав себя, он встал и прошелся по комнате. – Мы сказали все, что могли сказать, не так ли?
– Думаю, да. – Но неожиданно Мэлинсон вскричал: – Какая же все это чушь, будто она не молода! Гнусная и страшная чушь! Вы ведь так не думаете, Конвэй! Это просто смешно. Какой в этом смысл?
– А у тебя есть подтверждения ее молодости?
Мэлинсон отвернулся растерянно.
– Я просто знаю… Может, я несколько уроню себя в ваших глазах… Но я действительно знаю. Боюсь, вы никогда по-настоящему не понимали ее, Конвэй. С виду она холодна, но такой ее сделала здешняя жизнь. Но внутри тепло осталось.
– В ожидании, когда будет разбита корка льда?
– Да… Можно сказать и так.
– И она, Мэлинсон, молода! Ты в этом уверен?
С нежностью в голосе Мэлинсон ответил:
– Боже, да, она еще совсем девочка. Мне было ужасно жаль ее, и нас, обоих, кажется, потянуло друг к другу. Не вижу, чего тут стыдиться. Более того, я считаю, что в подобном месте это даже достойно…
Конвэй вышел на балкон и полюбовался сверкающей вершиной Каракала. Высоко в небе плыла луна. Мечта рассыпалась, как рассыпается все прекрасное при соприкосновении с действительностью. Он понял, что все будущее человечества окажется просто пушинкой, если положить его на одну чашу весов, когда на другой будут молодость и любовь. И он знал: его душа живет в ее собственном мире, в крошечной Шангри-ла, и этот мир находится в опасности – нити его воображения путаются и рвутся, изящные мысленные картины рушатся, все вообще готово вот-вот развалиться. Чувство, которое он испытывал, лишь отчасти было похоже на горе. Его захлестывала бескрайняя грусть. Он не мог решить, что произошло. То ли он пережил помутнение рассудка и теперь снова обретал способность трезво смотреть на мир. То ли, наоборот, только что он был в здравом уме и сознании, а сейчас впадал в безумие.
К Мэлинсону теперь обратился другой человек. Голос звучал резко, почти грубо. Лицо слегка искривилось. Он гораздо больше напоминал того Конвэя – героя Баскула. Собранный, готовый к действию, он взглянул на Мэлинсона и быстро сказал: