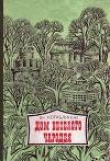Текст книги "Потерянный горизонт"
Автор книги: Джеймс Хилтон
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
Глава десятая
– Невероятно, – сказал Чанг, услышав о второй встрече Конвэя и Верховного Ламы.
И то, что эта фраза прозвучала из уст человека, не склонного произносить громкие слова, само по себе говорило о многом. Он особо подчеркнул, будто такого не случалось никогда прежде, с тех пор как существует принятый в монастыре порядок. Никогда еще Верховный Лама не назначал повторной встречи до истечения пятилетнего испытательного срока, достаточного, как считалось, чтобы новопришелец очистился от всех возможных страстей.
– Поскольку, вы должны это понять, разговор с обычным человеком из числа недавно попавших сюда требует от него огромного напряжения. Иметь дело с человеческими переживаниями нежелательно, неприятно, а в его возрасте просто невыносимо. Но я не подвергаю сомнению его мудрость. Нам, я полагаю, преподан очень ценный урок. Насчет того, что даже твердо установленные правила нашей общины остаются лишь умеренно твердыми. Но все равно это невероятно.
Конвэю, разумеется, это казалось не более странным, чем все остальное, а после третьего и четвертого свиданий с Верховным Ламой он и вовсе перестал находить здесь что-либо необычное. Более того, в легкости, с какой они достигали взаимопонимания, выражалось некое предопределение. Получалось так, будто снимались все таившиеся в душе Конвэя страхи, и, уходя, он обретал полный покой. Порой у него возникало чувство, что он околдован искусным воздействием высшего разума. А потом, когда они сидели над синими чайными чашками, мысль обретала вполне осязаемые – нежные, изящные – жизненные формы, и создавалось впечатление, что сложная теорема превращается в сонет.
В своих беседах они бесстрашно устремлялись в любые дали. Разворачивали целые философские споры. Внимательно рассматривали долгие отрезки человеческой истории и предлагали возможные их новые оценки. Конвэя это захватывало, но он сохранял критический настрой ума, и однажды, защищая свою точку зрения, Верховный Лама заметил:
– Сын мой, вы молоды годами, но я вижу, ваша мудрость соответствует зрелости пожившего человека. Судя по всему, ваш опыт вместил в себя нечто необычное.
Конвэй ответил с улыбкой:
– Только то необычное, что выпало на долю многих из моего поколения.
– Мне никогда прежде не приходилось встречаться с людьми, подобными вам.
Помолчав, Конвэй сказал:
– Ничего таинственного здесь нет. Те признаки старости, которые вы во мне замечаете, отражают сильные и преждевременно явившиеся переживания. За три года жизни, от девятнадцати до двадцати двух лет, я узнал больше всего, но обошлось мне это довольно дорого.
– Вы очень страдали на войне?
– Не совсем так. Возбуждение, готовность погибнуть, страх, бесшабашная удаль, а порой и разрывающая душу злость – все это у меня было, как, впрочем, и у миллионов других. Напивался до потери сознания, убивал, развратничал напропалую. Это было надругательство над собственными чувствами. И кто прошел через это, если прошел, тот вынес с собой все подавляющий гнет тоски и недовольства. Вот что сделало трудными последующие годы. Не думайте, будто я хочу изобразить себя страдальцем. В целом мне как раз везло. Но это напоминает школу с плохим директором: вы можете иметь полно развлечений, но нервы вам треплют постоянно, и полного удовольствия не получите. Думаю, мне такое выпало ощутить в большей мере, чем большинству других людей.
– И стало быть, вы продолжали свое образование?
Конвэй пожал плечами:
– Возможно, что конец страстей есть начало мудрости, если вы простите мне эту попытку создать новую пословицу.
– Но, сын мой, ведь это доктрина Шангри-ла.
– Я знаю. И потому чувствую себя здесь как дома.
Он говорил сущую правду. Проходили дни и недели, и он испытывал эйфорию, в которой сливались его душа и тело. Как Перро, как Хеншель и другие, он подпадал под действие высшей силы. Голубая Луна забирала его, и увернуться казалось невозможным. Горы вокруг сверкали недоступной чистотой, и потом завороженный ими взгляд опускался в зеленые глубины долины. Это была ни с чем не сравнимая картина, а вместе со звуками клавесина, тихо перекатывавшимися через заросший лотосом пруд, возникало впечатление, будто все это сплетается в совершенный узор из цвета и звука.
В нем поселилась, и он это знал, очень тихая любовь к маленькой маньчжурке. Его любовь ничего не требовала, ей не нужен был даже отклик. Она родилась в его уме, а чувства только придавали ей утонченность. Ло-Тсен была для него символом всего изящного и хрупкого. Изысканных прикосновений ее пальцев к клавишам было достаточно для ощущения интимности. Иногда он обращался к ней так, что, пожелай она, и их разговоры стали бы свободнее, очистились от светских условностей. Но в своих ответах она никогда не пересекала границу, сохранявшую уединение ее мыслей. А Конвэй в определенном смысле словно и не хотел, чтобы она пошла на это.
Неожиданно он разглядел одну из граней обещанного ему бриллианта. Он стал обладателем Времени. Времени для всего, что он хотел бы видеть свершившимся, осуществленным. Такого Времени, которое успокаивает всякое желание, так как предполагает обязательность его исполнения. Через год, через десять лет в его распоряжении будет то же Время. Он видел это все яснее, и радость наполняла его.
Но то и дело ему приходилось возвращаться к прежней жизни, встречаться с нетерпеливым Мэлинсоном, сердечным Барнардом, упорной и сосредоточенной мисс Бринклоу. Он считал, что будет рад, когда они узнают столько же, сколько и он. Подобно Чангу, он предполагал, будто с американцем и монахиней-миссионеркой никаких трудностей не возникнет. Приятное удивление вызвали у него как-то слова Барнарда:
– Знаете, Конвэй, мне иной раз кажется, не худо бы осесть в этом милом местечке. Поначалу я думал, что буду скучать без газет и кино, но привыкнуть можно, кажется, ко всему.
– Похоже на то, – согласился Конвэй.
Позже ему стало известно, что по просьбе Барнарда Чанг сводил его вниз, в долину, и дал ему возможность вкусить «ночной жизни» сообразно местным традициям. Мэлинсон же, услышав об этом, проникся негодованием.
– Видимо, приперло, – сказал он Конвэю. А самому Барнарду заявил: – Конечно, это не мое дело, но вам следовало бы держать себя в форме ввиду предстоящего путешествия. Вот так. Носильщики ожидаются через пару недель, и, насколько я понимаю, наш обратный путь не совсем будет похож на приятную прогулку.
Барнард невозмутимо поклонился.
– Насчет прогулки и в мыслях не держал, – произнес он. – А что до формы, так лучше я не чувствовал себя уже многие годы. Каждый день делаю зарядку. Никаких забот. А эти болтушки там внизу, в долине, не позволяют зайти слишком далеко. Умеренность, как вам известно, девиз этой фирмы.
– Да, не сомневаюсь, что вам удалось провести время умеренно хорошо, – съехидничал Мэлинсон.
– Само собой. Это заведение откликается на любые вкусы. Некоторым нравятся китаяночки, тренькающие на пианино, не так ли? И кто кого осудит за такие увлечения?
Конвэя это ни в малейшей мере не смутило, но Мэлинсон покраснел, как школьник.
– А других можно отправить за решетку, так как они увлекаются чужой собственностью, – резанул он.
– Можно, если их поймают, – дружелюбно усмехнулся американец. – И раз уж об этом заговорили, я вам, друзья, кое-что скажу не откладывая. Я решил пропустить этих носильщиков. Они приходят сюда довольно регулярно, и я дождусь их следующего появления, а то и еще дольше. Ну, разумеется, если монахи согласятся. Если поверят мне на слово, что я еще могу оплатить свой счет за отель.
– Вы хотите сказать, что не пойдете с нами?
– Так точно. Я решил немного подзадержаться. У вас все в порядке. Вас дома встретят с оркестром, а меня будет приветствовать только шеренга легавых. И чем больше я об этом думаю, тем яснее мне становится: это не совсем хорошо.
– Иными словами, у вас не хватает смелости выслушать, что играет музыка?
– Ну, в конце концов, я никогда не любил музыку.
Холодно, осуждающе Мэлинсон сказал:
– Думаю, это ваше личное дело. Никто не может помешать вам остаться здесь хоть на всю жизнь, если вы так настроены. – Тем не менее он оглянулся по сторонам, взывая о поддержке. – Не каждый осмелится сделать такой выбор, но взгляды могут быть разные. Что скажете вы, Конвэй?
– Согласен, что взгляды могут быть разными.
Мэлинсон обернулся к мисс Бринклоу, которая неожиданно отложила свою книгу и заявила:
– Я, коли на то пошло, тоже остаюсь.
– Что?! – воскликнули они все вместе.
Светясь улыбкой, которая, казалось, постоянно присутствует на ее лице, она продолжала:
– Видите ли, я думала о стечении обстоятельств, которые привели нас всех сюда, и могу сделать только один вывод. За сценой действует некая таинственная сила. Вы так не считаете, мистер Конвэй? – Конвэй, возможно, и затруднился бы с ответом, но мисс Бринклоу тут же заговорила с возрастающей поспешностью: – Кто я такая, чтобы сомневаться в указаниях провидения? Мне назначено было прибыть сюда, и я остаюсь.
– Хотите сказать, вы надеетесь основать здесь миссию? – спросил Мэлинсон.
– Не просто надеюсь, но определенно собираюсь это сделать. Я точно знаю, как вести дело со здешними людьми. Своего я добьюсь, не сомневайтесь. Ни в ком из них нет настоящей твердости.
– А вы намерены придать им эту твердость?
– Да, намерена, мистер Мэлинсон. Я решительно отвергаю эту идею умеренности, о которой нам здесь все время толкуют. Называйте это широтой взглядов, если вам нравится, но я считаю, что она ведет к худшим видам распущенности. Основная беда здешних людей именно в их широте взглядов, и я намерена бросить на борьбу с нею все мои силы.
– И благодаря своей широте взглядов они вам позволят? – улыбаясь, спросил Конвэй.
– Можно сказать и по-другому: твердость ее взглядов такова, что они не сумеют воспрепятствовать, – вставил Барнард. И добавил со смешком: – Ведь говорю же: это заведение потакает любым вкусам.
– Возможно, если у вас есть вкус к пребыванию в тюрьме, – отрезал Мэлинсон.
– Ну, даже и такой случай можно рассматривать с двух точек зрения. Бог мой, подумать только обо всех этих ребятах там, в большом мире, где они зажаты в объятиях рэкета и все готовы отдать, лишь бы выбраться в местечко, подобное этому, да никак не могут вырваться из своих оков! Кто же в тюрьме – мы или они?
– Утешительное рассуждение для обезьяны в клетке, – возразил Мэлинсон. Им все еще владела ярость.
Позднее Мэлинсон разговаривал с Конвэем наедине.
– Этот человек по-прежнему раздражает меня, – говорил он, прогуливаясь во внутреннем дворике. – И мне не жаль, что его не будет с нами на обратном пути. Может, вы считаете меня чересчур чувствительным, но эта подковырка насчет девушки-китаянки не показалась мне остроумной.
Конвэй взял Мэлинсона за руку. Он все яснее сознавал, что, несмотря на все капризные вспышки Мэлинсона, тот ему очень нравится, а последние недели, проведенные вместе, лишь прибавили тепла в его отношение к молодому человеку. Он сказал:
– Я думал, он хотел уколоть меня, а не тебя.
– Нет, это он про меня. Он знает, что она меня интересует. Да, Конвэй. Я не знаю, почему она здесь и нравится ли ей тут. Боже мой, если бы я, как вы, мог поговорить с ней на ее языке, я бы быстро все выяснил.
– Не уверен. Она, понимаешь ли, не очень-то склонна рассказывать о себе.
– Меня просто поражает, что вы не пристаете к ней со всякого рода расспросами.
– Не уверен, что мне доставило бы удовольствие приставать к людям с расспросами.
Ему захотелось сказать больше. И вдруг он испытал острый приступ жалости. Этот юноша, такой порывистый, горячий, очень тяжело будет переживать, когда узнает истинное положение вещей.
– На твоем месте я бы оставил Ло-Тсен в покое, – заметил он. – Счастья ей хватает.
Решение Барнарда и мисс Бринклоу остаться, по мнению Конвэя, было к лучшему, хотя в результате они с Мэлинсоном оказались как бы в противостоящем лагере. Складывалась неожиданная ситуация, и он не представлял себе, как из нее выпутаться.
Хорошо, что видимой нужды в этом вовсе не было. До истечения двух месяцев не могло произойти ничего особенного. А потом предстояло пережить кризис, который не станет менее острым, как бы он к нему ни готовился. Поэтому, да и по другим причинам ему не хотелось беспокоиться по поводу неизбежного. Тем не менее как-то он сказал Чангу:
– Знаете, меня тревожит Мэлинсон. Боюсь, ему тяжело будет перенести, когда все откроется.
Чанг кивнул с некоторым сочувствием:
– Да, его нелегко будет убедить, что это во благо. Но трудности – это, в конце концов, дело временное. Через двадцать лет наш друг вполне успокоится.
Конвэй посчитал, что это, пожалуй, чересчур философский взгляд на вещи.
– Раздумываю, – произнес он, – как лучше преподнести ему правду. Он считает дни, оставшиеся до прибытия носильщиков, и если они не появятся…
– Но они обязательно придут.
– Вот как? А мне казалось, все ваши разговоры о носильщиках – это всего лишь милые сказки, чтобы облегчить нам восприятие действительности.
– Ни в коем случае. Мы в Шангри-ла придерживаемся умеренной правды, и смею вас уверить, все мои заявления насчет носильщиков почти соответствовали истине. По крайней мере мы ждем их примерно в те сроки, которые я называл.
– Тогда вам будет трудно удержать Мэлинсона, и он уйдет с ними.
– Мы и не станем пытаться. Он лишь удостоверится – и, конечно, на основе самостоятельного заключения, – что носильщики решительно не хотят и не могут взять с собой в обратный путь хотя бы одного человека.
– Понятно. Значит, это ваш способ? А на что рассчитываете потом?
– Потом, мой дорогой сэр, пережив крушение надежд, он, человек молодой, полный веры в лучшее, начнет уповать на то, что очередной отряд носильщиков, ожидаемый через девять-десять месяцев, окажется более сговорчивым и откликнется на его просьбу. И мы, проявляя мудрость, поначалу поддержим в нем эту надежду.
– Не уверен, что он будет вести себя именно так, – резко сказал Конвэй. – Склонен думать, он скорее попытается сбежать, в одиночку.
– Сбежать? Разве это слово здесь подходит? В конце концов, перевал открыт для кого угодно и в любое время. У нас нет охранников, кроме тех, которые назначены природой.
Конвэй улыбнулся:
– Ну, надо признать, она-то постаралась на славу. И все же не думаю, что вы полагаетесь на нее при всех обстоятельствах. Как насчет попадавших сюда исследовательских экспедиций? И для них тоже перевал был открыт, когда они собирались уйти?
Теперь очередь улыбаться была за Чангом.
– Особые обстоятельства, мой дорогой сэр, требовали иногда особого рассмотрения.
– Прекрасно. Значит, возможность побега вы предоставляете людям только тогда, когда знаете, что они будут выглядеть дураками, если ею воспользуются? И все же, я полагаю, некоторые идут на это.
– Ну, изредка это случалось, но, как правило, беглецы с радостью возвращаются после одной только ночи, проведенной на плато.
– Без всякого прикрытия от ветра, без нужной одежды? Если так, то ваши мягкие приемы не менее действенны, по моему разумению, чем самые жесткие. Ну, а когда беглецы все-таки не возвращаются?
– Вы сами ответили на свой вопрос, – сказал Чанг. – Они не возвращаются. – И поспешил добавить: – Могу вас, однако, заверить, что действительно лишь немногие обрекли себя на это несчастье. И надеюсь, ваш друг не будет настолько опрометчивым, чтобы увеличить их число.
Конвэй не успокоился после этого разговора, и будущее Мэлинсона все еще занимало его. Ему хотелось, чтобы юноша получил возможность вернуться с согласия лам и это не стало бы беспримерным событием, как свидетельствовал недавний случай с Талу, летчиком. Чанг признавал, что хозяева монастыря имели полное право поступать так, как они полагали разумным.
– Но разве было бы с нашей стороны разумнее, мой дорогой сэр, поставить себя и свое будущее в полную зависимость от чувства благодарности, которое может испытывать ваш друг?
Конвэй внутренне согласился, что вопрос этот по делу, поскольку поведение Мэлинсона едва ли позволяло сомневаться насчет того, как он станет действовать сразу же по прибытии в Индию. Мэлинсон постоянно говорил об этом.
Но все это, конечно, относилось к мирской жизни Конвэя, заботы которой постепенно вытеснял из его сознания все проникающий дух Шангри-ла. Кроме мыслей о Мэлинсоне, ничто не нарушало его поразительного состояния полной удовлетворенности. Он все лучше узнавал новую среду своего существования и не переставал удивляться, насколько же тонко все здесь было приспособлено к его запросам и вкусам.
Как-то он спросил Чанга:
– Между прочим, а как вы, обитатели этих мест, относитесь к любви? Ведь наверняка у людей, попадающих сюда, возникают нежные привязанности?
– Довольно часто, – отвечал Чанг с широкой улыбкой. – Ламы, разумеется, этому не подвержены, равно как и обитатели Шангри-ла, достигшие преклонного возраста. Но пока мы молоды, мы остаемся обыкновенными людьми, разве что ведем себя более разумно. И это, Конвэй, дает мне удобный случай заверить вас во всеохватывающем характере гостеприимства Шангри-ла. Ваш друг мистер Барнард уже этим воспользовался.
Конвэй улыбнулся в ответ.
– Не сомневаюсь в этом, – сухо сказал он. – Спасибо. Но сегодня у меня нет столь острых потребностей. И интересовался я скорее эмоциональной, а не физической стороной дела.
– Вы полагаете, будто легко отделить одно от другого? А может быть, вы начали влюбляться в Ло-Тсен?
Конвэй опешил, но надеялся, что ему удалось не показать виду.
– Почему вы спрашиваете?
– Потому что, мой дорогой сэр, с вашей стороны это было бы вполне оправданно – в пределах умеренности, конечно. Никакого страстного отклика от Ло-Тсен вы не дождетесь. И не надейтесь. Но вы можете рассчитывать на очень радостные переживания. Уверяю вас. И говорю это в известном смысле со знанием дела, поскольку сам пережил влюбленность в нее, когда был намного моложе.
– Иными словами, ответной любви не возникло?
– Можно считать и так, – сказал Чанг слегка назидательным тоном. – Она всегда следовала своему правилу – не допускать, чтобы ее поклонники испытали насыщение и их охватило чувство, которое приходит с достижением цели.
Конвэй рассмеялся:
– Все это очень мило, пока дело касается вас и, возможно, меня. Ну, а если появляется горячий молодой человек вроде Мэлинсона?
– Мой дорогой сэр, если такое произойдет, лучшего и не придумать! Поверьте мне, Ло-Тсен не впервые утешила бы отчаявшегося изгнанника, осознавшего, что возврата не будет.
– Утешила бы?
– Я не случайно пользуюсь этим словом. Ло-Тсен не дарит никаких нежностей, если не считать того, что самим своим присутствием она ласкает разбитое сердце. Что говорит ваш Шекспир, например, о Клеопатре? «Она тем больше возбуждает голод, чем меньше заставляет голодать». [28]28
Шекспир У., Антоний и Клеопатра, акт II, сцена 2. Перевод М. Донского.
[Закрыть]Несомненно, подобные женщины часто встречаются там, где людьми управляет страсть. Но уверяю вас, в Шангри-ла для них не нашлось бы места. Если позволите переиначить эти знаменитые строки, я бы сказал, что Ло-Тсен гасит голод, когда менее всего насыщает. Это более тонкий процесс и сильнее результат.
– И кроме прочего, как я полагаю, она выполняет это с большим мастерством?
– О, безусловно. Это было многократно подтверждено на деле. Она умеет приглушать волны желания, превращая их в тихую нежность, которая доставляет удовольствие, даже когда на нее не откликаются.
– В таком случае вы могли бы, видимо, считать ее своего рода тренажером, частью оборудования монастыря?
– Это вы, если вам нравится, можете так смотреть на нее, – сказал Чанг с вежливым осуждением. – Но изящнее и правдивее было бы уподобить ее лучам солнца, играющим в гранях хрусталя, или каплям росы на цветущем плодовом дереве.
– Я полностью разделяю ваше мнение, Чанг. Это звучит гораздо изысканнее. – Конвэй испытывал наслаждение от сдержанных, но ловких ответов, которыми Чанг парировал его добродушные уколы.
Но, оказавшись в очередной раз наедине с маленькой маньчжуркой, он понял, что в словах Чанга было немало правды. От нее исходило благоухание, которое успокаивало его собственные чувства. Пламя уже не вырывалось из горящих углей, от них шло только тепло. И вдруг Конвэй почувствовал, что Шангри-ла и Ло-Тсен – это совершенство и он не желает большего, чем влиться в этот покой. Годами он чувствовал муку, словно его оголенные нервы рвал и трепал окружающий мир. Теперь наконец боль улеглась и он мог отдаться во власть любви, свободной от бессмысленных терзаний и скуки. Иногда, проходя ночью мимо заросшего лотосом пруда, он представлял Ло-Тсен в своих объятиях, но ощущение бесконечности времени смывало эту картину и погружало его в беспредельный и полный неги покой.
Ему казалось, что никогда он не был так счастлив, даже в те довоенные годы. Ему нравилась строгость устоев Шангри-ла, этот мир, скорее спокойный, чем одержимый одной грандиозной идеей. Нравилось царившее здесь настроение, возникавшее благодаря тому, что чувства влияли на мысли, а мысли, облеченные в слова, источали радость.
Конвэй, на опыте усвоивший, что грубость не является свидетельством искренности, считал, будто красиво построенная фраза тем более не может служить доказательством лицемерия. Ему нравились царившие здесь вежливость и непринужденность, благодаря которым каждая беседа становилась событием, а не пустым времяпрепровождением. Нравилось сознавать, что на самых пустячных занятиях не лежит теперь проклятие напрасной траты времени и достойными обдумывания считаются самые незначительные мысли.
Шангри-ла всегда пребывала в покое, но, несмотря на это, в ней велась многообразная неспешная деятельность. Ламы жили так, будто и впрямь держали время в собственных руках и несли его вперед, легкое как перышко. Конвэй с ними больше не встречался, но постепенно составил себе представление об объеме и разносторонности их занятий. Помимо освоения языков, многие, судя по всему, погружались в такие глубины исследовательской работы, что это могло бы сильно потрясти западный мир. Многие создавали рукописные трактаты по самым различным темам. Один лама, как рассказал Чанг, выполнил ценное исследование в области чистой математики. Другой стремился согласовать Гиббона и Шпенглера в рамках более широкого истолкования истории европейской цивилизации.
Но такого рода трудам предавались не все. И никто не посвящал себя им целиком. Существовало еще множество дел, которыми они занимались просто так, для развлечения. Иные, подобно Бриаку, восстанавливали обрывки забытых мелодий или, как бывший английский викарий, бились над новым истолкованием «Грозового перевала». Случалось, что в занятиях лам практического смысла было и того меньше. Однажды в ответ на замечание, оброненное Конвэем по этому поводу, Верховный Лама рассказал историю китайского художника, жившего в III веке до Рождества Христова. Многие годы трудился он, вырезая на граните изображения драконов, птиц и лошадей, и наконец предложил законченную работу наследному принцу. Поначалу принц посчитал, что перед ним всего-навсего камень, но художник уговорил его «построить стену, пробить в ней окно и взглянуть на этот камень в сиянии утренней зари». Принц так и сделал и обнаружил, что камень действительно великолепен.
– Разве не очаровательная история, мой дорогой Конвэй? И не преподносит ли она очень ценный урок?
Конвэй согласился. Ему приятно было сознавать, что, понимая важность предназначения Шангри-ла, ее обитатели занимались любыми странными и на первый взгляд ненужными делами, к чему Конвэй и сам всегда был склонен. Более того, оглядываясь на свое прошлое, он вспоминал о замыслах, которые тогда представлялись слишком ненадежными или чересчур трудными, чтобы можно было браться за их исполнение. А теперь все они осуществлялись без лени. Конвэй сознавал это с наслаждением и не посмеялся над Барнардом, когда тот доверительно поведал, что предвидит для себя интересное будущее в Шангри-ла.
Складывалось впечатление, будто вылазки Барнарда в долину, со временем участившиеся, не были всецело связаны с вином и женщинами.
– Видите ли, Конвэй, вам уж я кое-что скажу, так как вы не Мэлинсон. Он вонзил в меня нож, вы, вероятно, это заметили. Вы, по-моему, лучше поймете, что к чему. Странное дело, но вы, британские чиновники, поначалу представляетесь такими дьявольски строгими и заносчивыми, а потом оказываетесь как раз теми ребятами, которым можно довериться до конца.
– Я бы не утверждал этого так безоговорочно, – улыбаясь, ответил Конвэй. – К тому же Мэлинсон такой же британский чиновник, как и я.
– Да, он еще просто мальчик. Он не умеет разумно смотреть на вещи. Мы с вами люди, знающие жизнь, видим вещи такими, каковы они на самом деле. Взять, скажем, вот это заведение, где мы находимся. Мы пока не можем понять, что тут к чему и как прилажено и за каким чертом нас сюда заткнули. Но стоит ли удивляться? Уж коль на то пошло, разве мы знаем, зачем мы вообще оказались на белом свете?
– Вероятно, иные из нас действительно этого не знают, но к чему вы ведете?
Барнард приглушил голос, доведя его до довольно хриплого шепота.
– Золото, приятель, – ответил он в некотором возбуждении. – Золото, и точка. Тонны, буквально тонны золота в долине. В юные годы я был горным инженером и еще не забыл, как выглядит жила. Поверьте мне, она не беднее, чем в Ранде [29]29
Ранд (Витватерсранд) – богатейший и золотоносный район в Южной Африке.
[Закрыть], а взять ее в десять раз легче. Вы думали, я просто прохлаждался, отправляясь вниз в этом кресле на носилках. Ничего подобного. Я знал, что делаю. Я все время прикидывал, и выходило, будто здешние ребята ни в жизнь не получили бы извне то, что им поставляют, если бы не платили отчаянно много. А чем платить, если не золотом, или серебром, или бриллиантами, или еще чем-нибудь в этом роде? Логично, а? И только я начал разнюхивать, как тут же раскрыл всю тайну фокусника.
– Раскрыли самостоятельно? – спросил Конвэй.
– Ну, не сказал бы. Но меня осенила догадка, и я напрямую, как мужчина мужчине, выложил все Чангу. И поверьте мне, Конвэй, этот китаёза не такой уж скверный малый, как нам могло показаться.
– Лично мне он отнюдь не казался скверным малым.
– Разумеется. Я знаю, вам он все время был по душе, вот вы и не удивляетесь тому, как мы поладили. У нас это и вправду славно получилось. Он провел меня по всем разработкам, и вам интересно будет узнать, что местные власти дали мне разрешение провести в долине изыскательские работы, любые, какие я сочту нужным, с тем, дабы представить потом всеобъемлющий отчет. Что вы на это скажете, Конвэй? Они вроде бы обрадовались воспользоваться услугами эксперта, особенно когда я сказал, что смогу посоветовать, как увеличить добычу.
– Вы, как погляжу, собираетесь обрести здесь родной дом, – сказал Конвэй.
– Ну, должен признать, я получил здесь работу, а это кое-что значит. И нельзя знать, как все обернется в конечном счете. Может, дома не захотят прятать меня в тюрьму, если выяснится, что я могу показать дорогу к новой золотой жиле. Одна только загвоздка: поверят ли мне на слово?
– Возможно, и поверят. Просто поразительно, чему только люди готовы поверить!
Барнард с чувством кивнул:
– Рад, что вы схватили суть, Конвэй. И это позволяет нам заключить сделку. Все у нас, конечно, пойдет пополам. А от вас потребуется всего лишь имя на моем отчете – британский консул и так далее. Это придаст весу.
Конвэй рассмеялся:
– Посмотрим. Сначала приготовьте отчет.
Забавы ради он поразмышлял о возможности столь маловероятного развития событий и одновременно порадовался, что у Барнарда нашлось занятие, способное послужить ему немедленным утешением.
Доволен этим был и Верховный Лама, которого Конвэй видел теперь все чаще и чаще. Он приходил к нему поздно вечером и оставался на многие часы, после того как слуги убирали последнюю чашку чаю и уходили спать. Верховный Лама постоянно расспрашивал, как продвигаются дела у его спутников, об их самочувствии, а однажды особо поинтересовался, как протекала их жизнь до Шангри-ла.
Конвэй задумчиво произнес:
– Мэлинсон, наверное, мог бы по-своему преуспеть. Он полон энергии, честолюбив. Что касается двух других… – Он пожал плечами. – Им обоим удобнее остаться здесь, по крайней мере на время.
За зашторенным окном Конвэй уловил легкую вспышку света. Еще во внутреннем дворике по дороге в эту хорошо знакомую теперь комнату он слышал глухое бормотание грома. Сюда никакой звук не проникал, и сквозь тяжелую ткань шторы полыхающие молнии казались всего лишь бледными искрами.
– Да, – услышал Конвэй, – мы как могли постарались, чтобы они чувствовали себя как дома. Мисс Бринклоу хочет обратить нас в истинную веру, да и мистер Барнард тоже хочет нас обратить – в акционерное общество с ограниченной ответственностью. Безобидные проекты. Они помогут им приятно проводить время. Но вот ваш юный друг, которого не могут утешить ни золото, ни религия, как быть с ним?
– Да, с ним возникнет проблема.
– Боюсь, это будет ваша проблема.
– Почему моя?
Ответа не последовало, потому что в этот момент подали чашки с чаем, и с их появлением Верховный Лама едва заметным движением иссохшей руки обозначил переключение на обычный церемониальный разговор за чаепитием.
– В это время года Каракал посылает нам грозы, – заметил он, поворачивая беседу согласно требованиям ритуала. – Люди Голубой Луны считают, будто это ярость демонов, свирепствующих на огромном пространстве по ту сторону перевала. В «запределье», как они выражаются. Вы, вероятно, знаете: этим словом они называют весь мир, лежащий за границами их прикрытой горами долины. Они, разумеется, понятия не имеют о таких странах, как Франция, Англия или даже Индия. Им кажется, что страшное высокогорное плато простирается в бесконечность, а ведь это почти соответствует действительности. Привыкшие к теплу и безветрию, они и мысли не допускают, будто у кого-нибудь может возникнуть желание покинуть долину. И более того, по их представлениям, все несчастные обитатели «запределья» только и мечтают попасть в долину. Вопрос в том, с какой стороны смотришь, не правда ли?
Конвэй вспомнил о таком же примерно замечании Барнарда и привел его дословно.
– Как это разумно! – отозвался Верховный Лама. – И он у нас первый американец, с чем нам поистине повезло.
Конвэй нашел занятным, что ламаистский монастырь считает для себя удачей заполучить человека, которого, сбиваясь с ног, разыскивает полиция дюжины стран. И он захотел было рассказать все об американце, но удержался, подумав: пусть уж Барнард сам поведает свою историю, когда придет время. Он произнес:
– Разумеется, он совершенно прав, и сегодня в мире полно людей, которые были бы весьма рады оказаться здесь.