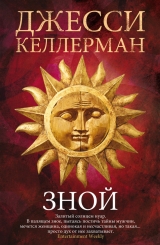
Текст книги "Зной"
Автор книги: Джесси Келлерман
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
И заставила себя забыть, что когда-то он так ее волновал.
Это оказалось не таким уж и сложным делом. Мама позаботилась о том, чтобы у Глории было о чем подумать. Лет в десять Глория начала понимать, что определение понятия «работа», полученное ею дома, куда точнее того, каким довольствуются ее учителя. Она была одной из немногих учениц школы, которым приходилось указывать, что время от времени следует и отдыхать. Однако и получив такое указание, остановиться Глория не могла: Мама не терпела лентяйства.
– Ты думаешь, я встаю в четыре утра потому, что мне нравится вкус росы? – выкрикивала она, расхаживая по их двухкомнатной квартире в Бойл-Хейтс. И останавливалась, чтобы потрясти Хезуса Хулио за плечо: – Думаешь, он мне нравится?
– Мааааамааааа…
– Скажи спасибо, что я не бужу тебя и не заставляю молиться вместе со мной. Ты-товсе утро продрых. Глория, сними с плиты яичницу, пока она не подгорела.
– Si [16]16
Да (исп.).
[Закрыть] …
К этому времени Хезус Хулио уже успевал зарыться под тяжелое шерстяное одеяло.
– Охххрррр! —взревывал он, когда Мама сдирала с него этот покров.
– Вставай, pillito,я тебя уже натаскалась, в школу не понесу.
– Ну тогда я и не пойду, – отвечал Хезус Хулио, радуясь подвернувшейся ему лазейке.
– Я тебя не понесу, – говорила Мама. – Я тебя пинками погоню.
Исполнив этот утренний ритуал, они втроем направлялись к автобусной остановке. Мама махала вслед школьному автобусу рукой, смущая их обоих, – правда, Хезуса Хулио гораздо сильнее.
– Дерьмо… – выдыхал он, усаживаясь на свое место.
– Мама говорит, это слово говорить нельзя.
– И херс ним.
Через несколько секунд он уже болтал с друзьями, а Глория читала, стараясь не прислушиваться к звукам наигранного веселья двух дюжин детей. Домашние задания были уже выполнены, однако Мама вбила в голову дочери мысль, что все написанное необходимо перечитывать, отыскивая ошибки, до последней минуты, что каждое такое чтение будет приносить ей дополнительные очки. По подсчетам Глории, этих очков она с четырех до семнадцати лет набирала на каждом школьном задании около 235.
Жизнь с Мамой обладала своей структурой, отводила особое предназначение каждой эмоции, в том числе и радости. Правила были не столько строгими, сколько самодовлеющими: образующими «пакетное решение». Ты вылезаешь из постели потому, что должна идти в школу. Ты идешь в школу потому, что должна получить домашнее задание, которое даст тебе занятие на вечер. Ты нуждаешься в домашнем задании, потому что дети, которые его не получают – или не выполняют, – кончают как pachucos [17]17
Распространенное в Лос-Анджелесе обозначение мексикано-американских малолетних преступников (исп.).
[Закрыть]. Они сбиваются в банды, пыряют друг друга ножами, чтобы завладеть чужой курткой или деньгами, – а то и вовсе без всякой причины. Прежде чем сделать это, говорила Мама сыну, воткни нож в моесердце.
По уик-эндам ты остаешься в доме. В пятницу вечером заходишь в чулан и тайком зажигаешь свечи, чтобы отметить этот особенный день. А после весь вечер читаешь. Нет, Хезус Хулио, в кино ты не пойдешь.
– Почему?!
Мама шлепает его по щеке и велит сесть. Сует ему в руки книгу, заставляет открыть ее.
– Потому что у нас это не принято, – говорит она.
Глорию Мамины правила устраивали. Ей нравился ритуал, ничего страшного она в нем не видела.
А вот Хезус Хулио воспринимал тиранию Мамы как эквивалент преждевременной смерти. В определенном смысле, общего у него с Мамой было больше, чем у Глории. Оба придавали борьбе за господствующее влияние непомерно большое значение. Мама считала ритуал единственной их защитой от наихудших форм упадка – бедности и презрения к силе разума. Дважды став жертвой мужчины, она решила, что единственные люди, каких ей стоит попытаться наставить на путь истинный, это ее дети.
ТИХУАНА 3 КМ
Глория внутренне подобралась, готовясь к проезду через этот город. Она ненавидела Тихуану, напоминавшую ей обо всем, с чем она и Мама сумели справиться ценой огромных усилий. О слабосилии, распущенности, апатии. Их можно увидеть в растрескавшемся, усыпанном отбросами асфальте здешних улиц. Учуять в запахах, доносящихся из баров, в гниющей штукатурке на стене для игры в хай-алай [18]18
Популярная в Испании и Латинской Америке игра в мяч.
[Закрыть]. Сейчас всего лишь восемь с небольшим утра, но ты уже можешь зайти в любое заведение и заказать целый кувшин обжигающего горло спиртного. Торговец, предлагавший на выбор выкидные ножи, шутихи, «виагру» и «vitaminas»,соскребал грязь с витрины своей лавчонки. Pensiones [19]19
Частный пансион (исп.).
[Закрыть]с накрепко запертыми ставнями содрогались от храпа американцев, упившихся вчера до того, что им и «виагра» не помогла.
Глория увеличила скорость, плюнув на восьмиугольный выцветший знак, приказывавший ей ALTO [20]20
Притормозить (исп.).
[Закрыть], и понеслась по Avenida Revolution [21]21
Бульвар Революции (исп.).
[Закрыть], ощущая лишь малейший намек на приправленную стыдом неприязнь к себе, покачивая головой, чтобы отогнать и сонливость, и мысль о том, что она стала снобом.
Ритуалы Мамы сдерживали Хезуса Хулио лишь до его перехода в полную среднюю школу. К этому времени она, питая смутную, нелепую надежду на поступление сына в колледж, нашла вторую работу. С семи до четырех Мама прибиралась в домах Бель-Эра, а затем с пяти тридцати до одиннадцати мела аллейки находившегося неподалеку от их дома кладбища «Дом Мира». Глория видела ее минут по пятнадцать-двадцать в день, не больше, но ко времени их встречи Мама уставала настолько, что и говорить почти не могла.
Глория с жалостью наблюдала за тем, как Мама ползет вечерами к ванне, и пыталась сделать все, чтобы ее мучения оказались хоть чем-то оправданными. Лезла из кожи вон, стараясь стать одной из первых учениц своей школы.
Брат же использовал Мамино отсутствие, как фомку, позволявшую взломать двери тюрьмы, которой была его юность. Уходил будними вечерами из дома и возвращался, еле держась на ногах. Собрал коллекцию дисков, слишком большую для безденежного пятнадцатилетки. Его приятели, приходя к нему домой, присвистывали, увидев Глорию, гнувшую спину над полученным ею из девятых рук изданием «Человеческого тела» в твердом переплете.
– Эй, chichis! —говорили они. – Дай нам посмотреть на твоечеловеческое тело.
Хезус Хулио только посмеивался. Защитить ее он не пытался – разве что говорил очередному шутнику:
– Дерьмо, я тут недавно хотел отодрать твоюсестру, да в кармане ни цента не было…
Глория не обижалась. Она беспокоилась. Она видела, как брат соскальзывает в выгребную яму, от которой Мама предостерегала его: сквернословит, ведет себя так, точно весу в нем сто восемьдесят, а не сто восемнадцать фунтов. Он попробовал отрастить усики на китайский манер – эксперимент, полный провал которого заставил бессильно кипеть от злости.
– Заткнись! – орал он.
Глория хихикала.
– Уж больно на сыпь похоже.
– Puta! [22]22
Блядь! (исп.)
[Закрыть]– Он двинул ногой по стулу и выскочил из кухни.
Она прикрыла образовавшуюся в плетеном сиденье дырку конвертом от диска и стала ждать возвращения матери.
Разумеется, конверт свалился на пол, как только та вставила ключ в замочную скважину. Впрочем, Мама вернулась слишком уставшей, чтобы заметить дырку.
Весной 1981 года полицейское управление ввело в Восточном Лос-Анджелесе комендантский час. Паренек, бывший не многим старше Хезуса Хулио, открыл стрельбу по патрульным и убил одного из них. Впервые за долгое время Мама вернулась домой рано. Они втроем сидели на кухне, ели манную кашу и слушали радио, пытавшееся перекричать поселившегося в их плите сверчка.
– Дерьмо…
Мама давно уже оставила старания очистить словарь Хезуса Хулио от грязи, а сам он перестал даже и замечать их задолго до этого. Глория попыталась привлечь внимание брата к себе, показать, что она его не одобряет. Она никогдане ругалась, от нее Мама таких слов не потерпела бы – факт, которым Глория гордилась при всем ее презрении к двойной морали.
– Сядь, Хезус Хулио.
Брат метался по кухне, разминая ладонями шею. Глории он показался вдруг рослым, изнывающим от желания придушить кого-то.
– Поверить, на хер, не могу, что мы просто сидимздесь.
– Поверь.
– Мы должны быть там, —простонал он и погрозил кулаком стене.
– Ради чего? – спросила Мама.
– Они не имеют права приказывать нам сидеть дома.
– Мне и дома хорошо, – сказала Мама и прибавила громкость радио.
– Мать твою! —Хезус Хулио с размаху двинул ногой по плите. – Заткнись, на хер!
– Он тебя не послушает, – сказала Мама. – Сверчки не реагируют на гневные вопли.
Хезус Хулио, громко топая, покинул кухню. Глория ждала – что сделает Мама? Встанет и потребует извинений? Скажет что-нибудь о его незрелости? Может быть, даже заплачет?
Мама еще прибавила громкости.
Через шесть дней его не стало.
Походило на то, что Мама понимала, к чему все идет, и уже начала готовиться к неизбежному исходу. После наступления темноты он улизнул из дому, чтобы прошвырнуться с приятелями по улицам; полицейский попытался вручить им уведомление о штрафе; Хезус Хулио обозвал его pendejo loco nigger [23]23
Тупой черномазый пидор (исп.).
[Закрыть]и вытащил нож.
Глория не могла понять, откуда Мама все знала. Возможно, она ошибалась; возможно, Мама все последнее время видела, как Хезус Хулио отдаляется от них. Но тогда почему же она молчала? Почему спокойно смотрела, как плоды ее тяжких трудов сгорают, оставляя после себя лишь холодную пустоту? А может быть, – Глория подозревала, что именно так оно и было, – может быть, она никогда и не воспринимала Хезуса Хулио как свое, родное, – с первого его визга и до последней роковой вспышки гнева.
Порою Глории не удавалось припомнить дату его рождения. Зато дату смерти, 20 апреля, она помнила всегда. И в этом присутствовала своя упрямая логика: только эндшпиль партии, которую он разыгрывал, и позволял понять в нем хоть что-то.
Когда они уходили с его похорон, Мама сказала:
– Я хочу, чтобы ты поступила в колледж.
Глории исполнилось четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. В школе ее осыпали тропическим ливнем контрольных работ и похвальных отзывов. Средняя школа имени Теодора Рузвельта никогда еще не видела никого, похожего на эту густоволосую «чикану», пробегающую по коридорам в юбке ниже колен и остающуюся на большой перемене в классе, наедине с учебниками. Спроси кто-нибудь у ее одноклассников, что они думают о Глории, он услышал бы:
– О ком?
Впрочем, кто-то из них мог бы сказать и так:
– А, вы о la reina de las ranas.
«Королева лягушек» – это потому, что ей нравилось их препарировать. А ее учителю биологии, мистеру Мак-Каутри, нравилась она сама. Мистер Мак-Каутри направлял ее руку, показывал ей миниатюрные органы, между тем как остальные ученики метали скальпели в потолок, открыто курили травку или просто уходили из класса. Глория же вглядывалась, зачарованная, в крошечное сердце, в крошечную печень, в крошечную пару легких. Заполненные красящей жидкостью вены извивались, будто тропинки, ведущие к закопанному где-то кладу. Другие ученики морщились от запаха формальдегида, а то и блевали, она же нагибалась пониже, чтобы разглядеть все, понять, как возникают пульсации жизни. Интерес этот она перенесла и на собственное тело – ночами Глория ощупывала себя, дивясь тому, что кроется под ее кожей.
В одиннадцатом классе мистер Мак-Каутри посоветовал ей подумать о профессии медика.
– Хорошо, – ответила она.
Теперь, задним числом, Глория не сомневалась, что он подразумевал «медсестру» либо «стоматолога-гигиениста», но тогда приняла его слова всерьез. «Доктор Мендес» – ей нравилось, как это звучит. И она решила стать доктором.
Мама одобрила это решение и даже выдавила улыбку, когда Глория влетела в дом, размахивая письмом, которым университет штата Калифорния уведомлял ее, что ей назначена стипендия. Глория поцеловала Маму и вспрыгнула на диван, думая: «Может, теперь наши дела пойдут на лад».
– Чудесно, – сказала Мама.
Глория была взволнована не настолько, чтобы пропустить мимо ушей прозвучавшую в голосе Мамы фальшивую нотку. Похоронную, достигавшую крещендо 20 апреля, когда Мама звонила на работу и сказывалась больной, чтобы провести этот день в сумраке и одиночестве. Достижения дочери не столько радовали Маму, сколько позволяли ей на время забыть о боли, и Глорию это злило. Она опасалась, что вся ее жизнь так и будет состоять из обезболивающих успехов.
В день, когда она впервые отправилась в колледж, Мама проводила ее до остановки автобуса. Глории это показалось нелепым, однако возражать она не стала.
– Надеюсь, – буркнула Мама, – все это чему-то тебя научило.
Все это? Впрочем, Глория поняла, о чем речь. Все этобыло нескончаемой жертвой, требующей нескончаемых вознаграждений. Все этогнало ее из аудитории прямиком в библиотеку, не оставляя времени для футбольных матчей, тусовок, авангардистских постановок «Двенадцатой ночи»; все этобыло инерцией вины. Погибшим мужем, сбежавшим любовником, тысячами миль, миллионами мозолей и деньгами. Деньгами. Деньгами.
– Зачем они тебе?
– Мне нужны учебники, Мама.
– Сходи в библиотеку.
– И нужен рюкзачок.
– У тебя есть рюкзачок.
– Мне нужен такой, с каким меня не будут принимать за бездомную.
– У тебя прекрасный рюкзак, – сказала Мама, – из самой…
– Я знаю. Из швейцарской армии. Знаю.
– Тогда зачем тебе новый?
– Ладно, – сказала Глория. – Бог с ним, с рюкзаком. И все-таки мне нужны…
– Еще что-то?
– Мне нужны двадцать долларов, чтобы записаться на курс оказания скорой помощи.
– Тебе же оплатили учебу, – удивилась Мама.
– Это факультатив.
– Но зачем тебе еще один курс?
– Для записи в дипломе. А кроме того, он поможет мне при поступлении в медицинскую школу.
– И за него берут добавочные деньги?
– Деньги нужны для оплаты преподавателя.
– Я знаю, для чего они нужны. Если не для преподавателя, то зачем же их с тебя брать? А кормить тебя там будут?
Глория притронулась к руке матери, к ее отвисшей коже:
– Давай считать так: это приблизит меня к диплому врача.
– А разве ты не получишь его и без медицинской школы?
– О господи…
Глория не могла понять, как удается энтузиазму, с которым мать относилась к ее учебе в колледже, сочетаться с прижимистостью по части необходимых для этой учебы трат.
– Скажи, на что ты копишь деньги? – сердито спросила она.
– Ну ладно. Сейчас. – Мама вытащила чековую книжку.
– А наличных у тебя нет?
– По-моему совершенно не важно, в каком виде ты получишь деньги.
– Да, ты права, хорошо…
Глория ждала, протянув перед собой ладонь. Однако Мама писать вдруг перестала:
– Нет, если деньги тебе не нужны, я не дам.
– Нужны.
– Даже чеком?
– Чего мне не нужно, так это подачек.
– И ты уверена, что хочешь стать врачом?
– Уверена, – ответила Глория. И она была уверена.
Уверена абсолютно.
Воспоминание о листке бумаги, оторванном по линии перфорации…
…обратилось в стук гравия, бившего в брюхо машины.
После четырех часов пути от Тихуаны нужная Глории дорога вдруг раздвоилась, словно рассеченная кинжалом. То, во что она обратилась, – жалкое, усыпанное щебнем – предвещало езду долгую и до крайности неприятную.
Перед Глорией лежала пустыня Сонора. Мили и мили креозотовых кустов, ферокактусов, голой земли. Под обнажениями каких-то пластов – походившими на кораллы, отчего Глории стало казаться, что она плывет в подводной лодке, – укрывалась от полуденной жары разного рода живность.
Придерживая одной рукой руль, Глория водила пальцем другой по карте. Прокладка маршрута прерывалась быстрыми перескоками пальца к настроечной ручке приемника – она принималась искать новую станцию всякий раз, как на прежней музыка сменялась болтовней. Латиноамериканская попса – преобладают трубы и замысловатые ритмы. В конце концов ей до того надоело слушать поочередно то шипение между станциями, то рекламу на них, что она остановилась на религиозной программе.
Las puertas del infierno tienen un olor dulce!.. [24]24
Врата ада источают сладостный запах (исп.).
[Закрыть]
Глория рассмеялась. Поспорить готова, что так!
Чем дальше она заезжала, тем хуже становилась дорога, словно ведшая в прошлое, в эпоху куда менее цивилизованную. Природа, на протяжении сотен миль остававшаяся прирученной, воспрянула здесь, полная мстительных чувств, и вознамерилась вернуть дорогу себе, засевая ее сорной травой и усеивая высохшими стеблями. Земля, точно стремясь воплотить пылкие речи проповедника, выдыхала раскаленные адские пары, колебавшие воздух, погружавшие в трепет весь мир.
Внезапно из марева выскочило доказательство того, что человек здесь все-таки обитает: деревянный дорожный указатель, выцветший почти до нечитаемости, уведомил Глорию, что через 12 км она сможет получить GASOLINA [25]25
Бензин (исп.).
[Закрыть]. Не помешало бы. Последний раз она заправлялась в часе езды от Тихуаны, и теперь стрелка индикатора уже окунулась в красную зону.
Заправочная станция подтвердила сложившееся у Глории впечатление: она ехала в машине времени.
Лишенные каких-либо надписей насосы времен Эйзенхауэра, в которые бензин попадал из стоявшего на высоком помосте большого топливного бака под действием всего лишь земного притяжения, улыбались Глории, приветствуя ее поднятыми вверх штуцерами резиновых труб. Зеленые и коричневые пятна автомобильных жидкостей затянули землю камуфляжной тканью. Имелся здесь и неопрятный тесный продуктовый магазинчик с излохмаченными рекламными листками, приклеенными изнутри к его чумазым стеклам. За задней стеной лавки возвышались, привалившись к ископаемому грузовику-тягачу, штабеля полусгнивших покрышек.
Внутри магазинчика никого не было. Глория обошла его и увидела уборную, дверь которой оказалась запертой изнутри.
– Momento, —донеслось из-за двери.
Она вернулась к машине. Через пять минут появился, улыбаясь и извиняясь по-испански: perdon [26]26
Извините (исп.).
[Закрыть] , Señora, perdon… —мальчишка в узких джинсах и бейсболке. За его башмаком волокся по земле обрывок туалетной бумаги. Ни о чем не спросив, он сцапал один из штуцеров и начал наполнять бак машины.
– Я бы и сама это сделала, – по-испански сказала Глория, – да не поняла, как включить насос.
– А вот эту кнопочку надо было нажать, – объяснил он. – Насос старый, никто, кроме меня, не знает, как с ним обращаться.
Глория улыбнулась. Сопляк совсем, а разговаривает, как старый брюзга. «Нынче никто ничего не знает, чертовы молокососы…» Она прислонилась к водительской дверце, окинула взглядом дорогу. По ее прикидкам, ехать ей осталось еще полчаса, не больше.
– Ты из Агуас-Вивас? – спросила она.
Мальчишка удивленно приподнял брови:
– Нет, сеньора.
– А знаешь, где это?
– Конечно.
– Ну да, ты же в этих краях живешь.
– В Чарронесе.
– Это далеко отсюда?
– Недалеко, – ответил он. – Шестьдесят пять километров.
Она кивнула, обернулась, чтобы еще раз взглянуть на дорогу.
– Вы тут никого из Агуас-Вивас не найдете, – сказал мальчишка. Он покончил с заправкой, повесил штуцер на крючок. – Подождите, я вам сейчас чек принесу.
И улетел, подняв облако пыли. Туалетная бумага так от его башмака и не отлипла.
Войдя в магазинчик, Глория увидела, как он молотит, точно пианист-вундеркинд, по клавишам огромного ржавого кассового аппарата.
– Можете долларами заплатить, если хотите, – сказал он. И угодливо улыбнулся: – Это ничего. Это разрешается.
Должно быть, номер на машине увидел. Или ее выговор настолько плох, что выдавать себя за свою ей в этих местах больше не удастся? Глории казалось невозможным, что ее могут принять не за мексиканку, а за кого-то еще. Она же родом отсюда.
В генеалогическом смысле.
Однако она была американкой. Всегда была американкой.
– Что значит – никого не найду? – спросила она.
И, достав бумажник, отдала мальчишке двадцатку.
– Да там просто никого, – ответил он.
– А куда же все подевались? – удивилась Глория.
Он протянул ей комок песо и сообщил:
– Перемерли.
Глория уронила сдачу в сумочку и последовала за мальчиком, выбежавшим, чтобы открыть перед ней дверцу машины.
– Перемерли? – спросила она, застегивая ремень.
Мальчик кивнул, захлопнул дверцу и помчался к магазинчику с его прохладой. Туалетная бумага оторвалась наконец, и ветер понес ее, скручивая, в слепое небо.
Глава шестая
Городок оказался таким маленьким, что Глория чуть было не проскочила его; он возник из облака пыли, как внезапный выброс сигнала на ровной осциллограмме пейзажа.
Удивительно, но жилых домов в городке, похоже, не было. Вдоль дороги образовалось с каждой ее стороны по цепочке обветшалых магазинчиков, за ними потянулись навесы и сараи, а дальше опять началась пустыня. Ни тротуаров, ни пешеходов, ни машин, ни деревьев, ни уличных фонарей, ни знаков остановки. Ни перекрестков. Ни признаков человеческой жизни. Только сложенный из строений унылый сэндвич, а следом – пустота.
Окна и двери всех магазинчиков за вычетом нескольких были заколочены досками. Глория миновала прачечную (закрыта), скобяную лавку (закрыта), универмаг с кричаще-розовым фронтоном (открыт!). Большой козырек над входом в кинотеатр треснул и ощетинился разбитыми лампочками. Из трехфутового неонового слова CINE [27]27
Кино (исп.).
[Закрыть]выпала Е, оставив CIN и зияющую прореху в бледно-синее небо. Глория остановила машину у лавочки неопределенного назначения и вышла, надеясь отыскать свидетельство того, что оказалась именно там, куда ехала. И нашла его, шелушащееся, в витрине этой самой лавочки.
Н. КАРАВАХАЛЬ
НАДГРОБНЫЕ КАМНИ
АГУАС-ВИВАС
Витрина исполняла роль портфолио – в ней были вывешены поляроидные фотографии сотен надгробий. Ее хозяин явно гордился своей работой, фотографии он с любовным тщанием наклеил на серый рекламный щит и даже пыль с них стирал. Еще один такой же щит демонстрировал одно-единственное надгробие, проходившее различные стадии изготовления: не отшлифованное, первая встреча с резцом – и так далее, вплоть до конечного продукта, посвященного памяти ХУАНИТЫ РУИС, 1933–1981.
Витринный коллаж содержал и выражения признательности со стороны удовлетворенных клиентов – благодарности, начертанные на обороте закапанных слезами рецептов и листков из блокнота.
Величайшее вам спасибо от семьи Паррас.
Прекрасный могильный камень очень меня утешил.
Надеюсь, вам удастся вырезать и для меня такое же надгробие, какое получила моя жена.
Е. Альварес.
Глории все это показалось и жутковатым, и трогательным. И ненужным. Кому они интересны, такие картинки? Надгробие приобретается лишь при необходимости, и вряд ли люди заглядывают в мастерскую каменотеса, чтобы ознакомиться с образцами.
Ответ попался ей на глаза почти сразу: бок о бок с этоймастерской каменотеса стояла еще одна мастерская каменотеса. Ее владелец также изукрасил своювитрину, что свидетельствовало о яростном соперничестве. Второй каменотес, Г. Лопец-Каравахаль, похоже, побеждал. Надписи в его витрине были покрикливее и покрупнее, рекомендации клиентов – аккуратно отпечатанные – насчитывались десятками, а кроме них он выставил уйму увеличенных фотографий, показывавших самые миниатюрные детали его творений. Эта витрина, казалось, насмехалась над соседской.
Под размашисто выведенным золотой краской именем сеньора Лопец-Каравахаля стояло следующее:
ЛУЧШИЙ ГДЕ УГОДНО, НО ОСОБЕННО В АГУАС-ВИВАС
Жестокая конкуренция. Глория криво улыбнулась и провела пальцами по обжигающе горячей витрине.
Зачем такому маленькому городку сразу два мастера надгробий?
Ветер ударил в Глорию, точно струя пескодувки. Нужно попить и найти какую-нибудь тень. Судя по всему, опасность нарваться на штраф за парковку в неположенном месте ей здесь не грозит, поэтому она оставила «додж» на улице и направилась к универсальному магазину.
И увидела посреди улицы загрунтованный фанерный щит со сделанной от руки надписью. Щит был до того издырявлен пулями, что прочесть надпись Глории удалось лишь ценою серьезных усилий.
ПО РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА НОШЕНИЕ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ В ПРЕДЕЛАХ ГОРОДА ЗАПРЕЩЕНО
Сетчатая дверь универмага ударилась, когда Глория вошла, о прилавок; место их встречи поблескивало размозженным деревом – такие удары прилавок получал уже множество раз. Глория пробормотала извинение, обращенное неизвестно к кому, заглянула в оба прохода между стеллажами. Консервы, фонарики, батарейки, сомнительной крепости нейлоновые пончо. Завернутые в прозрачную пленку, вдавленные одна в другую тортильи; на пленке висят изнутри бусинки воды. Глория подняла одну такую упаковку повыше и поежилась: нижнюю тортилью покрыла плесень. Солнечный свет, проникавший сквозь давно заевшие жалюзи, отбрасывал веерные тени на удрученные чем-то пакетики риса.
На картонной карточке, прилепленной клейкой лентой к кассовому аппарату, значилось:
Глория постучала по прилавку За уложенными один на другой пустыми ящиками приотворилась еще одна сетчатая дверь. Из нее вышел, приволакивая босые ноги, понурый дряхлый старик:
– Да?
– Мне бы попить чего-нибудь, – сказала Глория.
Старик прошаркал за прилавок, извлек из-под него тонкую бутылку с жидкостью цвета жженого сахара и пустил ее скользить по прилавку к Глории, отправив вдогон изображающую чихуахуа открывалку. Глория поднесла бутылку к губам, однако исходящее от жидкости нездоровое зловоние заставило ее остановиться.
– Это «кока»?
– Нет, сеньора. Это питье изготовлено по здешнему домашнему рецепту.
Глория еще раз принюхалась, с расстояния, и отвела бутылку подальше от себя.
– Так что это?
– Raiz del fango.
Грязевой корень. О таком она ни разу не слышала, однако запах жидкости подтверждал правильность ее названия. Глория поставила бутылку на прилавок и спросила, не найдется ли чего-нибудь другого.
– Этого не хотите?
– Нет, спасибо.
Старик помрачнел:
– Но я уже открыл ее, сеньора.
– Ничего, я заплачу. Пожалуйста, дайте мне что-нибудь другое.
С секунду он смотрел на Глорию, словно ошеломленный услышанным, затем взял бутылку и выдул сразу половину ее содержимого. А затем сказал:
– Не пропадать же добру.
– Ни в коем случае, – согласилась Глория.
– Такое могут пить только настоящие мексиканцы.
– Я не мексиканка, – возразила она.
Он улыбнулся:
– Я вижу.
– Есть у вас какая-нибудь вода? – спросила Глория.
Старик прошаркал к другому концу прилавка, поглядывая на нее так, точно ждал, что она перепрыгнет на его сторону и проломит ему голову. Вернулся он с бутылкой, на этикетке которой красовалась торговая марка, Глории неведомая. Под маркой стояло: embotellada en Mexico [29]29
Разлито в Мексике (исп.).
[Закрыть]. Какой смысл разливать по бутылкам водопроводную воду?
Однако пить ей хотелось так сильно, что спорить она не стала, а просто отвинтила крышечку бутылки и сделала долгий глоток. Ей показалось, что горло ее покрылось влажным мхом. Господи, ну и пересохло же в нем… Еще глоток, в два раза больший, и половины литра воды как не бывало. Глотнув теперь уже воздуха, Глория повернулась к старому прохвосту и увидела, что он внимательно наблюдает за ней.
– Жажда, – сказал старик. Насмешки в его тоне не было, скорее изумление: женщина, а столько выдуть может.
– С самого утра за рулем, – сказала Глория. – Сколько сейчас времени?
Старик ткнул большим пальцем в полку за своей спиной – там между коробкой сигар и мягкой, уже лопнувшей по швам игрушкой, пучеглазым кактусом, стояли часы. В каком временном поясе она находится, Глория не знала, однако, по ее оценкам, в пути она провела часов десять.
– Добро пожаловать в Агуас-Вивас. Кто умер?
Глория вытаращила глаза.
– Кто-тоже должен был умереть, – сказал старик. – Иначе вы бы сюда не приехали.
– Я ищу полицейский участок, – сказала Глория.
– Полицейский участок чего? – спросил он.
– Агуас-Вивас.
– М-м, – промычал он.
Она ждала вопроса о том, какое у нее дело, однако старик молчал.
– Я возьму еще одну, – она подняла перед собой пустую бутылку.
– Первая уже обошлась вам в тридцать песо. – Он облизал губы и тоже поднял свою, полупустую, бутылку домашнего снадобья. – Да эта в двадцать пять.
Глория расплатилась, старик снова убрел к другому концу прилавка и там нагнулся, постанывая. На штанах его, сзади, обнаружилось пятно.
– Вы можете сказать мне, где находится полицейский участок? – спросила она, склонившись над прилавком и глядя, как он летаргически сдирает целлофан с упаковки бутылок питьевой воды.
– Что? – Старик возвратился к Глории с бутылкой в руке. – Что вы сказали?
– Полицейский участок.
– Да, конечно, минуточку.
Он обогнул, приволакивая ноги, прилавок.
– Все так спешат, так спешат… – сказал он, на ходу вручая ей бутылку. И, приоткрыв входную дверь, указал через улицу: – Вон там.
– Это же кинотеатр.
Старик молчал, стоя, точно изваяние, с протянутой вперед рукой.
– Ладно, – сказала Глория. Она пошла через улицу, обернулась на полпути.
– Идите! – велел старик.
Пустую кассу кинотеатра затянула паутина. На пластмассовой доске объявлений не указывались ни расписание сеансов, ни цены, на ней значилось: POLICIA. Глория снова обернулась, показала старику большой палец. Он помахал ей рукой и скрылся в магазине.
В фойе кинотеатра было темно; Глория нашла за колонной выключатель, щелкнула им. Лампы дневного света вспыхнули, залив резким светом это похоронного облика помещение. Лишенные афиш рамы притягивали к себе внимание одной лишь своей пустотой. От ярко-синего коврового покрытия остались убогие лохмотья, едва-едва прикрывавшие усеянный пятнами высохшего клея бетон. Торговый киоск обвалился вовнутрь себя.
Обычной для кинотеатров праздничной атмосферой тут и не пахло. Ни тебе билетеров в галстуках-бабочках. Ни веселых парочек, разделяющихся, чтобы посетить уборные. В стены фойе навеки въелся запах жженого сахара и повидла.
Зрительный зальчик с пятью рядами по шесть кресел в каждом был темен и прохладен. Когда-то в нем имелась настоящая сцена; потом к тянувшейся над просцениумом планке прибили средних размеров экран – жутковато пустой сейчас и, казалось, светившийся сам собой, – и получился кинотеатр. Под экраном стоял деревянный стол и жесткий стул. Накрытая зеленым абажуром лампа отбрасывала лунный круг на грязноватый блокнот. Глория, у которой возникло чувство, что она попала прямиком в сценическую декорацию, направилась к столу, издали огибая его по кругу, боясь, что, если ненароком коснется его, стол попросту исчезнет. Все это походило на испытательный полигон, который позволяет комитету, подбирающему служащих для какой-то компании, наблюдать за поведением ее потенциальных сотрудников.
Глория вспомнила, как гуляла с Реджи по пляжу под Окснардом – в самом начале их общей жизни, когда они еще совершали прогулки, – и вдруг обнаружила у самого края воды купавшуюся в солнечном свете хромированную кровать, самую настоящую, с матрасом и простыней. На несколько миль вокруг не было видно ни души, и тем не менее идиотская кровать торчала у океана, и волны прилива лизали ее ножки, отчего те уходили все глубже в песок.
Реджи, окинув взглядом ближайшие свайные дома, сказал: «Да, похоже, кого-то тут прошлой ночью бомбили».
Ее такое объяснение не устроило. Чтобы перетащить сюда такую тяжеленную штуку и с больничной опрятностью застелить ее, требовались сосредоточенные усилия, трезвыеусилия, далеко не одного человека. Студенческими шуточками тут и не пахло, кто-то всерьез хотел, чтобы кровать стояла именно здесь. Но почему? —вот вопрос, который задел ее за живое. Ей страх как захотелось узнать всю историю этой кровати. И она начала придумывать объяснения – одно, затем другое, затем третье… Пыталась воссоздать полную картину: сначала кровать стоит в доме, потом на песке – начало, середина, конец. Реджи высмеивал каждое ее предположение.








