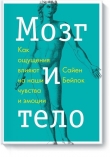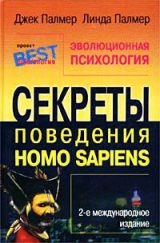
Текст книги "Эволюционная психология. Секреты поведения Homo sapiens"
Автор книги: Джек Палмер
Соавторы: Линда Палмер
Жанры:
Психология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 31 страниц)
Оценка когнитивной способности гоминидов.
Уинн (Wynn, 1979, 1981) утверждает, что когнитивный уровень пользователей олдовайских орудий отличается от уровня более позднего ашельского периода. Уинн полагает, что орудия, произведенные олдовайской культурой, могли быть получены с помощью процесса проб и ошибок, и их создание требовало только того, чтобы у нашего предка имелось внутреннее представление типа задачи, для которого предназначалось орудие. Это помещает пользователей олдовайскими орудиями на преоперациональныи интеллектуальный уровень в системе когнитивного развития, разработанной Жаном Пиаже. Пиаже писал, что дети в возрасте от двух до семи лет обладают преоперациональным интеллектом, в том смысле, что они могут пользоваться символами, думать и использовать речь, но не рассуждают логически. Уинн считает, что каменные орудия ашельского периода из Исмилы, Танзания, которые датируются временем примерно в 300 тыс. лет, указывают на операциональный уровень интеллекта. Он основывает этот взгляд главным образом на двустороннем рубиле. Зеркальная симметрия, присущая этому объекту, должна предвидеться до его создания, с тем чтобы заранее устранить возможные ошибки. Пиаже доказывал, что симметрия никогда не воспринимается пассивно, а должна активно конструироваться посредством такого операционального отношения, как обратимость. Поскольку зеркальная симметрия является результатом изменения формы на обратную вдоль средней линии, способность выполнить подобную задачу достигается не ранее операциональной стадии, так как она требует одновременного представления формы и ее противоположности. Аргумент Уинна валиден, если считать, что каждый каменный артефакт является изолированным изобретением создателя. Однако это определенно не так. Культурная практика может проходить процесс избирательного формирования, подобно тому как частотности генов подвергаются процессу естественного отбора. Известно, что традиции изготовления каменных орудий были частью культуры, или предкультуры, гоминид в течение по меньшей мере 2 миллионов лет до создания позднеашельского рубила. Это составляет огромный период времени, обеспечивающий протекание культурной эволюции. Вероятно, что в течение такого промежутка времени симметричные артефакты могли быть созданы благодаря всего лишь случаю, и если они устраивали пользователей, по крайней мере некоторые компоненты процедуры, посредством которой они изготавливались, могли быть включены в передаваемые традиции мастеров-изготовителей. Со временем все компоненты производства совершенно симметричных каменных орудий могли быть включены в традицию племени. Ашельский мастер мог обладать способностью мысленно представлять симметрию рубила до его изготовления не в большей степени, чем современный физик способен представить искривление времени и пространства.
Эстетическая манипуляция.
В отличие от утилитарной технологии, которая развивалась на протяжении миллионов лет, согласующиеся, надежные свидетельства об эстетической манипуляции, связанной с искусством, появляются не ранее относительно недавнего времени – 30–50 тыс. лет назад. Кроме того, в отличие от утилитарной технологии, искусство, по-видимому, было с самого начала почти полностью сложившимся в своем развитии. Утилитарная технология, которая была доступна во время пика Ледникового периода, сильно отличается от технологии XX–XXI веков н. э., а пещерная живопись, созданная в то время, столь же экспрессивна, как и современное искусство.
Искусство плейстоцена.
Наше эстетическое чувство может быть всего лишь утонченным вариантом гештальт-восприятия, которое мы разделяем со многими другими видами. В зависимости от своих конкретных адаптации различные виды проявляют специфические предпочтения в отношении своей сенсорной среды. Одни предпочитают густую листву, другие – открытые саванны; некоторые чувствуют себя хорошо на ярком солнце, другим комфортно только в самое темное время суток. У каждого вида определенные сенсорные переживания вызывают отвращающие реакции, а другие переживания – ощущение комфорта и удовольствия. Когда у наших далеких предков формировались способности изготовления орудий, происходило сопутствующее совершенствование перцептивного суждения. Момент, в который это перцептивное суждение превращается, на наш взгляд, в эстетическое чувство, чисто произвольный. Рубила, произведенные от 500 до 100 тыс. лет назад, свидетельствуют об определенном движении в сторону все большей и большей симметрии и красоты (Schick & Toth, 1993). Конечно, можно возразить, что все большая красота этих орудий являлась всего лишь случайным побочным продуктом их возрастающей эффективности.
Однако стоянка в Юго-Восточной Англии, датируемая временем примерно 200 тыс. лет назад, свидетельствует о появлении подлинного эстетического чувства (Oakley, 1981). На этой стоянке было найдено рубило, явно сознательно сформированное вокруг окаменевших останков морского ежа, вкрапленных в кусок кремня. Кроме этого каменного орудия с естественным украшением, были обнаружены куски кремнистого сланца, содержавшие остатки кораллов, которые были перенесены на другую стоянку, находившуюся примерно в 200 километрах от первой. Фрагменты кораллов были сознательно покрыты красной охрой, железосодержащим минералом, который с далекого прошлого используется в косметических целях, в частности при ритуальном раскрашивании тела. Имеются определенные данные, что сообщества Homo erectus в Африке могли собирать красные минералы для подобных целей уже 1,6 миллиона лет назад.
Одним из древнейших неутилитарных объектов (неутилитарных в том смысле, что они прямо не способствуют выживанию) является костяная флейта, найденная в Северной Европе и датируемая возрастом в 43–82 тыс. лет (Wong, 1997). Эта флейта имеет отношение к сообществам неандертальцев, которые населяли этот регион в то время. Она примечательна потому, что, как правило, не находят никаких артефактов искусства, связанных с неандертальцами. Хотя теория музыкальной гаммы будет разработана не ранее 600 г. до н. э. в Вавилоне, эта неандертальская флейта, возможно, была способна брать четыре ноты из гаммы. Было найдено лишь несколько других примеров произведений неандертальского искусства. Например, зуб мамонта, который был превращен в декоративный амулет, датирован возрастом примерно в 100 тыс. лет (Schwarcz & Skoflek, 1982). В отличие от людей современного типа, которые придут им на смену, неандертальцы, по-видимому, создавали произведения искусства на индивидуальной основе. Современный человек включил искусство в устойчивые социальные традиции и ритуалы.
Люди современного типа, жившие в Восточной Европе около 27 тыс. лет назад, создали первые керамические объекты из глины, обоженные в печи (Klima, 1990). Многие из этих глиняных фигурок имели форму людей и животных, и есть данные, что их часто специально разбивали в ритуальных целях (Vandiver et al., 1989). Одной из характерных категорий образов, созданных людьми, жившими в то время в Восточной Европе, являются статуэтки женщин. Эти статуэтки вырезались из такого материала, как слоновая кость, известняк и шпат, в дополнение к керамическим фигуркам, которые обжигали в печи. Эти статуэтки обычно показывают очень развитые женские формы с крайне большими грудями, ягодицами и животом. По-видимому, они изображали молодых женщин, имевших большой запас жировой ткани или находившихся на продвинутой стадии беременности. Голени внизу заострены при отсутствии ступней, а лица изображаются очень редко. Классический образец статуэтки этого типа, найденный в нижней Австрии и датируемый временем около 26 тыс. лет назад, получил название Венеры из Виллендорфа. Статуэтки небольшие и переносные, и большинство теоретиков полагают, что они связаны с аспектами беременности и плодородия. Гипотеза, согласно которой эти объекты использовались либо для облегчения беременности, либо для успешного продолжения беременности и родов, подтверждается данными, собранными на стоянке на территории России, которая датируется временем 26 тыс. лет назад (Gvozdover, 1987). Эта стоянка дала большинство подобных женских статуэток, найденных в мире. Они вырезаны из бивня мамонта и изображают женщин на последних стадиях беременности и деторождения.
Когда в 1879 г. в Альтамире, Северная Испания, были обнаружены пещерные рисунки, ученые того времени их отвергли, приняв за современные подделки. Рисунки на потолке пещеры изображали бизона, лошадей и других животных, окрашенных в красный, желтый и черный цвета (рис. 9.2). Художник использовал естественные выпуклости и углубления в скале, чтобы придать изображенным животным очень реалистичное трехмерное качество. Изящество и утонченность этого произведения искусства не соответствовали представлениям, которые сложились у европейских ученых в отношении художественных возможностей доисторических людей. Изображения из Альтамиры были признаны лишь на рубеже следующего века, после того как во Франции и Испании было найдено множество других стоянок Ледникового периода с произведениями пещерного искусства (Leakey, 1981). Пещерная живопись начала появляться около 35 тыс. лет назад и сохранялась до конца Ледникового периода, завершившегося примерно 10 тыс. лет назад. В течение этого периода в 25 тыс. лет общий паттерн произведений искусства отличался поразительной устойчивостью. Эта общая схожесть в произведениях искусства сохранялась на огромном географическом пространстве, охватывающем значительную часть Европы, хотя большинство стоянок обнаружено во Франции и Северной Испании. Хотя в этот период художественные стили оставались очень устойчивыми, в индустрии орудий происходили последовательные и важные изменения. Постоянство художественных форм на протяжении столь длительного периода времени свидетельствует о том, что они являлись частью ритуальной традиции, которая имела большое значение.

Рис. 9.2. Наскальный рисунок из Альтамиры, пещеры бизона в Испании (Опубликовано с разрешения American Museum of Natural History.)
Наиболее распространенными объектами, изображенными на палеолитических рисунках, являются животные, но имеются также многочисленные абстрактные элементы в виде точек, линий, квадратов и других символических образов. Среди животных чаще всего изображали лошадь, бизона и быка. Отсутствует прямая связь между охотой на нарисованных животных и частотой их изображения. Например, кости оленя составляют до 98 % останков животных, найденных на этих стоянках, однако это животное почти совсем не представлено на пещерных рисунках. На одном из самых древних рисунков в пещере Коскер, который датируется временем более чем в 30 тыс. лет, изображены животные, охотиться на которых было очень опасно, такие как пещерные медведи, львы и шерстистые носороги (Chauvet, Deschamps & Hillaire, 1996). Можно предположить, что эти опасные животные символизируют силу и мощь, но мы никогда не узнаем в точности, как воспринимали эти рисунки их творцы и зрители, для которых они создавались. Однако мы можем получить определенное представление об общих истоках этого очень необычного паттерна поведения – создания произведений искусства.
Адаптивное значение искусства.
Как было указано в начале этой главы, имеет место кажущийся парадокс, связанный с объяснением искусства как продукта естественного отбора. Цель искусства – выразить нечто вечное и субъективное в виде того или иного конкретного изображения, которое может быть воспринято и, возможно, оценено другими людьми. Созданные произведения искусства не утилитарны и прямо не способствуют выживанию. Перед эволюционной психологией встает следующий вопрос: как искусство косвенно способствовало выживанию и репродуктивному успеху? Эллен Диссаниейк (Dissanayake, 1989,1992) доказывает, что адаптивное значение искусства связано с его способностью сплачивать общество в единое целое в качестве средства, которое повышает потенциал выживания для индивидуумов, живущих внутри этих групп. Рассматривая искусство с кросс-культурной и эволюционной точек зрения, она заключает, что искусство базируется на наследуемой людьми универсальной склонности делать особенными некоторые объекты и виды деятельности. Согласно Диссаниейк, выражение «делать особенными» относится к наблюдению, показывающему, что люди, в отличие от других видов, намеренно формируют, украшают и как-то иначе выделяют аспекты своего мира, с тем чтобы придать им неординарность. Диссаниейк высказывает следующие соображения:
«Каждый из видов искусства можно рассматривать как ординарное поведение, которое сделали особенным (или экстраординарным). Это легко увидеть в танце, поэзии и пении. В танце ординарные телесные движения, совершаемые в повседневной жизни, преувеличивают, копируют, приукрашивают, повторяют – делают особенными. В поэзии обычные синтаксические и семантические аспекты повседневной разговорной речи копируют (посредством ритмичного метра, рифмы, аллитерации и ассонанса), инвертируют, преувеличивают (используя специальную лексику и необычные метафорические аллегории) и повторяют (например, в рефренах) – делают особенными. В пении просодические (интонационные и эмоциональные) аспекты повседневной речи – повышения и понижения высоты звука, паузы или остановки, ударения или акценты, усиления и ослабления динамики, ускорения и замедления темпа – преувеличивают (удлиняют и выделяют как-то иначе), копируют, повторяют, изменяют и т. д. – делают особенными. В изобразительном искусстве ординарные объекты, такие как человеческое тело, естественное окружение и обычные артефакты, делают особенными путем культурного формирования и совершенствования, придавая им неординарность. (Cooke & Turner, 1999, p. 30)»
Диссаниейк подмечает тесную связь искусства с двумя другими моделями поведения, которые прямо не способствуют выживанию и репродуктивному успеху, а именно: с игрой и ритуалом. Однако и игра, и ритуал имеют вполне реальное адаптивное значение. Когда люди и представители других видов участвуют в игре, они оттачивают навыки выживания в защищенной, лишенной последствий среде, с тем чтобы позднее эти навыки могли быть перенесены и включены в реальные сценарии. Цель ритуального поведения – формализация, стилизация и гиперболизация обычного поведения, а также придание ему особой коммуникативной функции с целью облегчения и улучшения социальных интеракций. Например, одной из функций ритуального поведения является минимизация агрессивных столкновений, к которым может приводить неправильное социальное восприятие. Следует помнить, что во всех этих моделях поведения – искусстве, игре и ритуале – непосредственным стимулом для их проявления является самоподкрепление или связанное с ними удовольствие, тогда как конечная причина имеет отношение к повышению вероятности репродуктивного успеха индивидуумов. Дети участвуют в игре не потому, что знают, что они развивают навыки, которые пригодятся им во взрослой жизни, а скорее потому, что игра доставляет удовольствие. Диссаниейк полагает, что склонность к игре и ритуальному поведению, которую наши предки разделяли с другими видами приматов, заложила основу для эволюции нового адаптивного поведения – искусства. Одной из базовых стратегий выживания, выбранной нашими предками-гоминидами, было обеспечение контроля над средой. Частично об этом свидетельствует многовековая история инструментальной деятельности. Те же самые навыки, которые были выработаны для изготовления орудий труда, могли применяться для украшения особыми символами этих орудий, а также тел их пользователей.
Искусство в его наиболее ранней форме было всего лишь выражением индивидуальных творческих способностей. Оно прямо способствовало приспособляемости, делая индивидуума более привлекательным для возможных брачных партнеров, и косвенно – посредством повышения социального статуса. Новшества в технике украшения тела и использование языка были самыми первыми предшественниками изобразительного искусства, танца и поэзии. Как было указано в главах 4 и 5, в нашем виде, вероятно, имел место процесс спонтанного полового отбора (runaway sexual selection) творческого поведения и языка.
Использование творческих новшеств, с тем чтобы показать себя в более выгодном свете и разрешить проблемы, – филогенетически древняя черта, которая, вероятно, присутствовала у общих предков людей и шимпанзе. Джейн Гудолл (Goodall, 1971) однажды заметила, как самец шимпанзе повысил свой статус, «изобретя» прием, состоявший в том, что он ударял друг о друга пустые канистры из-под керосина, производя устрашающий шум. Новаторское решение проблем, которое Вольфганг Келер (Коhler, 1976) наблюдал у шимпанзе и которое он назвал научением путем инсайта, также представляет собой форму выражения творческих способностей. Хотя новшества в этих примерах давали утилитарную выгоду, черта, отделяющая этот вид творчества от подлинной художественной экспрессии, очень тонка. У примитивных народов создание визуальных образов, специальные объекты и модели поведения часто служат практической цели контролирования определенных аспектов среды посредством магии.
Когда наши древние предки создавали в целях магического контроля специальные объекты, такие как талисманы, которые, как ожидалось, должны повлиять на среду, эти объекты неизбежно производили сильный психологический эффект. Социальная власть, которая была у шаманов, осуществлявших контроль над магическими объектами и ритуалами, без сомнений, обеспечивала этим индивидуумам больший репродуктивный успех. Однако большего репродуктивного успеха добивались далеко не одни индивидуальные носители сверхъестественной силы (рис. 9.3). В выигрыше оказывался каждый член группы. Особые ритуалы были призваны сплотить членов группы и эффективно организовать их деятельность, направленную на достижение желаемых целей, таких как успех на охоте или удача в войне с другими племенами. Кроме придания группам большей сплоченности и повышения эффективности их действий, искусство и церемонии делали групповое знание более впечатляющим и тем самым более акцентированным и запоминающимся, помогая сохранять жизненно важную информацию на протяжении многих поколений.

Рис. 9.3. «Колдун» из пещеры Де Труа Фрер (Трех братьев) во французских Пиренеях, датируемый временем 16 тыс. лет назад
(Опубликовано с разрешения American Museum of Natural History.)
Нэнси Эйкен (Aiken, 1998) изучила эстетическую реакцию как часть нашей эволюционирующей психологии. На эстетическую реакцию частично влияет научение, но она также подвержена влиянию врожденного набора инициированных реакций.
Определенные конфигурации линий, формы, цвета и звука в произведениях искусства вызывают у наблюдателей эмоциональные реакции. Это происходит не только в силу ассоциаций с этими конфигурациями, усвоенными наблюдателем, но и в силу безусловных рефлексов. То есть каждая конфигурация – это стимул, который при адекватных условиях запускает у наблюдателя нервный механизм, который, в свою очередь, заставляет наблюдателя совершать определенное действие. В случае наблюдателей произведений искусства действие состоит в изменениях автономной нервной системы, которые описываются наблюдателями как эмоциональные или эстетические реакции (р. 29).
Некоторые инициирующие стимулы – такие как открытые ландшафты наподобие саванн – вызывают приятные подкрепляющие реакции. Другие инициирующие стимулы продуцируют отвращающие или оборонительные реакции. Например, пятна-глазки, выделяемые, когда они контрастируют с кривыми линиями, и красный цвет являются потенциально отвращающими раздражителями. Эти неприятные или угрожающие стимулы становятся подкрепляющими, когда предъявляются в форме искусства, поскольку они представлены в контролируемых, неопасных контекстах.
Когда нервные структуры, которые обрабатывают эти инициирующие стимулы, спонтанно активизируются, базовые визуальные компоненты этих инициаторов ощущаются как галлюцинации (Aiken, 1998). Эти внезапно появляющиеся визуальные паттерны состоят из решеток, точек, спиралей, зигзагов, кругов и кривых линий и называются энтоптическими (относящимися к «внутреннему зрению») феноменами или фосфенами. О подобных образах повсеместно сообщают люди, которые находились в измененном состоянии сознания, независимо от того, было ли это состояние вызвано психотропными наркотиками, жаром, голодом, бессонницей, патологией мозга или его электрической стимуляцией. Современные шаманистские сообщества, такие как народ сан в пустыне Калахари, воссоздают эти образы в своем наскальном искусстве (Lewis-Williams & Dowson, 1988), а в палеолитическом пещерном искусстве эти паттерны появляются среди изображений животных (рис. 9.4). Паттерны фосфенов также присутствуют в рисунках детей и в определенной степени даже в рисунках, выполненных человекообразными обезьянами. Универсальность энтоптических образов обусловлена общей нервной архитектурой мозга высших приматов. Обратите внимание на богатство энтоптических образов, представленных на рис. 9.5, – композиции черной тушью, выполненной 12-летней американской девочкой.

Рис. 9.4. Энтоптические образы, присутствующие в рисунках современных детей, современных охотников и собирателей, палеолитических людей, человекообразных обезьян и людей в измененных состояниях сознания

Рис. 9.5. Пример обильного использования энтоптических образов в композиции тушью одаренной 12-летней девочки
(Опубликовано с разрешения Nani Faye Palmer.)
Определение того, как конкретные базовые паттерны фосфенов формируют строительные кирпичики тех или иных биологических смысловых стимулов, – задача будущих неврологических исследований. Например, один из требующих проверки вопросов таков: активизируется ли у человека, видящего оскаленные клыки хищника, та же часть мозга, которая становится активной, когда предъявляется энтоптический зигзагообразный паттерн.
Идеи, обрисованные выше, были высказаны в начале XX века психологом Карлом Юнгом (Jung, 1969). Юнг говорил о коллективном бессознательном, которое наследуется биологически и состоит из предсуществующих форм, архетипов. Считалось, что архетипы – это неопределенные структуры, которые кристаллизуются в конкретную форму в результате личного опыта индивидуума. Кроме того, Юнг полагал, что каждый индивидуум наследует ранее сформированные паттерны апперцепции, которые направляют и ограничивают сознательную обработку определенного опыта. Таким образом, по Юнгу, такие понятия, как добро и зло, смерть и бессмертие, душа и Бог, являются частью врожденной психологической архитектуры, характерной для человеческого вида. Возможно, что большая часть искусства плейстоцена создавалась, чтобы выразить подобные духовные понятия. Возможно, что группы, которые могли создавать подобные символы и объединяться вокруг них, были более сплоченными и, следовательно, имели больше шансов выжить, чем другие группы, у которых этот общий паттерн поведения отсутствовал.
Вставка. «Мягкий» аспект каменного века: происхождение текстиля и одежды.
Термины палеолит, мезолит и неолит – древний, средний и новый каменные века соответственно – используют для обозначения общих направлений культурного развития человечества. Использование этих терминов не только отражает тенденцию, выводимую из археологических данных, но также увековечивает и усиливает концептуальную тенденциозность даже среди ученых, которые должны быть более проницательными. Инструменты из камня и кости – все, что осталось от далекого прошлого, по той простой причине, что они долговечны. Когда мы пытаемся воссоздать картину культуры и повседневного существования людей, которые оставили эти орудия, то должны помнить о следующем: все, что мы имеем, – это выборка долговечных, а не репрезентативных артефактов. Такие объекты, как копьеметалки, вырезанные из бивней мамонта, и обилие каменных наконечников копий способствовали созданию образа сообществ позднего плейстоцена, который вращается вокруг мужской охоты на крупного зверя. Графические реконструкции облика мужчин и женщин из этих сообществ, как правило, показывают их одетыми в звериные шкуры.
Данным, которые указывали на нечто совершенно иное, не придавали значения. К примеру, фигурки «венер», которые, как считают, являются символами плодородия и датируются временем более чем в 25 тыс. лет, – некоторые из наиболее экстенсивно изученных археологических объектов. Однако несмотря на все эти исследования, видные ученые не сумели заметить особенности, имеющиеся на многих статуэтках, которые указывают на причудливые одеяния. Лишь после обнаружения многочисленных свидетельств технологии ткачества, датируемых временем более чем в 28 тыс. лет, удалось идентифицировать наряды, в которые «облачены» некоторые из статуэток «венер». На резных фигурках показаны искусно вытканные юбки, ленты, пояса и головные уборы (Soffer & Adovasio, 2000).
До недавнего времени у археологов имелось немного информации об объектах ледниковой эпохи, которые быстро приходят в негодность – например, о снастях и плетеных изделиях, известных как «недолговечные технологии». В 1953 г. фрагменты веревки, оставшиеся на стене пещеры Ласко в юго-западной Франции, были датированы временем 15 тыс. лет назад. В 1994 г. в Израиле были найдены образцы снасти, датируемые временем 19 тыс. лет. В 1998 г. отпечатки в отвердевших кусочках глины, найденных в Чешской Республике, были идентифицированы как свидетельство доисторического текстиля (веревка, сети, корзины и тканая одежда), датируемого временем в 28 тыс. лет (Adovasio, Soffer & Klima, 1996). Недавние открытия показывают, что эти ранние индустрии текстиля были широко распространены в Европе Ледникового периода (Soffer & Adovasio, 2000). Истоки текстильной индустрии могут восходить ко времени более 40 тыс. лет назад, когда люди научились сплетать волокна растений. Этот период времени отмечает начало так называемого «творческого взрыва», когда начали получать широкое распространение произведения искусства.
Хотя плетеные объекты имеют множество утилитарных функций, например корзины для переноски добытой растительной пищи и сети для ловли мелких зверей, процесс конструирования их предполагает художественную экспрессию. Это особенно верно в отношении одежды. Хотя одежда выполняет явную утилитарную функцию в холодном климате, она могла появиться скорее как форма украшения тела и демонстрации, чем как изолятор тепла. Многие современные племена охотников и собирателей, живущие в тропиках, почти или совсем не носят одежду, но тратят много времени на украшение тела, разукрашивая его, нанося татуировки, делая надрезы и используя драгоценности. Первые сообщества Homo sapiens sapiens появились сначала в тропической Африке, прежде чем проникнуть в более холодные регионы Европы и Азии примерно 50 тыс. лет назад. Археологические данные, связанные с людьми, которые анатомически близки современному человеку и жили на юге Африки 120 тыс. лет назад, позволяют предположить, что для украшения тела использовался пигмент охры.
Вполне возможно, что первоначально одежда являлась исключительно ранней формой художественной экспрессии, подчеркивая высокий статус и ухаживание. Воздействие более холодной и влажной среды могло быстро придать одежде более функциональную роль. Для производства одежды оказались пригодны технологии ткачества. Каким бы утилитарным ни было конкретное одеяние, ношение его влияет на то, как индивидуума воспринимают окружающие. Следовательно, одежда всегда была либо соединением искусства и утилитарности, либо формой чистого искусства.
Сознание и символическая Вселенная.
Хотя развитое эстетическое чувство и хорошие манипулятивные навыки необходимы для создания произведений искусства, одних их недостаточно. Отличие подлинной художественной экспрессии от поведения животного, такого как беседковая птица, которая украшает свое гнездо, чтобы привлечь брачного партнера, состоит в том, что экспрессия требует сознания высшего порядка. Сознание высшего порядка предполагает, что художники осознают не только эстетические различия, но также собственное осознание и, следовательно, возможность того, что другие разделяют это осознание или мироощущение. Один из способов понять эволюцию сознания высшего порядка – провести филогенетическое сравнение.
Немецкий ученый Якоб фон Эйкскулл (Von Uexkull, 1909) использовал термин Umwelt (окружающий мир) для описания перцептивного мира, который ощущается разными видами. К примеру, перцептивный мир гончей собаки будет в намного большей степени определяться информацией, связанной с обонянием, чем информацией, относящейся к другим сенсорным модальностям, включая зрение. Эйкскулл полагал, что по мере того как у организмов появляется больше органов чувств и они становятся все более сложными в неврологическом отношении, повышается их общее осознание. Тем самым Umwelt дождевого червя будет иметь очень рудиментарный характер, состоя из простой соматосенсорной информации. Увеличение количества органов чувств неизбежно вызывает определенное усложнение нервной системы. Однако когда у позвоночных развились известные нам чувства, впереди еще была длительная эволюция головного мозга. Решающим аспектом этой неврологической эволюции была система перекрестной связи между различными сенсорными модальностями. Например, звук ломающейся ветки мог быть локализован с целью визуального сканирования, а затем могли быть приведены в действие обонятельные органы, чтобы определить, действительно ли чужак находится поблизости. Имеются данные, что определенные кросс-модальные связи могли образоваться для того, чтобы повысилась перцептивная эффективность и уменьшилось время реакции. Английских детей сравнивали с детьми из Кении при выполнении задания, в котором они должны были соотнести какое-то бессмысленное слово с графическим образом (Davis, 1961). Дети из обеих групп соотнесли слово «малуме» с изогнутой формой, а «такете» – с остроконечной формой.
Как было указано в главах, посвященных развитию мозга и языку, трудности функционирования в социальной среде значительно ускорили эволюцию мозга и, соответственно, заметно повысили общий уровень сознания и понимания. Высказывалось предположение, что развитие теории разума (theory of mind) – т. е. усвоение идеи, что другие мыслят схожим образом, и использование этой идеи, с тем чтобы попытаться манипулировать поведением других, – явилось ключевым фактором в эволюции высших приматов. К сожалению, пока трудно продемонстрировать существование теории разума у высших приматов, не принадлежащих к человеческому роду. Если теория разума свойственна и другим видам приматов, она может находиться в зачаточной форме, т. е. быть совершенно неосознаваемым процессом. Поскольку в настоящее время теория разума считается полностью осознаваемым процессом, возможно, нам понадобится другой термин для описания того, что в действительности делают мартышки и человекообразные обезьяны, когда пытаются манипулировать поведением других.