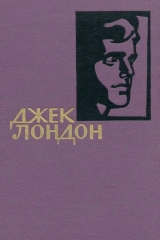
Текст книги "Собрание сочинений в 14 томах. Том 7"
Автор книги: Джек Лондон
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 36 страниц)
– На кой дьявол тут припуталась эта латынь! – говорил он себе в этот вечер, стоя перед зеркалом. – Пусть мертвецы остаются мертвецами. Какое имею я отношение к этим мертвецам? Красота вечна и всегда жива. Языки создаются и исчезают. Они прах мертвецов.
Он тут же подумал, что научился хорошо формулировать свои мысли, и, ложась в постель, старался понять, почему он теряет эту способность в присутствии Руфи. При ней он превращался в школьника и говорил языком школьника.
– Дайте мне время, – сказал он вслух. – Дайте мне только время.
Время! Время! Это была его вечная мольба.
Глава четырнадцатая
Несмотря на свою любовь к Руфи, Мартин не стал изучать латынь. Советы Олни были тут ни при чем. Время было для него все равно что деньги, а многие науки, куда важнее латыни, повелительно требовали его внимания. К тому же он должен был писать. Ему нужно было зарабатывать деньги. Но, увы, его нигде не печатали. Рукописи грустно странствовали по редакциям. Почему же печатали других писателей? Мартин, подолгу просиживая в читальне, читал чужие произведения, изучал их внимательно и критически, сравнивая со своими собственными и тщетно стараясь раскрыть секрет, помогавший этим писателям пристраивать свои творения.
Он удивлялся надуманности большей части того, что попадало на страницы печати. Ни света, ни красок не было в этих рассказах. От них не веяло дыханием жизни, а между тем они оплачивались по два цента за слово, по двадцати долларов за тысячу слов – так было сказано в статье, которую он вырезал из газеты. С недоумением он читал и перечитывал бесчисленные рассказы, написанные (он не мог не признать этого) легко и остроумно, но далекие от того, что составляет существо жизни. Ведь жизнь сама по себе так удивительна, так чудесна, так много в ней нерешенных задач, грез, героических поступков, а эти рассказы касались только житейской обыденщины. Мартин чувствовал силу и величие жизни, ее жар и трепет, ее мятежный дух – вот о чем стоило писать! Ему хотелось воспеть смельчаков, стремящихся навстречу опасности, юношей, одержимых любовью, гигантов, борющихся среди ужасов и страданий, заставляющих жизнь трещать под их могучим напором. А между тем в журнальных рассказах прославлялись всевозможные мистеры Бэтлеры, жалкие охотники за долларами, изображались мелкие любовные треволнения мелких, ничтожных людишек. «Быть может, это потому, что сами редакторы – мелкие людишки? – спрашивал он себя. – Или же все эти редакторы, писатели и читатели просто-напросто боятся жизни?»
Больше всего его смущало то, что он не был знаком ни с редакторами, ни с писателями. Он не только не знал ни одного писателя, но даже не знал никого, кто бы когда-нибудь пытался писать. Некому было поговорить с ним, направить его, дать ему хороший совет. Он даже начал сомневаться в том, что редакторы – живые люди. Они стали представляться ему винтиками или рычажками какой-то машины. Да, да, именно так. В рассказах, очерках и поэмах он изливал свою душу, и эти излияния отдавал на суд машине. Он запечатывал рукопись в большой конверт, вкладывал в него марку для ответа и опускал в почтовый ящик. Пространствовав известное число дней по континенту, рукопись возвращалась к нему, причем была уже запечатана в другой конверт, а марка, вложенная им внутрь, была наклеена снаружи. По всей вероятности, никакого редактора не существовало, а был просто хитро устроенный механизм, который перекладывал рукопись из одного конверта в другой и наклеивал марку. Нечто вроде тех автоматов, в которые опускают монетку, – оттуда тотчас выскакивает кусок жевательной резины или плитка шоколада. Опустишь монетку в одно отверстие – получишь резину, опустишь в другое – получишь шоколад. И точно так же обстояло дело здесь. Из одного отверстия выскакивают чеки на гонорар, из другого – письма с отказом. До сих пор он все время попадал во второе отверстие.
Пресловутые письма дополняли сходство с машиной. Это были стандартные печатные бланки, на которых проставлялись только имена и названия. Мартин их получил уже сотни – штук по десяти на каждую рукопись. Если бы он получил хоть одну живую строчку, написанную от руки, обращенную лично к нему, он был бы счастлив. Но ни один редактор не подавал признаков жизни. Оставалось только предположить, что никаких живых редакторов на свете не бывает, а есть только хорошо смазанные и исправно действующие автоматы.
Мартин был прирожденным борцом, смелым и выносливым, и у него хватило бы упорства в течение долгих лет питать эти бездушные машины. Но он истекал кровью, и не годы, а недели должны были решить исход борьбы. Еженедельная плата за содержание приближала миг банкротства, а почтовые расходы еще больше способствовали этому. Он уже не мог покупать книги и решил экономить на мелочах, чтобы отдалить роковой конец; но он не умел экономить и на целую неделю ускорил развязку, подарив своей сестре Мэриен пять долларов на платье.
Мартин боролся во мраке, без совета, без поощрения; все кругом словно сговорились подтачивать его мужество. Даже Гертруда стала коситься на него; сначала она, как добрая сестра, смотрела сквозь пальцы на то, что ей казалось ребяческой дурью; но потом, опять-таки как добрая сестра, начала беспокоиться. Ей казалось, что ребяческая дурь уже переходит в сумасшествие. Мартин замечал ее тревожные взгляды и страдал от них больше, чем от бесцеремонных и наглых насмешек мистера Хиггинботама. Он верил в себя, но он был одинок в этом. Даже Руфь не разделяла его веры. Ей хотелось, чтобы он занимался только самообразованием, и хотя она никогда открыто не осуждала его литературных увлечений, но никогда и не поощряла их.
Мартин ни разу не показывал ей того, что писал. Какая-то особая щепетильность удерживала его; кроме того, зная, как она занята в университете, он стеснялся отнимать у нее время. Но когда все экзамены были сданы, Руфь сама сказала, что хочет почитать что-нибудь из его произведений. Мартин и обрадовался и оробел. Руфь – настоящий судья. Она бакалавр искусств. Она изучала литературу под руководством профессоров. Может быть, и редакторы – опытные судьи, но она по-другому отнесется к его произведениям. Она не пошлет ему печатного бланка с отказом, не сообщит, что при всех своих достоинствах его рассказы, к сожалению, не подходят для напечатания в данном издании. Она выскажет ему свое мнение в живых, человеческих словах, и, что всего важнее, она узнает наконец подлинного Мартина Идена. В его творениях она почувствует его душу и сердце и хоть немного, хоть чуть-чуть поймет, о чем он мечтает и на что он способен.
Мартин отобрал несколько рассказов и присоединил к ним, после некоторого колебания, «Песни моря».
В один из жарких июньских дней он и Руфь на велосипедах поехали за город, к ее любимым холмам. Это была их вторая прогулка вдвоем, и, когда они мчались по дороге, овеваемые морским ветерком, умерявшим дневную жару, он глубоко, всем своим существом ощущал, что мир прекрасен и что хорошо жить и любить. Они оставили велосипеды у дороги, а сами взобрались на бурую вершину холма, где от выжженной солнцем травы шел сухой и пряный запах свежего сена.
– Она сделала свое дело, – сказал Мартин, когда они уселись – Руфь на его куртке, а он сам прямо на теплой земле.
Вдыхая сладкий, дурманящий аромат, он тотчас, по привычке, начал размышлять, переходя от частного к общему и основному.
– Она исполнила свое жизненное назначение, – продолжал он, ласково гладя сухую траву, – питалась влагою зимних ливней, боролась с первыми весенними ураганами, цвела и привлекала насекомых и пчел, разбрасывала свои семена, а теперь, свершив свой долг перед миром…
– Почему вы смотрите на все с такой противной практической точки зрения? – прервала его Руфь.
– Вероятно, потому, что я изучаю теорию эволюции. Говоря по правде, я только недавно начал видеть все в настоящем свете.
– Но мне кажется, что вы перестаете понимать красоту из-за этого практического подхода. Вы разрушаете красоту, как мальчик уничтожает бабочек, стирая пыльцу с их красивых крылышек.
Он отрицательно покачал головой:
– У красоты есть свое значение, но я до сих пор не ощущал этого значения. Мне нравилось красивое просто потому, что оно красиво, вот и все. Я не понимал сущности красоты. А теперь понимаю или, вернее, начинаю понимать. Эта трава для меня гораздо прекраснее теперь, когда я знаю, почему она такая, знаю все то сложное воздействие солнца, дождей и соков земли, которое понадобилось, чтобы она выросла на этом холме. Есть много романтического в истории каждой травинки; она пережила немало приключений. Одна эта мысль вдохновляет меня. Когда я думаю об игре энергии и материи, обо всей великой жизненной борьбе, я чувствую, что я мог бы написать про эту траву целую поэму, и не одну.
– Как хорошо вы говорите, – сказала Руфь рассеянно, и Мартин вдруг поймал на себе ее странный, испытующий взгляд. Он сразу смутился, даже растерялся, и румянец залил его щеки.
– Ох, если бы я в самом деле умел хорошо говорить, – начал он, запинаясь. – Столько во мне всяких мыслей и так хочется их высказать. Но все это такое большое, что я не могу найти подходящих слов. Иногда мне кажется, что весь мир, все живые существа взывают ко мне и требуют, чтобы я говорил за них. Я чувствую – ну как бы мне выразить это? – я чувствую величие всего; но, когда я начинаю говорить, получается детский лепет. Это огромная задача – суметь воплотить свои мысли и чувства в слова и написать или сказать эти слова так, чтобы слушатель или читатель понял их, чтобы в нем они снова перевоплотились в те же мысли и в те же чувства. Это задача, которая ни с чем не может сравниться. Вот смотрите, я зарываюсь лицом в траву, и этот запах, который я вдыхаю, рождает во мне тысячи мыслей и образов. Ведь я вдохнул запах вселенной. Я слышу песни и смех, вижу счастье и горе, борьбу, смерть. Бесконечные видения возникают в моем мозгу, и мне бы хотелось поведать о них вам, всему миру! Но как это сделать? Язык мой скован. Вот я хотел словами передать вам все, что я чувствовал сейчас, вдыхая аромат травы. И ничего у меня не вышло. Получились неуклюжие, бледные намеки. Какой-то бессвязный набор слов… а между тем мне так хочется высказаться. О… – он с отчаянием заломил руки, – это невозможно! Нельзя рассказать! Нельзя передать!
– Но вы отлично говорите, – утверждала Руфь, – просто удивительно, как вы научились говорить за это короткое время. Мистер Бэтлер – всеми признанный оратор. Комитет штата всегда приглашает его выступать с речами во время предвыборной компании. А тогда, за обедом, вы говорили не хуже его. Только у него больше выдержки. Вы слишком горячитесь; но это постепенно пройдет. Из вас может выработаться отличный оратор. Вы далеко пойдете… если захотите. В вас есть какая-то сила. И вы способны вести людей за собой, я уверена в этом. Вы можете одолеть любые трудности на пути, так же как вы одолели грамматику. Можете стать известным адвокатом. Или политическим деятелем. Ничто не мешает вам добиться такого же успеха, как мистер Бэтлер. И притом без катара, – прибавила она с улыбкой.
Они продолжали беседовать; Руфь, по своему обыкновению, ласково, но настойчиво говорила о необходимости учиться, указывала на латынь, как на один из краеугольных камней в любой области знания. Она нарисовала ему свой идеал человека и мужчины, который был целиком списан с ее отца и дополнен кое-какими черточками, явно заимствованными у мистера Бэтлера. Мартин слушал ее, лежа на спине и наслаждаясь каждым движением ее губ, но то, что она говорила, не находило в нем отклика. Нарисованные ею перспективы не влекли его, и он чувствовал глухую горечь разочарования, соединенную с острым томлением любви. Она ни словом не упомянула о его литературной работе, и рукописи, которые он захватил с собой, лежали забытые на земле.
Наконец, во время одной паузы, он взглянул на солнце, прикинул его высоту над горизонтом и стал собирать свои рукописи, тем самым напомнив о них.
– Ах, я и забыла, – живо сказала Руфь, – а мне так хочется послушать!
Мартин прочел ей рассказ, казавшийся ему одним из лучших. Он назвал его «Вино жизни»; и это вино, опьянявшее Мартина, когда он писал рассказ, снова бросилось ему в голову теперь, во время чтения. Было своеобразное очарование в оригинальном замысле рассказа, а он еще постарался усилить это очарование яркими словами и оборотами. Вдохновенный огонь, горевший в нем во время писания, охватил его снова, и он читал самозабвенно, не замечая недостатков. Но не то было с Руфью. Ее изощренное ухо сразу заметило все слабые стороны, все преувеличения, чрезмерный пафос, характерный для новичка, частые нарушения ритмического строя фразы. Она вообще не улавливала ритма в его рассказе, за исключением тех мест, которые звучали претенциозно-размеренно, и это неприятно поразило ее, как дурной дилетантизм. «Дилетантизм» – таков был ее окончательный приговор, но она не произнесла его. Напротив, она сделала всего несколько мелких замечаний, сказав, что в общем рассказ ей нравится.
Но Мартин был разочарован. Ее критика была справедлива, он не мог не признать этого, но ведь не для школьных поправок он читал ей свое произведение. Дело не в деталях. Это все поправимо. Рано или поздно он, конечно, сам научится замечать мелкие погрешности, даже вовсе избегать их. Но ведь он постарался вместить в свой рассказ кусок большой, живой жизни. Этот кусок жизни он хотел показать ей, а вовсе не ряд фраз, разделенных точками и запятыми. Он хотел, чтобы она почувствовала то большое и важное, что он видел своими глазами, охватил своим разумом и своими руками вложил вот в эти напечатанные на машинке строки. Очевидно, это не удалось, подумал он. Может быть, редакторы и правы в конце концов. Он видел большое и важное, но не умел выразить это в словах. И, скрыв свое разочарование, Мартин так легко согласился с ее критикой, что ей и в голову не пришло, какую бурю протеста она в нем подняла.
– Вот эту вещицу я назвал «Котел», – сказал он, развертывая другую рукопись. – Ее отвергли четыре или пять журналов, а мне рассказ все-таки нравится. Конечно, самому судить трудно, но, по-моему, в нем кое-что есть. Может быть, вас это не захватит так, как захватило меня, но рассказ коротенький, всего две тысячи слов.
– Какой ужас! – вскричала она, когда он кончил читать. – Это просто страшно!
Мартин с тайным удовлетворением смотрел на ее бледное лицо, блестящие глаза и судорожно сцепленные руки. Он достиг своей цели. Он сумел передать ей чувства и образы, владевшие им. Все равно, понравился ей рассказ или нет, – важно, что он произвел на нее впечатление, заставил ее слушать внимательно, так, что она даже не заметила мелочей.
– Это жизнь, – возразил он, – а жизнь не всегда привлекательна. А впрочем, может быть, я очень странно устроен, но я и здесь нахожу красоту. Она мне даже кажется еще в десять раз более ценной в таком…
– Но почему же эта несчастная женщина не могла… – прервала его Руфь и, не договорив, снова воскликнула с возмущением: – О! Это безобразно! Это гадко! Это грязно!
На мгновение ему показалось, что у него остановилось сердце. Грязно! Он никогда не думал этого, никогда не предполагал. Весь рассказ горел перед ним огненными буквами, и, ослепленный сиянием, он не замечал в нем никакой грязи. Но вот сердце снова забилось у него в груди. Совесть его была спокойна.
– Почему вы не взяли более красивого сюжета? – говорила она. – Мы знаем, что в мире много грязи, но это вовсе не значит…
Руфь продолжала говорить что-то с негодованием в голосе, но он ее не слушал. Он смотрел на ее девичье личико, озаренное такой трогательной невинностью, что, казалось, невинность эта проникла в самое сердце Мартина, очищая и омывая его эфирным сиянием, прохладным, нежным и ласковым, как сияние звезд. «Мы знаем, что в мире много грязи». Он подумал о том, что она могла «знать», и улыбнулся про себя радостно, словно она шутила с ним. В мгновенной вспышке перед ним возникло видение бесконечного океана житейской грязи, который он избороздил вдоль и поперек, и он простил ей, что она не поняла его рассказа. Она была не виновата, что не поняла его. Слава богу, что она родилась и выросла в стороне от всего этого. Но он – он знал жизнь, знал в ней все низкое и все великое, знал, что она прекрасна, несмотря на всю грязь, ее покрывающую, и – черт побери! – он скажет об этом свое слово миру. Не удивительно, что святые на небесах чисты и непорочны. Тут нет заслуги. Но святые среди грязи – вот это чудо! И ради этого чуда стоит жить! Видеть высокий нравственный идеал, вырастающий из клоаки несправедливости; расти самому и глазами, еще залепленными грязью, ловить первые проблески красоты; видеть, как из слабости, порочности, ничтожества и скотской грубости рождается сила, и правда, и благородство духа.
До слуха Мартина вдруг донесся голос Руфи:
– Весь тон какой-то низменный! А есть так много прекрасного и высокого: вспомните «In Memoriam [14]14
«In Memoriam» (Памяти, в память (лат.) – поэма английского поэта Альфреда Теннисона (1809–1892). В ней сказалась попытка поэта примирить религию с наукой. Теннисон в своем творчестве продолжал традиции реакционных романтиков, воспевал патриархальные нравы, религиозное самоотречение. Приверженность к буржуазному строю, отсутствие каких-либо отступлений от ханжески-пуританской морали снискали поэту быстрое признание.
[Закрыть]».
Он хотел сказать ей: «А Локсли Холл?» – и сказал бы, если бы снова его не отвлекли видения. Он глядел на нее и думал, какими сложными путями, взбираясь в течение сотен тысяч веков по лестнице жизни, достигла наконец женщина высшей ступени совершенства и стала Руфью, образцом творенья, чистым и прекрасным, одаренным божественной силой, и сумела вдохнуть в него любовь и стремление к чистоте и желание изведать эту божественную силу – в него, Мартина Идена, который тоже непостижимым образом поднялся из глубин первобытной жизни, из хаоса бесчисленных ошибок и неудач вечного процесса созидания. Вот где и романтика, и красота, и чудо! Вот о чем надо писать; только бы найти слова. Святые на небесах – они всего только святые. А он человек.
– В вас очень много силы, – услышал он голос Руфи, – но эта сила какая-то необузданная.
– Похож на бегемота в посудной лавке, – пошутил он и был награжден улыбкой.
– Нельзя так – писать обо всем, без разбора. Вы должны выработать в себе вкус, изящество, стиль.
– Я, должно быть, слишком много на себя беру, – пробормотал он.
Руфь ответила ему ободряющей улыбкой и приготовилась слушать следующий рассказ.
– Не знаю, как вам понравится, – сказал Мартин, словно оправдываясь. – Это странный рассказ! Может быть, я тут слишком размахнулся, но, право, замысел у меня был хороший. Постарайтесь не обращать внимания на мелочи. Главное, чтобы вам удалось уловить основную мысль. Это важная мысль и верная, не знаю только, сумел ли я сделать ее понятной.
Он начал читать; читая, поглядывал на Руфь. Наконец ему показалось, что рассказ захватил ее. Она сидела неподвижно, не сводя с него глаз, затаив дыхание, точно зачарованная созданными им образами. Он назвал рассказ «Приключение», и это был в самом деле апофеоз приключения – не книжного, а настоящего, Приключения с большой буквы, грозного повелителя, одинаково щедрого на взыскания и награды, прихотливого и вероломного, требующего рабской покорности и неуставного труда, который то выводит на ослепительные солнечные просторы, то обрекает мукам жажды, голода, томительного долгого пути или жестокой лихорадки, несущей смерть, и через пот, кровь, укусы ядовитых насекомых, через длинную цепь мелких и неприглядных событий приводит к великолепному, победному финалу.
Все это и еще многое другое изобразил Мартин в своем рассказе; все это, казалось ему, заставляло Руфь слушать его с горящими глазами; щеки ее разрумянились, и к концу чтения он испугался, что она вот-вот упадет в обморок. Она действительно была взволнована, но не рассказом, а самим Мартином. Дело было не в рассказе; она снова испытала на себе действие той знакомой уже ей силы, которая исходила от Мартина и захватывала ее всю. Но странным образом, рассказ тоже был насыщен этой силой, и Руфь сейчас воспринимала ее именно через рассказ. Она ощущала лишь эту силу, почти не замечая того, что служило посредником; и хотя ее как будто увлекло услышанное, на самом деле она была увлечена совсем посторонней, страшной, невероятной мыслью, внезапно возникшей в ее мозгу. Она вдруг задумалась о замужестве, и прихотливая настойчивость этой мысли испугала ее. Это было нескромно. Это было так чуждо ей. Ее еще никогда не мучила пробуждающаяся женственность, и до сих пор она жила в мире снов, навеянных поэзией Теннисона, оставаясь глухой даже к деликатным намекам этого деликатнейшего поэта относительно истинных взаимоотношений рыцарей и королев. Она спала, – и вдруг жизнь властно постучалась у ее двери. Объятая ужасом, она хотела было запереться на все запоры, но пробуждающийся инстинкт требовал, чтобы она широко распахнула дверь перед странным и прекрасным гостем.
Мартин ждал ее приговора с чувством удовлетворения, Он не сомневался в том, каков будет этот приговор, и был ошеломлен, когда Руфь сказала только:
– Это красиво.
После маленькой паузы она с жаром повторила:
– Очень красиво!
Конечно, это было красиво; но в рассказе было нечто большее, нечто такое, чему красота лишь служила и подчинялась. Мартин лежал, растянувшись на земле, и зловещая туча сомнения надвигалась на него… Опять не удалось. Он не владеет словом. Он видит величайшие чудеса мира, но не в силах описать их.
– А что вы скажете о… – он помедлил, не решаясь произнести новое слово, – об идее?
– Она недостаточно ясна, – отвечала она, – таково мое общее впечатление. Я старалась следить за основной линией сюжета, но это трудно. Вы слишком многословны. Вы затемняете действие введением совершенно постороннего материала.
– Но ведь все это подчинено основной идее, – поторопился он объяснить. – Центральная идея – космического, мирового значения. Я хотел насытить ею весь рассказ. Он для нее только внешняя оболочка. Я шел по верному пути, но, видно, плохо справился с задачей. Мне не удалось высказать то, что я хотел. Может быть, со временем я научусь.
Руфь не могла уследить за ходом его мыслей. Они были недоступны ей, хотя она и была бакалавром искусств. Она не понимала их и свое непонимание приписывала его неумению выразить желаемое.
– Вы слишком многословны, – повторила она, – но местами это прекрасно.
Ее голос доносился до Мартина как будто издалека, ибо он в это время раздумывал, читать ли ей «Песни моря». Он лежал молча, чувствуя тоску и отчаяние, а она смотрела на него, и в голове ее носились все те же незваные и упорные мысли о замужестве.
– Вы хотите стать знаменитым? – вдруг спросила она.
– Да, пожалуй, – согласился он, – но это не главное. Меня занимает не столько слава, сколько путь к ней. А кроме того, слава мне помогла бы в другом. Я очень хочу стать знаменитым, если на то пошло, ради одной причины.
Он хотел прибавить «ради вас», и, вероятно, прибавил бы, если бы Руфь более горячо отнеслась к его произведениям.
Но она слишком была занята в этот миг мыслями о какой-либо мало-мальски приемлемой карьере для него и потому не спросила даже, на что он намекает. Что писателя из него не выйдет, Руфь была твердо уверена. Он только что доказал это своими дилетантскими, наивными сочинениями. Он научился хорошо говорить, но совершенно не владел литературным слогом. Она сравнивала его с Теннисоном, Браунингом и с любимейшими своими писателями-прозаиками, и сравнение оказывалось для него более чем невыгодным. Но она не стала говорить ему все, что думала. Странное чувство, которое тянуло к нему, умеряло ее взыскательность. В конце концов его стремление писать было маленькой слабостью, которая со временем, вероятно, исчезнет. Тогда он, несомненно, попробует свои силы на каком-нибудь другом, более серьезном жизненном поприще и добьется успеха. В этом Руфь была уверена. Он так силен, что, наверное, добьется всего… лишь бы он скорей бросил писать.
– Я хочу, чтобы вы читали мне все, что вы пишете, мистер Иден, – сказала она.
Мартин вспыхнул от радости. Она заинтересовалась, – это несомненно. В конце концов она ведь не забраковала его произведений. Она даже нашла отдельные места прекрасными, от нее первой он услыхал ободряющие слова.
– Хорошо, – пылко сказал он, – и вот вам мое слово, мисс Морз, я стану хорошим писателем. Я пришел издалека, я знаю, и мне еще предстоит долгий путь, но я пройду его, хотя бы пришлось ползти на четвереньках. – Он протянул ей пачку отпечатанных на машинке листков: – Вот это «Песни моря». Я вам дам их, а вы прочитаете дома, когда будет время. Но только потом скажите откровенно свое мнение. Мне так нужна критика! Пожалуйста, скажите всю правду!
– Я ничего не утаю, – обещала она, чувствуя, однако, в глубине души, что не была с ним откровенна сегодня, и не зная, сможет ли быть откровенной и впоследствии.








