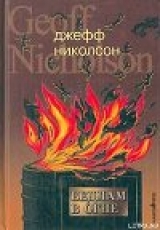
Текст книги "Бедлам в огне"
Автор книги: Джефф Николсон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц)
Джефф Николсон
Бедлам в огне
ТОГДА
1
Познакомился я с Грегори Коллинзом в 1974 году на вечеринке сожжения книг, которую мой научный руководитель устроил в своих кембриджских апартаментах. Приглашение меня удивило и одновременно ужаснуло – поразительно, что подобные вещи творятся в просвещенном и либеральном, как я считал, учреждении. Должен признаться, в те дни я был очень молод и очень наивен.
Моим научным руководителем был доктор Джон Бентли. За глаза мы называли его Джон Ночной Ездун – самой дебильной кличкой, на какую хватило нашего воображения. У него была репутация интеллектуала смелого, если не сказать наглого. Джон Бентли во всем предпочитал “традицию”: неоклассическую литературу XVII века, Мильтона, Гоббса, тори, собачью травлю, Вагнера и “Солсбери ревью”, хотя, оглядываясь сейчас назад, я думаю, что он преследовал лишь одну цель – позлить всех. Время от времени ему удавалось нас поразить. Однажды на семинаре, якобы посвященном Драйдену[1]1
Джон Драйден (1631 – 1700) – английский поэт, драматург и литературный критик. – Здесь и далее прим. перев.
[Закрыть], он разразился на редкость подробным, хоть и уничтожающим, разбором ранних фильмов Энди Уорхола[2]2
Энди Уорхол (1928 – 1987) – американский художник, основатель поп-арта как течения в искусстве.
[Закрыть]. Нас удивило не то, что он их оплевал, а то, что он взял на себя труд вообще с ними ознакомиться, и не просто ознакомиться, но посетить в 1967 году демонстрацию полного варианта “Эмпайра” в лондонской Лаборатории искусств.
– А вы разве поклонник экспериментального кинематографа, доктор Б.? – поинтересовался я.
– Ничуть, – ответил он. – Я поклонник хороших шуток.
Нам, студентам, хотелось, чтобы он одновременно был и скотиной и чудаком, но в общем-то Бентли не являлся ни тем ни другим, зато имел репутацию гостеприимного хозяина. На его вечеринках – даже тех, где не сжигались книги, – университетский кларет лился рекой.
Поначалу я думал, что приглашение попало ко мне по ошибке. У меня прискорбно заурядное имя – Майк Смит; достаточно сказать, что так же зовут английского крикетиста и клавишника из группы “Дейв Кларк Файв”. Но я обратился к Бентли, и он подтвердил, что никакой ошибки нет.
В приглашении не уточнялись детали предстоящей вечеринки, но вскоре со всех сторон ко мне начала стекаться информация. Создавалось впечатление, что я вступил в своего рода тайное общество. Люди, с которыми я ни разу прежде не разговаривал, подходили ко мне в столовой или в баре с таким видом, словно желали обсудить – а может, и предложить – наркотики или секс, но на самом деле они жаждали поделиться слухами об этом сборище. Кое-кто уже посещал подобные вечера, но большей частью люди питались слухами, и всем хотелось выяснить, какую книгу я собираюсь принести, а когда я отвечал, что понятия не имею, на меня тут же обрушивались наставления.
Я узнал, что программа вечера очень проста. Каждый гость должен принести одну книгу, и в конце вечера, когда все хорошенько напьются, мы по очереди вкратце изложим причины, почему хотим сжечь именно эту книгу, а затем швырнем ее в камин.
Разумеется, меня потрясло не только это заигрывание с нацистскими образами. Мне сказали, что кое-кто увиливал – приносил книгу, которая сама по себе была фашистской: “Майн Кампф”, или томик Ницше, или Айн Ранд[3]3
Айн Ранд (1905 – 1982, наст, имя Алиса Розенбаум) – американский философ ницшеанской школы, идеолог философии объективизма.
[Закрыть]. Другой вариант заключался в том, чтобы взять с собой книгу, которая пусть и не является воплощением зла, но и художественной ценности не имеет: Агату Кристи, Барбару Картленд, Фредерика Рафаэля. Некоторые принимали на первый взгляд довольно глупое решение и сжигали Библию, Шекспира или Чосера – реакция на то, что приходилось читать эти книги не из-за их достоинств, а потому, что они включены в университетскую программу.
Но мне почему-то казалось, что все эти выстрелы бьют мимо цели. Немного зная Бентли, я чувствовал, что на самом деле ему хочется предать огню те книги, которые он считал конъюнктурными, либерально-бессмысленными и пустопорожне-левыми. Бентли не желал, чтобы мы сжигали великие произведения английской литературы, – он желал, чтобы мы жгли Барта и Маркузе, Хомского и Фуко[4]4
Ролан Барт (1915 – 1980) – французский философ и теоретик структурализма. Герберт Маркузе (1898 – 1979) – американский философ немецкого происхождения, сочетал марксизм с фрейдистским психоанализом. Наум Хомский (р. 1928) – американский лингвист, один из основателей трансформационной грамматики. Мишель Фуко (1926 – 1984) – французский философ-структуралист.
[Закрыть]. Я читал кое-какие их работы, и, по моему скромному разумению, они действительно были вполне бессодержательными, но при том я склонялся к мысли, что и эти книги не стоят огня, ибо слишком уж явно раздражают и пугают таких людей, как Бентли.
Я понимал: нужно отклонить приглашение, но тем не менее испытывал какую-то извращенную гордость от того, что попал в число приглашенных. Несомненно, доктор Бентли тщательно отбирал гостей – за их ироничность или, быть может, за их нравственную неоднозначность, а если кто-то и приходил на вечеринку испуганным или, напротив, агрессивным, это было составной частью спектакля. Бентли не собирался приглашать на свои вечера нацистов – это было бы чересчур примитивно. Нет, он приглашал достойных людей с претензией на цивилизованность и интеллект, он хотел посмотреть, как они станут извиваться и разоблачать себя.
Его кабинет был уютным, насколько вообще может зваться уютным пыльный, забитый книгами кабинет ученого. Там имелись пара кожаных кресел, два потертых шезлонга и несколько стульев с прямыми спинками, но мест все равно не хватало, поэтому большинство гостей неловко толпились вокруг камина или жались к застекленным стеллажам с рядами темных томов. Стандартные издания серьезных научных трудов, никакого легкомыслия мягких обложек, никакой безвкусицы суперобложек На стенах висели картины – мрачные пейзажи и натюрморты, отягощенные авторским презрением к ярким краскам.
Обстановка выглядела намеренно угрюмой. В моей собственной комнате стены были, естественно, украшены плакатами – Ракель Уэлч и Фрэнк Заппа[5]5
Ракель Уэлч (настоящее имя Рэйчел Тежада, (р. 1940) – американская актриса, секс-символ начала 70-х гг.; рекламный плакат к фильму “За миллион лет до нашей эры”, на котором актриса в меховом бикини, разошелся миллионным тиражом. Фрэнк Заппа (1940 – 1993) – американский джазовый и рок-музыкант.
[Закрыть](но не тот, где он сидит на унитазе, – этот плакат я счел слишком банальным), а еще у меня имелась репродукция картины “Гилас и нимфы”, которую поначалу я нашел непристойно эротичной, хотя по прошествии двух лет такое впечатление начало понемногу стираться.
Если в кабинете Бентли чувствовалось мужское начало, то в самом Бентли – определенно нет. Подобно множеству кембриджских преподавателей, с которыми я был знаком, Бентли умудрялся выглядеть изнеженным без малейшего намека на гомосексуализм, мягким, но не женоподобным. В те дни он казался мне старцем, дряхлеющим ученым, который много десятилетий назад похоронил себя в своих книгах и мыслях. Теперь-то я понимаю, что ему, наверное, не было и сорока, а замшелый вид патриарха он, несомненно, напускал на себя специально – чтобы исключить всякий намек на молодость и легкомыслие.
В приглашении говорилось: “Форма одежды – костюм”, и так случилось, что костюм у меня имелся. Мне его купили родители в выпускной год – с напутствием, что костюм пригодится хотя бы для вступительных собеседований в университете. Он все еще был более-менее мне впору. Неброский, серый, опрятный, аккуратный – костюм воплощал в себе все то, чем мне быть не хотелось. Я действительно надевал его на собеседования, и, судя по всему, вреда это не принесло, поскольку – к удивлению окружающих, но отнюдь не к своему, – я поступил в Кембридж. И все же мне хотелось думать, что впечатление от костюма удастся смазать моей длинной, густой, чистой, но вполне лохматой шевелюре. Ради большей отчетливости своих умонастроений под костюм я надел оранжевую футболку – если доктор Бентли захочет выгнать меня взашей за неподобающее одеяние, меня это вполне устроит. Я собирался хотя бы отчасти продемонстрировать презрение, которого заслуживало это сборище. Но Бентли на футболку никак не отреагировал и с непринужденной любезностью пригласил меня в кабинет, где официант из колледжа, угрюмый и объяснимо недовольный местный юнец семнадцати лет, сунул мне бокал вина.
Остальные гости – с десяток студентов плюс несколько аспирантов – не решились столь откровенно подрывать устои. Все они надели рубашки и галстуки, но многим было откровенно неуютно в официальной одежде. В те времена все поголовно отпускали волосы до плеч и растительность на лице, носили выцветшие джинсы-клеш, рубашки из марлевки и мятые фуфайки. Все стремились походить на хиппи, даже некоторые преподаватели, и только Грегори Коллинза эта мода не затронула.
Он выделялся из общей толпы тем, что чувствовал себя в официальной униформе очень уверенно. Одежду Грегори нельзя было назвать аккуратной, а уж модной и подавно. Мешковатый костюм-тройка, плотный, жаркий, ворсистый, выглядел так, будто его передавали по наследству из поколения в поколение, но Грегори сумел его обжить. Короткие волосы, остриженные на затылке и висках, лоснились, словно у набриолиненных футболистов тридцатых годов. На шею он повязал потрепанный форменный галстук, – возможно, тот самый, который носил еще во втором классе.
Грегори был крупным, но не толстым – во всяком случае, пока, – но он с трудом управлялся со своим неуклюжим, неповоротливым телом, и в движениях как бы постоянно себя поправлял, сдерживал, стремился подчинить себе ноги, норовившие врезаться в мебель, руки, то и дело грозившие опрокинуть бокал или ткнуть кого-нибудь в живот. Грегори был из тех людей, у которых голова словно расширяется к шее: макушка – маленький купол, щеки обвисают в стороны, челюсть шире ушей и перетекает в массивный подбородок.
В его неуклюжести было что-то забавное, но сам Грегори требовал относиться к себе со всей серьезностью. Размеры, неловкость, вечно нелепый вид придавали ему внушительность, весомость, с которой следовало считаться. До того дня я не был с ним знаком, да и вообще из собравшихся я знал только одного-двух человек, но Грегори сразу же подошел ко мне и спросил:
– Это вас я видел в какой-то пьесе?
Я признал, что такое вполне возможно. У меня случилась краткая, но унизительная интрижка с миром студенческого театра.
– Я так и думал, что это вы.
К тому времени я распознал в его голосе отчетливый, даже нарочитый йоркширский акцент. В Кембридже это был известный трюк. В университете одни пытались скрыть свое происхождение, либо слишком благородное, либо слишком скромное, либо – как в моем случае – слишком скучное, а другие, напротив, выставляли его напоказ. Лично я изо всех сил старался казаться выше классовых и расовых предрассудков и, должен признаться, в тот момент ощутил некоторое превосходство над Грегори Коллинзом – но не потому, что он принадлежал к рабочему классу, а я к более солидному и скучному среднему классу, а потому, что он находил уместным выпячивать свое происхождение, а я – нет.
– Играли вы неплохо, – сказал он, – но всякий раз, когда вы открывали рот, я думал: “Ну что за мудило”.
Его критика хоть и не грешила необоснованностью, все равно смутила меня. Так получилось, что в то время я был весьма привлекательным молодым человеком. Я вовсе не ставил себе это в заслугу. Я знал, что все дело в игре случая и внешняя красота никак не связана с душевными качествами, но, похоже, другие были не столь проницательны. Некоторым я нравился исключительно из-за внешности. Именно из-за моей наружности люди доверяли мне, были снисходительны и любезны. Порой они хотели что-то взамен; возможно, иногда их мотивы были сексуальными – некоторые даже влюблялись в меня, хотя почти всегда эти люди оказывались вовсе не теми, кто требовался мне. Но дело было не только и не столько в сексе. Мне приписывали положительные качества, исходя только из внешней привлекательности. Люди хотели видеть меня в своей компании. Люди хотели видеть меня на своих вечеринках. Люди хотели видеть меня своим другом. Я обладал преимуществом, которое, по тогдашнему моему мнению, было недоступно таким, как Грегори Коллинз.
И, возомнив, будто могу пустить на доброе дело случайно доставшуюся привлекательность, я пришел в студенческий любительский театр. Большинство тех, кто там играл, не считали себя ни студентами, ни любителями. Они предпочитали относить себя к серьезным лицедеям, актерам, пребывающим на трамплине, который вознесет их к вершинам профессионального театра, и я, возможно, тоже присоединился бы к этому самообману, однако первые же выходы на сцену убедили меня, что я – полный и безнадежный любитель.
Я старался. Я пытался выглядеть харизматическим и магнетическим актером, от которого публика не в силах отвести глаз. Но публика запросто отводила. Харизма и магнетизм, которыми я, казалось, обладал в реальной жизни, на сцене куда-то испарялись. Наверняка все зрители думали: “Ну что за мудило”, но никто не высказал это так же прямо, как Грегори Коллинз.
Тут к нам подошел угрюмый юнец и спросил, не наполнить ли нам бокалы, и Грегори Коллинз сказал:
– Было бы здоровско.
Я подумал, что он пытается шутить, но оказалось, что слово “здоровско” регулярно встречается в его лексиконе.
Выяснилось, что Грегори видел меня в маленькой роли в экспериментальной постановке “Наоборот” Гюисманса[6]6
Шарль-Мари-Жорж Гюисманс (1848 – 1907) – французский писатель и драматург.
[Закрыть], которая получилась бы никуда не годной и нелепой и без моего участия.
– У меня сложилось мнение, что именно эту книгу вы бы не отказались сжечь, – заметил Грегори.
Я обозначил улыбку. То, что он был почти прав, не делало его более приятным. И я отошел от него.
Выбор книг полагалось держать в секрете, поэтому на вечер мы пришли с запечатанными конвертами, словно собирались объявить лауреатов премии “Оскар” или победительницу конкурса красоты. Но я обратил внимание, что Грегори Коллинз принес свою книгу в запертом на замок металлическом чемоданчике. Такие меры предосторожности выглядели явным перебором.
Остаток вечера я старался держаться от него подальше. Уж очень Грегори походил на зануду. Вечер затягивался, но ничего особенного не происходило. Мало-помалу мы пьянели, но без свинства, и к ритуальному сожжению приступили лишь незадолго до полуночи. Я умудрился занять одно из немногих сидячих мест, откуда мог следить за происходящим и одновременно изображать отстраненность.
Бентли нетвердо взгромоздился на скамеечку для ног, призвал к порядку, и сожжение началось. Последовательность, с какой гости охаивали литературные произведения, Бентли определял сам, но никакой системы не наблюдалось. Я надеялся, что он вызовет меня одним из первых, чтобы я смог побыстрее со всем разделаться, однако Бентли явно угадал мое желание и намеренно заставил меня ждать.
Конверты были вскрыты, книги извлечены, продемонстрированы, невыразительно развенчаны и брошены в камин. Некоторые решили подыграть предубеждениям Бентли. Кто-то сжег “Сексуальную политику” Кейт Миллетт[7]7
Кейт Миллетт (р. 1934) – американская феминистка.
[Закрыть]. Кто-то выбрал “Мифологии”[8]8
Книга Ролана Барта.
[Закрыть]. Но, естественно, среди присутствующих нашлись более либеральные и воинствующие элементы, и кто-то сжег “Тропик Рака” Генри Миллера по причинам, с которыми охотно согласилась бы Кейт Миллетт.
Худощавый рыжеволосый шотландец с косоглазием и асимметричными треугольными бакенбардами принес экземпляр “451 градуса по Фаренгейту” Рэя Брэдбери – не потому, как он объяснил, что книга плоха и место ей в огне, а просто из-за названия.
– Если подумать, – задумчиво сказал Бентли, – то мне кажется, что четыреста пятьдесят один градус по Фаренгейту не может быть температурой воспламенения любой бумаги, вы согласны? Существует множество видов бумаги, ее производят из разных материалов, обрабатывают разными химикатами, кислотами и так далее, в зависимости от качества и назначения бумаги. И у столь различных сортов температура возгорания должна колебаться в широких пределах. Но согласен, название действительно привлекает.
В камине колыхалось пламя, глотая книги, время от времени задыхаясь от бумаги и пепла, и Бентли то и дело приходилось браться за кочергу и щипцы. Он проделывал это весело и умело, сопровождая суету ироничными замечаниями о величии труда.
Затем слово взял громадный и мясистый детина. Звали его Франклин. Студент-медик, по совместительству казначей комитета студенческого центра отдыха и капитан гребной команды колледжа; карманные деньги он зарабатывал, сбывая студентам-естественникам дешевые калькуляторы и заверяя покупателей, что эти маленькие пластмассовые хреновины скоро изменят мир. Многих из нас его заверения не убеждали.
– Мне определенно хотелось бы избавить мир от этой беллетризированной книжонки, – объявил Франклин.
Он вскрыл конверт, достал “Дневник Анны Франк” и одним движением, словно фрисби, метнул книгу через всю комнату так, что она шмякнулась о заднюю стенку камина, подняв облачко пепла и сажи.
– Ничего себе, – вслух сказал я, – это уже не смешно.
– А я и не пытался быть смешным.
Я встал. Я еще точно не знал, что у меня на уме: то ли хочу выйти вон, то ли собираюсь набить морду этому хаму-антисемиту, но в конечном счете не сделал ни того ни другого, и Бентли, как мог, постарался меня успокоить.
– Знаете, не стоит воспринимать происходящее слишком всерьез, – сказал он. – Мы же не пытаемся избавить мир от этих книг. Это занятие столь же скучное, сколь и тщетное. Мы лишь практикуем литературную критику в чуть более активной форме.
Обычно я умею выступать без подготовки и находить хлесткий ответ, но тогда я не смог придумать ничего стоящего, поэтому неловко сел и выпил. Я еще не успокоился, когда Бентли спросил:
– Ну что, Майкл, вам удалось решить внутреннюю либеральную дилемму?
– Вы хотите сказать, нашел ли я книгу, которую хочу спалить?
Он поджал губы, показывая, что считает мою фразу несколько вульгарной и излишне откровенной.
– Вообще-то нашел.
Я встал, вскрыл конверт и достал небольшую книжку из серии литературной критики. Она называлась “Ясный туман” и была написана доктором Джоном Бентли.
– Причины, по которым я решил сжечь эту книгу, довольно очевидны, – сказал я. – Ее автор принадлежит к тем людям, которые практикуют сожжение книг.
В комнате установилась приятно недружелюбная тишина. Так смотрят на человека, совершившего непростительную оплошность. Одно дело заигрывать с фашизмом, и совсем другое – оскорблять хозяина. Доктор Бентли грустно взглянул на меня, словно изо всех сил пытался подавить снисхождение, которое испытывал ко мне, но не вполне в этом преуспел.
– Кто-нибудь так поступает каждый год, – сказал он. – Не очень оригинально, но все-таки приносит кое-какие дивиденды.
Бентли поднял свой бокал, и я, естественно, был вынужден поднять свой. Вряд ли я ждал, что мое маленькое оскорбление заставит его дрожать от позора, но все равно я был разочарован тем, как благополучно и учтиво он его перенес.
Возможно, это событие испортило бы концовку всего действа, чему я бы, наверное, только порадовался, но мы не учли Грегори Коллинза. Настал его черед. Он величественно занял место у столика и поставил на него металлический чемоданчик, грубо сдвинув бутылки и бокалы. С неуместной и комичной торжественностью он открыл кейс. То, что он достал, оказалось не книгой, но стопкой машинописных листов толщиной три-четыре дюйма. Страницы не были скреплены, и, когда он схватил пачку, она едва не рассыпалась.
– Вот мой вклад в этот спектакль, – сказал Грегори. – Последние два года я корпел над великим, черт возьми, кембриджским романом, и, гляньте, вот он.
Конечно, я совсем ничего не знал о Грегори Коллинзе и все же очень удивился тому, что он написал роман. Грегори вовсе не походил на писателя, хотя у меня не было ясного представления о том, как выглядят писатели.
– Как бы то ни было, – сказал он, – тяжкий труд закончен, и это полный вздор, и я не могу придумать ничего лучшего, как швырнуть эту херню в огонь.
Рукопись была слишком большой и тяжелой, чтобы ее удалось легко и точно бросить, потому Грегори подошел к камину и аккуратно положил стопку в огонь. В камине уже скопилось немало пепла и обгоревшей бумаги, и огромная рукопись грозила полностью загасить пламя, но вскоре страницы начали скукоживаться и чернеть, отделяться друг от друга. Они так и не занялись высоким, веселым пламенем, но тем не менее огонь их поглотил и уничтожил без остатка.
В комнате зашушукались, что это смелый, опрометчивый и глупый поступок, хотя два-три человека хмыкнули: мол, скорее всего, это черновик или копия, и вполне может статься, что существует другой экземпляр, пребывающий в целости и сохранности. Но я так не считал. Я мог поверить, что Грегори Коллинз позер, но я не думал, что он мошенник. Доктору Бентли все это показалось восхитительным, и он захихикал как мальчишка. Финал получился великолепным.
То был конец книгосожжения, но не конец вечеринки. Ко мне подошли какие-то люди, чтобы сказать: идея сжечь книгу Бентли, безусловно, остроумна, но Грегори Коллинз, разумеется, меня превзошел. Грегори ненадолго оказался в центре внимания, хотя он мало что мог поведать о себе. Когда кто-то спросил, о чем был роман, он не пожелал сообщить подробности.
– Я сжег этого ублюдка, – сказал Грегори. – Не хотите же вы, чтобы я, черт возьми, прибег к устной традиции?
Затем Бентли поставил запись “Зигфрида” – верный признак, что большинству из нас пора уходить. Несколько человек пожелали собраться у кого-нибудь в комнате, чтобы покурить дурман-травы и послушать пластинку Капитана Бифхарта[9]9
Капитан Бифхарт (наст. имя Дон Ван Влит) – американский блюзмен-авангардист.
[Закрыть], мы позвали и Грегори Коллинза, но он отказался, заметив, что для него это уже слишком. Думаю, все с облегчением вздохнули. Но перед уходом он официально пожал мне руку и сказал:
– У нас получилась отличная пьеса в двух действиях, правда, Майкл?
Доктор Бентли куда менее официально проводил нас до дверей, и, когда я переступал порог, он с нежностью посмотрел на меня, отчего я почувствовал себя очень неуютно.
– Такой хорошенький, – сказал он, – и такой глупенький. – Я почувствовал угрозу не столько в его словах, сколько во взгляде, и, возможно уловив это, он добавил: – Но недостаточно хорошенький или недостаточно глупенький, чтобы быть истинно привлекательным.








