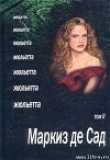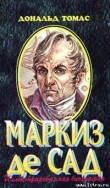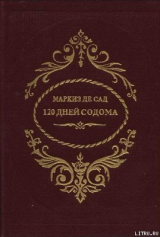
Текст книги "120 дней Содома"
Автор книги: Донасьен Де Сад
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
В десять часов – ужин. Жены, рассказчица и восемь девушек ужинают вместе или порознь, но женщинам не положено ужинать вместе с мужчинами. Друзья ужинают с четырьмя содомистами, не занятыми ночью, и четырьмя мальчиками. Четыре других будут ужинать отдельно, им будут прислуживать старухи. После ужина все вновь встречаются в салоне ассамблеи, на церемонии, носящей название «оргии». Салон будет освещен люстрами. Голыми будут все, в том числе и сами друзья. Все здесь будет перемешано и все будут предоставлены разврату как животные на свободе. Позволено все, кроме лишения девственности, когда же это случиться с ребенком можно делать все, что придет в голову.
В два часа утра оргия заканчивается. Четыре содомиста, предназначенных для ночи, войдут в зал в легких элегантных одеждах и подойдут к каждому из четырех друзей; тот в свою очередь уведет с собой одну из жен, «объект», лишенный невинности (когда придет момент для этого), рассказчицу или старуху, чтобы провести ночь между нею и соломистом. При этом надо соблюдать последовательность, чтобы «объекты» каждую ночь менялись.
Таким будет порядок каждого дня. Независимо от того, каждая из семнадцати недель пребывания в замке будет отмечена специальным праздником. Это, прежде всего, будут свадьбы: о времени и месте каждой из них все будут оповещены заранее. Первыми будут свадьбы между самыми юными, что связано с потерей девственности. Свадьбы между взрослыми будут происходить позднее, и здесь уже не будет волнующего момента срывания плода и права первой ночи.
Старухи-служанки будут отвечать за поведение четырех детей. Когда они заметят какие-либо провинности, они немедленно сообщат это тому из друзей, кто будет главным в этом месяце, и «исправлением ошибки» будут заниматься все в субботу вечером – в час оргии. Будет составлен точный лист участников «исправления». Что касается ошибок рассказчиц, они будут наказаны только наполовину по сравнению с детьми, поскольку их талант служит обществу, а таланты надо уважать. Жены и старухи будут наказаны вдвойне по сравнению с детьми. Каждый, кто откажет одному из друзей в том, о чем тот его просит, даже если его состояние не позволяет, будет сурово наказан в воспитательных целях – как предостережение для других.
Малейший смех или проявление непочтительности по отношению к друзьям во время свершения ими полового акта считается особо тяжким преступлением. Мужчина, которого застанут в постели с женщиной, если это не предусмотрено специальным разрешением, где указана именно эта женщина, будет наказан потерей члена. Малейший акт уважения к религии со стороны любого из «объектов», кем бы он ни был, будет караться смертью. Рекомендовались самые грубые и грязные богохульства; имя Бога вообще нельзя было произносить без проклятий и ругательств.
Когда кто-то из друзей шел испражняться, его обязана была сопровождать одна из женщин, которую он для этого избирал; она должна была оказывать те услуги, которые он от нее требовал. Никто из участников, мужчин или женщин, не имел права ходить в туалет по большой надобности без разрешения друга, ответственного за этот месяц. Жены друзей не пользовались при этом никакими преимуществами перед другими женщинами. Напротив, их чаще других «использовал и на самых грязных работах, например, при уборке общих туалетов и, особенно, туалета в часовне. Уборные вычищались каждые восемь дней – это была обязанность жен.
Если кто-либо манкировал заседание ассамблеи, ему грозила смерть, кем бы он ни был.
Кухарки и их помощницы находились в особом положении: их уважали. Если же кто-то покушался на их честь, его ждал штраф в размере тысячи луидоров. Эти деньги по возвращению во Францию должны были послужить к началу нового предприятия – в духе этого или еще какого-либо другого.
Часть первая
Сто пятьдесят простых или первоклассных статей, составляющих тридцать ноябрьских дней, наполненных повествованием Дюкло, к которым примешались скандальные события в замке, записанные в форме дневника в течение указанного месяца.
Первый день
Первого ноября все поднялись в десять часов утра, как это было предписано распорядком, который все поклялись ни в чем не нарушать. Четверо «работяг», которые не разделяли ложе друзей, привели к ним, когда те встали: Зефира – к Герцогу, Адониса – к Кюрвалю, Нарцисса – к Дюрсе и Зеламира – к Епископу. Все четыре мальчика были очень робки, еще очень скованы, но, ободряемые каждый своим вожатым, они прекрасно выполнили свой долг, и Герцог пришел к финишу. Остальные трое, более сдержанные и менее расточительные по отношению к своей сперме, входили в них столько же, сколько и он, но ничего не вкладывали туда от себя. В одиннадцать часов перешли в апартаменты женщин, где восемь юных султанш явились нагими и в таком же виде подавали шоколад. Мари и Луизон, которые верховодили в этом серале, помогали им и направляли их. Все трогали друг друга, много целовали; восемь несчастных крошек, жертвы из рада вон выходящей похоти, краснели, прикрывались руками, пытаясь защитить свои прелести, и тотчас же показывали все, как только видели, что их стыдливость возмущала и злила их господ. Герцог, который вновь напрягся очень быстро, примерил свое орудие к тонкой и легкой щели Мишетты: лишь три дюйма разницы. Дюрсе, который был главным в этот месяц, совершил предписанные осмотры и визиты, Эбе и Коломб были не в форме, и их наказание было немедленно назначено на ближайшую субботу во время оргий. Они заплакали, но никого не разжалобили. Оттуда мы перешли к мальчикам. Эти четверо, которые так и не показались утром, то есть Купидон, Селадон, Гиацинт и Житон, по приказу сняли штаны; некоторое время все забавлялись этим зрелищем. Кюрваль целовал всех четверых в губы, а епископ наскоро потеребил им хоботки, пока Герцог и Дюрсе занимались кое-чем другим. Визиты закончились, все было в порядке. В час дня друзья переместились в часовню, где, как известно была устроена уборная. Из-за распорядка, предусмотренного на вечер, пришлось отказаться от многого позволенного, и появились лишь Констанс, мадам Дюкло, Огюстин, Софи, Зеламир, Купидон и Луизон. Все остальные тоже просились, но мы приказали им поберечь себя до вечера. Наши четверо друзей, занявшие посты вокруг одного сидения, сооруженного для этого замысла, усадили на это кресло одного за другим семь «объектов», и удалились, достаточно насладившись этим зрелищем. Они спустились в гостиную, где, пока женщины обедали, болтали между собой до тех пор, пока им тоже не подали обед. Четверо друзей разместились каждый между двумя «работягами», согласно правилу, которое установили: никогда не допускать женщин к своему столу; четыре нагие супруги, которым помогали старухи, одетые в серое монашеское платье, подали великолепную еду, самую вкусную – насколько это только было возможно. Не могло быть проворнее кухарок, чем те, которых они привезли; им так хорошо платили и так хорошо снабжали, что все было организовано великолепно. Эта еда должна была быть менее плотной, чем ужин; мы довольствовались четырьмя великолепными сервизами, каждый на двенадцать персон. Бургундское появилось вместе с холодными закусками, бордо было подано с горячей закуской, шампанское – к жаркому, эрмитаж – к преддесерту, токайское и мадера – к десерту. Понемногу напитки ударили в голову. «Работяги», которым именно в этот момент были даны все права на супруг, немного поиздевались над ними. Констанс была даже немного потрепана и побита за то, что не принесла немедленно тарелку. Эркюль, видя себя в милости Герцога, решил, что может издеваться над его женой, что вызвало у того смех. Кюрваль, изрядно захмелевший к десерту, бросил в лицо своей жене тарелку, которая могла бы раскроить той голову, если бы она не увернулась. Дюрсе, видя как возбудился один из его соседей, не слишком церемонясь, хотя и был за столом, расстегнул штаны и выставил свой зад. Сосед пронзил его; когда операция была завершена, все снова начали пить так, словно ничего не было. Герцог вскоре проделал то же самое со «Струей-В-Небо» и держал пари, что хладнокровно, не дрогнув, выпьет три бутылки вина, пока его будут обхаживать сзади. Какая привычка, какое спокойствие, какое присутствие духа при этаком распутстве! Он выиграл пари; поскольку он пил не натощак, эти три бутылки свалились на более чем пятнадцать других, и он поднялся несколько утомленный. Первым предметом, который попался ему на глаза, была его жена, плачущая из-за скверного обхождения с ней Эркюля; эта картина возбудила его до такой степени, что он немедля начал вытворять с ней такое, о чем мы пока еще не можем говорить. Читатель, видящий как мы смущены подобным началом, чтобы привести в порядок наш сюжет, простит нас за то, что мы пока что скрываем от него некоторые незначительные детали. Наконец, перешли в гостиную, где новые удовольствия и наслаждения ждали наших чемпионов. Там прелестная четверка поднесла им кофе и ликеры, она состояла из двух прекрасных молодых мальчиков: Адониса и Гиацинта и девочек – Зельмир и Фанни. Тереза, одна из старух, руководила ими; было принято, что повсюду, где собиралось двое-трое детей, за ними должен быть надзор. Четверо наших распутников, полупьяные, но все же решительно настроенные соблюдать свои законы, довольствовались поцелуям и прикосновениями; их развращенный ум умел приправлять все эти тонкости долей разврата и похоти. В какой-то момент показалось что Епископ вот-вот прольет семя от тех необычных забав, которые он требовал от Гиацинта, пока Зельмир теребила его орудие. Вот уже нервы дрогнули и судорогой передернулось все его тело, но он сдержался, оттолкнул подальше от себя соблазнительные «объекты», зная, что ему еще предстоит нелегкая работа, и сохранил себя, по меньшей мере до конца дня. Мы выпили шесть различных сортов ликеров и три вида кофе; наконец, час пробил, две пары удалились, чтобы одеться. Наши друзья устроили себе четвертьчасовую сиесту, после чего мы прошли в «тронный зал». Так был назван зал, предназначенный для повествований. Друзья устроились на диванах, в ногах Герцога сидел его дорогой Эркюль, рядом с ним нагая Аделаида, жена Дюрсе и дочь Председателя; напротив – четверка, связанная со своей нишей гирляндами, так, как это было задумано: Зефир, Житон, Огюстин и Софи – в костюмах пастушек под предводительством Луизон, одетой старой крестьянкой и исполняющей роль их матери. У ног Кюрваля расположился «Струя-В-Небо», на своем канапе – Констанс, жена Герцога и дочь Дюрсе; напротив – четверка молодых элегантно одетых «испанцев», а именно: Адонис, Селадон, Фанни и Зельмир, возглавляемых старухой Фаншон. У ног Епископа находился Антиной, его племянница Юлия на своем канапе и четверо «дикарей», почти голых: это были мальчики Купидон и Нарцисс и девочки Эбе и Розетта, возглавляемые старой амазонкой, которую изображала Тереза. У Дюрсе в качестве сподручного был «Разорванный-Зад», рядом с ним стояла Алина, дочь Епископа, а напротив – четыре маленьких султанши: здесь было два мальчика, переодетых в девочек; такое утончение доводило до крайней точки притягательности обольстительные фигуры Зеламира, Гиацинта, Коломб и Мишетты. Старая арабская рабыня, которую изображала Мари, возглавляла катрен. Три рассказчицы, великолепно одетые на манер парижских девушек хорошего тона, сели у подножия трона на канапе, с умыслом поставленное здесь, и Дюкло, рассказчица этого месяца, в легком и очень элегантном прозрачном наряде – где было много красного и бриллиантов, устроившись на возвышении, так начала историю событий своей жизни, в которой она должна была подробно изобразить сто пятьдесят первых страстей, названных «простыми»,
«Не такой это пустяк, господа, говорить перед таким собранием, как ваше. Привыкшие ко всему тонкому и деликатному, что только могут рождать слова, как сможете вынести вы этот бесформенный и грубый рассказ такого несчастного создания, как я, которая не получала никакого иного воспитания, кроме того, что дала мне эта распутная жизнь? Но ваша снисходительность придает мне силы; вы требуете лишь естественности и правды, и в этом качестве, без сомнения, я осмеливаюсь надеяться на вашу благосклонность. Моей матери было двадцать пять лет, когда она родила меня; я стала ее вторым ребенком, первой была дочь на шесть лет старше меня. Она была не знатного происхождения. Круглая сирота, она очень рано осталась без родителей; поскольку жили они неподалеку от де Реколле в Париже, когда она осталась совсем одна, без средств к существованию, то получила от этих добрых отцов разрешение приходить просить милостыню у них в церкви. В ней было немного молодости и свежести; очень скоро на нее обратили внимание, и из церкви она поднялась в комнаты, откуда вскоре спустилась беременной. Именно подобным приключениям была обязана своим рождением моя сестра, и кажется довольно правдоподобным, что мое появление на свет было вызвано тем же. Добрые отцы, довольные послушанием моей матери, видя, как она плодотворно трудится для общины, вознаградили ее за труды, предоставив собирать налоги за стулья в церкви; этот пост моя мать обрела после того, как с позволения своих «настоятелей» вышла замуж за водоноса дома, который тотчас же удочерил меня с сестрой – без тени отвращения. Родившись в святом месте, я жила, по правде говоря, скорее в церкви, чем в нашем доме. Я помогала матери расставлять стулья, была на подхвате у ризничьих по их делам, прислуживала во время мессы, если это было необходимо, хотя мне тогда исполнилось лишь пять лет. Однажды, когда я возвращалась после своих священных занятий, моя сестра спросила меня, встречалась ли я уже с отцом Лораном?
«Нет», – отвечала я. – «И все же, – сказала она мне, – он выслеживает тебя, я знаю; он хочет показать тебе то, что показывал мне. Не убегай, посмотри хорошенько, не бойся; он не тронет тебя, а только покажет тебе что-то очень забавное, и если ты дашь ему сделать это, он тебя хорошо вознаградит. Нас больше пятнадцати таких, здесь и в округе, кому он это показывал много раз. Это доставляет ему удовольствие; каждой из нас он давал какой-нибудь подарок». Вы прекрасно представляете себе, господа, что не надо было больше ничего прибавлять, чтобы я не только не убегала от отца Лорана, но даже стала искать встречи с ним. Целомудрие почти молчит в том возрасте, в котором я была, но его молчание на выходе из рук природы; не является ли это верным доказательством, что это неестественное чувство несет в себе гораздо меньше от этой праматери, чем от воспитания? Я тотчас же понеслась в церковь и, когда пробегала по дворику, который находился между входом в церковь со стороны монастыря и самим монастырем, то я нос к носу столкнулась с отцом Лораном. Это был монах лет сорока с очень красивым лицом. Он останавливает меня: «Куда ты идешь, Франсом?» – говорит он мне. – «Расставлять стулья, отче». – «Ну ладно, ладно, твоя мать сама расставит их. Пойдем-ка, пойдем вот в эту комнату,– говорит он мне, увлекая меня в один закуток, который был там, – я покажу тебе одну вещь, которую ты никогда не видела». Я следую за ним, он закрывает дверь и ставит меня прямехонько перед собой: «Посмотри-ка, Франсон, – говорит он, вытаскивая чудовищный член из своих штанов, от одного вида которого я чуть не лишилась чувств, – посмотри-ка, дитя мое, – продолжал он, потирая член, – видела ли ты когда-нибудь что-либо похожее на это?.. Это то, что называют член, моя крошка, да, член… Это служит для того, чтобы совокупляться, а то, что ты скоро увидишь, – то, что скоро потечет, называется семенная жидкость, из которой ты сотворена. Я показывал это твоей сестре, я показывал это всем маленьким девочкам твоего возраста; приводи же, приводи их ко мне, делай как твоя сестра, которая познакомила меня более чем с двадцатью из них… Я покажу им мой член и он встанет и брызнет прямо им в лицо… Это – моя страсть, дитя мое, я не делаю больше ничего другого… и ты это увидишь». И одновременно я почувствовала, как покрылась какой-то белой росой, которая облепила меня всю, несколько капель даже попали мне в глаза, потому что моя маленькая головка находилась как раз на уровне пуговиц его штанов. Тем временем Лоран жестикулировал: «Ах, какая прекрасная сперма… Какая прекрасная сперма, которая льется из меня, – кричал он, – ты вся уже ей покрыта!» Понемногу успокаиваясь, он положил свой инструмент на место и отправился восвояси, дав мне двенадцать су и советуя приводить к нему моих маленьких подружек. Как вы уже догадываетесь, я тотчас же поспешила пойти обо всем рассказывать сестре, которая очень тщательно обтерла меня, чтобы ничего не было заметно; за то, что помогла обрести мне это небольшое состояние, она не преминула попросить у меня половину моего заработка. Этот пример научил и меня; в надежде на подобный дележ, я не упустила случая поискать как можно больше маленьких девочек для отца Лорана. Когда я привела к нему одну, которую он уже знал, он отверг ее, и, давая мне три су, чтобы поощрить, сказал: «Я никогда не встречаюсь дважды, дитя мое; приводи ко мне тех, которых я не знаю, а не тех, которые тебе скажут, что они уже имели дело со мной». Я стала действовать лучше: за три месяца я познакомила отца Лорана более чем с двадцатью новыми девочками, с которыми он в свое удовольствие проделывал те же самые шутки, что и со мной. Договорившись выбирать для него только незнакомых, я соблюдала уговор, о котором он мне настоятельно напоминал, относительно возраста: он не должен был быть меньше четырех лет и больше семи. И дела мои шли как нельзя более удачно, когда вдруг моя сестра, замечая, что я пошла по ее стопам, пригрозила обо всем рассказать матери, если я не прекращу это милое занятие; на том я оставила отца Лорана.
И все же, поскольку мои обязанности постоянно приводили меня в окрестности монастыря, в тот самый день, когда мне исполнилось семь лет, я встретила нового любовника, причудливая страсть которого, хотя и довольно ребяческая, представлялась мне более серьезной. Этого человека звали отец Луи; он был старше Лорана и в обращении имел что-то гораздо более распутное. Он подцепил меня у дверей церкви, когда я входила туда, и пригласил подняться к нему в комнату. Сначала у меня возникла некоторые колебания, но когда он убедил меня, что моя сестра три года назад тоже поднималась, и что каждый день он принимал там маленьких девочек моего возраста, я пошла за ним. Едва мы оказались в его келье, как он тотчас же захлопнул дверь, и, налив сиропа в стакан, заставил меня выпить три стакана подряд. Исполнив это приготовление, преподобный отец, более ласковый, чем его собрат, принялся целовать меня и, заигрывая, развязал мою юбочку, подоткнув мою рубашку под корсет; несмотря на мое слабое сопротивление, он добрался до всех частей переда, которые только что обнажил; после того, как он хорошенько общупал и осмотрел их, он спросил меня, не хочу ли я пописать. Исключительно побуждаемая к этой нужде большой дозой напитка, которую он только что заставил меня выпить, я уверила его, что нужда моя сильна до крайности, но что мне не хотелось бы этого делать при нем. «О! Черт подери! Да, именно так, маленькая плутовка, – прибавил этот распутник. – О! Черт подери, именно так, вы сделаете это передо мной, более того, прямо на меня. Держите, – сказал он мне, вынимая свой член из штанов, – вот орудие, которое вы сейчас зальете; надо писать на него». С этими словами он взял меня и, поставив на два стула: одной ногой – на один, другой – на второй, раздвинул мне ноги как можно шире, потом велел присесть на корточки. Держа меня в таком положение он подставил под меня ночной горшок, устроился на маленьком табурете на уровне горшка, держа в руках свое орудие прямо под моей щелкой. Одной рукой он придерживал меня за бедра, другой тер свой член, а мой рот, который в таком положении был расположен рядом с его ртом, целовал. «Давай же, крошка моя, писай, – сказал мне он, – облей мой член волшебным ликером, теплое течение которого имеет такую власть над моими чувствами. Писай, сердце мое, писай и постарайся залить его». Луи оживлялся, возбуждался, нетрудно было заметить, что это единственное в своем роде действие более всего ласкало его чувства. Самый нежный экстаз завершался в тот самый момент, когда воды, которыми он мне наполнил желудок, вытекли с большой силой, и мы вместе одновременно наполнили один и тот же горшок: он – спермой, я – мочой. Когда операция была закончена, Луи сказал мне почти то же самое, что и Лоран; он хотел сделать сводницу из своей маленькой блудницы; на этот раз, нисколько не смущаясь угрозами моей сестрицы, я смело доставляла Луи всех детей, которых знала. Он заставлял всех делать одно и то же, и поскольку достаточно часто встречался с ними – по два-три раза – платил мне всегда отдельно, независимо от того, что я вытягивала из своих маленьких подруг; через шесть месяцев у меня в руках оказалась небольшая сумма, которой я распоряжалась по собственному усмотрению с одной лишь предосторожностью – скрывать все от моей сестры».
«Дюкло, – прервал на этом Председатель, – разве вас не предупреждали о том, что в ваших рассказах должны присутствовать самые значительные и одновременно самые мельчайшие подробности? Мельчайшие обстоятельства действенно служат тому, что мы ждем от ваших рассказов, – возбуждения наших чувств» – «Да, мой господин, – сказала Дюкло, – меня предупредили о том, чтобы я не пренебрегала ни одной подробностью и входила в самые мельчайшие детали каждый раз, когда они служили для того, чтобы пролить свет на характеры или на манеру. Разве я что-то упустила?» – «Да, – сказал Председатель, – я не имею никакого представления о члене вашего второго клиента, и никакого представления о его разрядке. А еще, тер ли он вам промежность, касался ли он ее своим членом? Вы видите, сколько упущенных подробностей!» – «Простите, – сказала Дюкло, – я сейчас исправлю эти ошибки и буду следить за собой впредь. У отца Луи был довольно заурядный член, скорее длинный, чем толстый, и вообще, очень расхожей формы. Я даже вспоминаю, что он достаточно плохо вставал и становился слегка твердым лишь в момент наивысшей точки. Он мне совершенно не тер промежность, он довольствовался тем, что как можно шире раздвигал ее пальцами, чтобы лучше текла моча. Он приближал к ней свою пушку очень осторожно: раза два-три, и разрядка его была слабой, короткой, без прочих бессвязных слов с его стороны, кроме: «Ах! Как сладко, писай же, дитя мое, писай же, прекрасный фонтан, писай же, писай, разве ты не видишь, что я кончаю?» И он перемежал все это поцелуями в губы, в которых не было ничего распутного.» – «Именно так, Дюкло, – сказал Дюрсе, – Председатель был прав; я не мог себе ничего вообразить из первого рассказа, а теперь представляю вашего человека».
«Минуточку, Дюкло, – сказал Епископ, видя, что она собирается продолжить, – я со своей стороны испытываю нужду посильней, чем нужда пописать; я уже достаточно терпел и чувствую, что надо от нее избавиться». С этими словами он притянул к себе Нарцисса. Глаза прелата извергали огонь, его член прилепился к животу; он был весь в пене, это было сдерживаемое семя, которое непременно хотело излиться и могло это сделать лишь жестокими средствами. Он уволок свою племянницу и мальчика в комнату. Все остановилось: разрядка считалась чем-то слишком важным; поэтому все приостанавливалось в тот момент, когда кто-нибудь хотел это сделать, и ничто не могло с этим сравниться. Но на этот раз природа не откликнулась на желания прелата, и спустя несколько минут после того, как он закрылся в своей комнате, он вышел разъяренный – в том же состоянии эрекции и, обращаясь к Дюрсе, который был ответственным за месяц, сказал, грубо отшвырнув от себя ребенка: «Ты предоставишь мне этого маленького подлеца для наказания в субботу и пусть оно будет суровым, прошу тебя». Тогда все ясно увидели, что мальчик не смог его удовлетворить; Юлия рассказала об этом тихонько своему отцу. «Ну, черт подери, возьми себе другого, – сказал Герцог, – выбери среди наших катренов, если твой тебя не удовлетворяет». – «О! Мое Удовлетворение сейчас слишком далеко от того, чего я желал совсем недавно, – сказал прелат. – Вы знаете, куда уводит нас обманутое желание. Я предпочитаю сдержать себя, но пусть не церемонятся с этим маленьким болваном, – продолжал он, – вот что я вам советую…» – «О! Ручаюсь тебе, он будет наказан, – сказал Дюрсе. – Хорошо, что первое наказание дает пример другим. Мне досадно видеть тебя в таком состоянии: попробуй что-нибудь другое». – «Господин мой, – сказала Ла Мартен, – я чувствую себя расположенной к тому, чтобы удовлетворить вас». – «А, нет, нет, черт подери, – сказал Епископ, – разве вы не знаете, что бывает столько случаев, когда тебя воротит от женской задницы? Я подожду, подожду. Пусть Дюкло продолжает, это пройдет сегодня вечером; мне надо найти себе такого, какого я хочу. Продолжай, Дюкло». И когда друзья от души посмеялись над распутной чистосердечностью Епископа («бывает столько случаев, когда тебя воротит от женской задницы!»), рассказчица продолжила свой рассказ такими словами:
«Мне только исполнилось семь лет, когда однажды я по привычке привела к Луи одну из своих маленьких подружек; я обнаружила в его келье еще одного монаха из того же монастыря. Поскольку такого никогда раньше не случалось, я была удивлена и хотела уже уйти, но Луи подбодрил меня, – и мы с моей подружкой смело вошли. «Ну вот, отец Жоффруа, – сказал Луи своему другу, подталкивая меня к нему, – разве я тебе не говорил, что она мила?» – «Да, действительно, – сказал Жоффруа, усаживая меня к себе на колени и целуя меня. – Сколько вам лет, крошка?» – «Семь лет, отче». – «Значит, на пятьдесят лет меньше, чем мне», – сказал святой отец, снова целуя меня. Во время этого короткого монолога готовился сироп и, по обыкновению, каждую из нас заставили выпить по три больших стакана подряд. Но поскольку я не имела привычки пить его, когда приводила свою добычу к Луи, а он давал сироп только той, кого я ему приводила, и, как правило, я не оставалась при этом, а тотчас же уходила, я была удивлена такой предупредительностью на сей раз, и самым наивным, невинным тоном сказала: «А почему вы и меня заставляете пить, отче? Вы хотите, чтоб я писала?» – «Да, дитя мое! – сказал Жоффруа, который по-прежнему держал меня, зажав ляжками и уже гладил руками мой перед. – Да мы хотим, чтобы вы пописали; это приключение вы разделите со мной, может быть, несколько иначе, чем то, что с вами раньше происходило здесь. Пойдемте в мою келью, оставим отца Луи с вашей маленькой подружкой. Мы соберемся вместе, когда сделаем все свои дела». Мы вышли; Луи тихонько меня попросил быть полюбезнее с его другом и сказал, что мне ни о чем не придется жалеть. Келья Жоффруа была несколько вдалеке от кельи Луи, и мы добрались туда, никем не замеченные. Едва мы вошли, как Жоффруа, хорошенько забаррикадировав дверь, велел мне снять юбки. Я подчинилась: он сам поднял на мне рубашку, задрав ее над пупком и, усадив меня на край своей кровати, раздвинул мне ноги как можно шире и продолжал наклонять меня назад так, что перед ним был весь мой живот, а тело мое опиралось лишь на крестец. Он приказал мне хорошенько держаться в этой позе и начинать писать тотчас же после того, как он легонько ударит меня рукой по ляжкам. Поглядев с минуту на меня в таком положении и продолжая одной рукой раздвигать мне влагалище, другой рукой он расстегнул свои штаны и начал быстрыми и резкими движениями трясти маленький, черный, совсем чахлый член, который, казалось, был не слишком расположен к тому, чтобы отвечать на то, что требовалось от него. Чтобы определить его задачу с большим успехом, наш муж принялся за дело, прибегнув к своему излюбленному способу, который доставлял ему наиболее чувствительное наслаждение: он встал на колени у меня между ног, еще мгновение глядел внутрь отверстия, которое я ему предоставила, несколько раз прикладывался к нему губами, сквозь зубы бормоча какие-то сладострастные слова, которых я не запомнила, потому что не понимала их тогда, и продолжал теребить свой член, который от этого ничуть не возбуждался. Наконец, его губы плотно прилипли к губам моей промежности, я получила условный сигнал, и, тотчас же обрушив в рот этого типа избыток моего чрева, залила его потоками мочи, которую он глотал с той же быстротой, с какой я изливала ее ему в глотку. В этот момент его член распрямился, и его головка уперлась в одну из моих ляжек. Я почувствовала, как он гордо орошает ее слабыми толчками своей бесплодной мощи. Все так отлично совпало, что он глотал последние капли в тот самый момент, когда его член, совершенно смущенный своей победой, оплакивал ее кровавыми слезами. Жоффруа поднялся, шатаясь. Он достаточно резко дал мне двенадцать су, открыл мне дверь, не прося как другие, приводить к нему девочек (судя по всему, он доставал их себе в другом месте), и, показав дорогу к келье своего друга, велел мне идти туда, сказав, что, поскольку он торопится на службу, то не может меня проводить; затем закрылся в келье так быстро, что не дал мне ответить.»
«Да, действительно, – сказал Герцог, – есть много людей, которые совершенно не могут пережить миг утраты иллюзий. Кажется, их гордость может пострадать от того, что они позволят женщине увидеть себя в подобном состоянии слабости, и что отвращение рождается от смущения, которое они испытывают в этот момент». – «Нет, – сказал Кюрваль, которого возбуждал Адонис, стоя на коленях, и который руками ощупывал Зельмиру, – нет, мой друг, гордость здесь ни при чем; предмет, который по сути своей не имеет никакой ценности, кроме той, которую ему придает ваша похоть, предстает совершенно таким, каков он есть, когда наша похоть угасла. Чем неистов ее было возбуждение, тем безобразнее выглядит этот предмет, когда возбуждение больше не поддерживает его, точно так же, как мы бываем более или менее утомлены в силу большего или меньшего числа исполненных нами упражнений; отвращение, которое мы испытываем в этот момент, всего лишь ощущение пресыщенной души, которой претит счастье, поскольку оно ее только что утомило!» – «Но все же из этого отвращения, – сказал Дюрсе, – часто рождается план мести, мрачные последствия которого приходилось видеть». – «Ну, это другое дело, – сказал Кюрваль. – А поскольку серия этих повествований, возможно, даст нам примеры того, о чем вы говорите, не будем спешить с рассуждениями, пусть эти факты предстанут сами собой». – «Председатель правильно говорит, – сказал Дюрсе. – Когда ты находишься накануне того, чтобы пуститься в блуд, ты предпочтешь готовить себя к предстоящей радости, а не будешь рассуждать о том, как испытывают отвращение.» – «Ставим точку… больше ни слова, – сказал Кюрваль. – Я совершенно хладнокровен… Весьма очевидно, – продолжал он, целуя Адониса в губы, – что это дитя очаровательно… но им нельзя овладеть, я не знаю ничего хуже ваших законов,.. Надо ограничиться некоторыми вещами… Давай, давай, продолжай, Дюкло, поскольку я знаю, что наделаю глупостей, и хочу, чтобы моя иллюзия продержалась хотя бы до того момента, когда я лягу в постель». Председатель, который видел, что его оружие начинает бунтовать, отправил двух детей назад и снова улегся подле Констанс, которая, какой бы несомненно привлекательной она ни была, все же не слишком возбуждала его; он опять призвал Дюкло продолжать, и она тотчас подчинилась, говоря так: