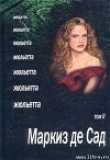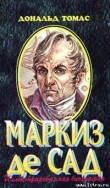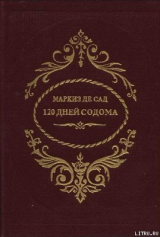
Текст книги "120 дней Содома"
Автор книги: Донасьен Де Сад
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
И действительно, никто еще не видел, чтобы Гиацинт занимался такими вещами; его считали слишком юным, чтобы у него получилось; но ему было полных четырнадцать лет, это возраст, когда природа имеет обыкновение одаривать своими милостями, и не было ничего более обыкновенного, чем победа, которую одержал Епископ. Тем временем все захотели удостовериться н этом факте, и так как каждый хотел быть свидетелем события, все уселись полукругом вокруг мальчика. Огюстин, самая знаменитая качальщица в серале, получила приказ мастурбировать ребенка на виду у всего собрания, а молодой человек получил разрешение щупать ее и ласкать в той части тела, в какой пожелает; никакое зрелище не могло быть более сладострастным, чем вид молодой пятнадцатилетней девушки, прекрасной, как день, отдающейся ласкам юного мальчика четырнадцати лет и побуждающей его к извержению семени путем самого прелестного рукоприкладства. Гиацинт, может быть, по велению природы, но более вероятно, с помощью примеров, которые у него были перед глазами, трогал, щупал и целовал только прекрасные маленькие ягодицы качалыцицы, и через минуту его красивые щеки окрасились, он два или три раза вздохнул, и cm хорошенькая пушка выбросила на три фута от него пять или шесть струек маленького фонтана семени, нежного и белого как сметана, которые упали на ляжку Дюрсе, сидевшего ближе всего к нему; тот заставлял Нарцисса качать себе, следя за операцией. Уверившись, как следует, в факте извержения, обласкали и перецеловали ребенка со всех сторон; каждый хотел получить маленькую порцию юной спермы, и так как показалось, что в его возрасте для начала шесть извержений не будет слишком много, к двум, которые он только что сделал, наши развратники заставили его присоединить каждый по одной, которые он им пролил в рот. Герцог, разгоревшийся от такого зрелища, овладел Огюстин.
Было поздно, они были вынуждены отменить послеобеденный отдых и перейти в залу для историй, где их ждала Дюкло. Едка только все устроились, она продолжила рассказ о своих приключениях следующими словами:
«Я уже имела честь говорить вам, господа, что трудно охватить, все пытки, которые человек изобретает против самого себя, чтобы снова найти – в унижении или болях – искры наслаждения, которые возраст или пресыщенность отняли у него. Поверите ли, один из таких людей, человек шестидесяти лет, удивительно равнодушный ко всем наслаждениям похоти, возбуждал их в своих чувствах, только заставляя обжигать себе свечой все части тела – главным образом те, которые природа предназначила для этих наслаждений. Ему с силой гасили свечу о ягодицы, о член, об яйца и в особенности в дыре зада; в это самое время он целовал чью-либо задницу, и когда в пятнадцатый или двадцатый раз болезненная операция возобновлялась, извергал семя, сося анус, который ему подавала его прижигательница.
Я видела еще одного человека, который вынуждал меня пользоваться лошадиным скребком и скоблить его им по всему телу так, как поступили бы с животным, которого я только что назвала. Как только его тело было в крови, я натирала его винным спиртом, и вторая боль заставляла его обильно извергнуть семя мне в глотку: таково было поле брани, которое он хотел оросить своим семенем. Я становилась на колени перед ним, упирала его орудие в мои сосцы, и он непринужденно проливал туда едкий излишек своих яичек.
Третий заставлял меня вырывать, волосок за волоском, всю шерсть из своего зада. Во время операции он поедал совсем еще теплое дерьмо, которое я ему только что сделала. Затем, когда условное «черт» сообщало мне о приближении кризиса, нужно было, дабы ускорить процесс, бросать в каждую половину зада ножницы, от которых у него начинала идти кровь. Вся задница у него была, в результате, покрыта ранами; и я с трудом могла найти хоть одно нетронутое место, чтобы нанести свежие; в этот момент его нос погружался в дерьмо, он вымазывал в нем свое лицо, и потоки спермы венчали его экстаз.
Четвертый клал мне хобот в рот и приказывал, чтобы я его кусала изо всех сил. В это время я раздирала ему обе половины задницы железным гребнем с очень острыми зубьями, затем, в тот момент, когда я чувствовала, что его оружие готово расплавиться, о чем мне сообщала очень слабая и легкая эрекция, необыкновенно сильно раздвигала ему ягодицы и приближала дырку его зада к пламени свечи, помещенной с этой целью на полу. И только после того, как он ощущал жжение этой свечи в своем анусе, совершалось извержение; я удваивала укусы, и мой рот скоро оказывался полным.»
«Минутку, – сказал Епископ, – сегодня я в который раз слышу, как говорят о разгрузке, сделанной в рот; это расположило мои чувства к удовольствиям такого же рода.»
Говоря это, он привлек к себе «Струю-в-Небо», который стоял на страже возле него в этот вечер, и принялся сосать ему хобот со всей похотливостью голодного малого. Семя вышло, он заглотил его и вскоре возобновил ту же операцию над Зефиром. Он был возбужден, и это состояние не приносило ничего хорошего женщинам, если те попадали ему под руку. К несчастью, в таком положении оказалась Алина, его племянница.
«Что ты здесь делаешь, потаскушка, – спросил он у нес, – когда я хочу мужчин?»
Алина хотела увернуться, но он схватил ее за волосы и увлек в свой кабинет вместе с Зельмир и Эбе, двумя девочками из ее сераля: «Вы увидите, – сказал он своим друзьям, – как я сейчас научу этих бездельниц не путаться под ногами, когда мне хочется члена.»
Фаншон по его приказу последовала за тремя девственницами, и через мгновение все ясно услышали, как кричит Алина, и рев разгрузки монсеньора соединился с жалобными звуками его дорогой племянницы. Они вернулись… Алина плакала, держась руками за задницу. «Покажи-ка мне это! – сказал ей Герцог. – Я безумно люблю смотреть на следы жестокости моего брата.»
Алина показала пострадавшее место, и Герцог вскричал: «Ах! Черт, это прелестно! Я думаю, что сделаю сейчас то же самое.»
Но после того, как Кюрваль заметил ему, что уже поздно и что у него есть особый план развлечения, который требовал и его головы, и его семени, все попросили Дюкло продолжать пятый рассказ, которым должен был завершиться вечер.
«В числе необыкновенных людей, – сказала наша прекрасная Девушка, – мания которых заключалась в том, чтобы позорить и унижать себя, был некий председатель Казначейства, которого звали Фуколе. Невозможно представить себе, до какой степени этот человек доводил эту страсть; нужно было совершать над ним образчики всех известных казней. Я вешала его, но веревка вовремя обрывалась, и он падал на матрацы; спустя минуту растягивала его на кресте Святого Андрея и делала вид, что отрезаю ему члены при помощи картонного меча; я ставила ему клеймо на плечо почти горячим железом, которое оставляло, впрочем, легкий отпечаток; я хлестала его по спине, как это делает палач. Все это нужно было перемежать ругательствами и горькими упреками в различных преступлениях, за которые он в одной рубашке и с восковой свечкой в руке униженно испрашивал прощения у Бога и у Правосудия. Наконец, представление заканчивалось на моей заднице, где этот развратник терял свое семя, когда его голова была в последней стадии накала.»
«Ну, хорошо! Теперь-то ты дашь мне спокойно разгрузиться, когда Дюкло закончила? – спросил Герцог у Кюрваля.» – «Нет, нет, – сказал Председатель, – побереги семя; я говорю тебе, что мне оно нужно для оргий.» – «О! Я к твоим услугам, – сказал Герцог, – ты принимаешь меня за изношенного человека и воображаешь, что то малое семя, которое я сейчас потеряю, заставит меня сдаться перед гнусностями, которые тебе взбредут в голову через четыре часа? Не бойся, я буду всегда готов; но моему брату было угодно дать мне здесь маленький урок жестокости, который я весьма охотно повторил бы с Аделаидой, твоей дорогой и любезной дочерью.»
И, толкая ее в кабинет вместе с Терезой, Коломб и Фанни, женщинами из ее катрена, он совершил то же, что Епископ сделал раньше со своей племянницей. Все услышали ужасный крик юной жертвы и вой прелюбодея. Кюрваль захотел решить, кто из двоих братьев вел себя изящнее; он заставил приблизиться к себе двух женщин и, осмотрев обе задницы, решил, что Герцог оставил более заметные следы пребывания.
Все если за стол и, начинив при помощи какого-то снадобья газами внутренности всех подданных, мужчин и женщин, после ужина сыграли в «пукни-в-рот.» Друзья – все четверо – лежали на спине на диванах, с поднятой головой, и каждый по очереди подходил пукать им в рот; Дюкло было поручено подсчитывать очки, и так как к услугам господ было тридцать шесть пукальщиков и пукалыциц, каждый получил до ста пятидесяти пуков. Именно для этой-то церемонии Кюрваль и хотел, чтобы Герцог поберег себя, но это было совершенно излишне: он был слишком развращен, чтобы новая забава утрудила его, и это не помешало ему во второй раз извергнуть семя на мягкие ветры Фаншон. Для Кюрваля это были пуки Антиноя, которые стоили ему семени, тог-па как Дюрсе потерял свое, ободренный пуками Ла Мартен, а Епископ – свое, возбужденный пуками Ла Дегранж.
Двадцать шестой день
Поскольку ничто для наших друзей не было более сладостно, чем наказания, и ничто не обещало им столько удовольствий, они придумывали все, чтобы заставить подданных впасть в ошибки, которые доставили бы им сладострастие от последующего наказания. Для этой цели, собравшись нынешним утром, они добавили в устав различные статьи, нарушение которых должно было при необходимости повлечь за собой наказания. Сначала категорически было запрещено супругам, молодым мальчикам и девочкам пукать куда-нибудь, кроме как в рот друзей; как только их охватит это желание, нужно было немедленно пойти, найти какой-нибудь рот и отправить в него все, что они имели; позорное наказание было наложено на нарушителей. Так же было запрещено пользование ночными умывальниками и подтирками зада: всем было приказано без какого-либо исключения никогда не мыться и никогда и нигде не подтирать своего зада после стула; если чей-то зад будет найден чистым, нужно будет, чтобы подданный доказал, что его вычистил один из друзей и назвал его имя. Пользуясь этим названный друг имел возможность легко отрицать факт, когда он того захочет, что обеспечило ему сразу два удовольствия: вытереть чей-нибудь зад языком и наказать подданного, который только что доставил это удовольствие… Мы еще увидим примеры, это подтверждающие.
Затем была введена новая церемония: с самого утра, во время кофе, как только друзья входили в спальню мальчиков, каждый из подданных должен был, один за другим подойти ко всем четверым друзьям и сказать громким и внятным голосом: «Мне насрать на Бога! Не желаете ли моей задницы? Есть дерьмо!»
Те, кто не произносил богохульство и предложение громким голосом, должны были быть немедленно записаны в роковую книгу. Легко представить себе, как трудно было набожной Аделаиде и ее юной ученице Софи произносить такие гнусности; именно это бесконечно развлекало друзей. Установив все это, они поощрили доносы, этот варварский способ умножать притеснения, принятый у тиранов; он был принят с распростертыми объятиями. Было решено, что всякий подданный, который принесет жалобу на другого, заработает уничтожение половины наказания за первую допущенную им ошибку; это совершенно ни к чему не обязывало, потому что подданный, который приходил обвинять другого, никогда не знал, какое он заслужил наказание, половину которого, как его уверяли, он отработал; пользуясь этим, было очень легко оставить ему наказание и уверить его, что он – в выигрыше. Было обнародовано, что доносу будут верить без доказательств и что достаточно быть обвиненным неважно кем, чтобы быть немедленно записанным. Кроме того увеличили власть старух, и по их малейшей жалобе, справедливой или нет, подвластный немедленно осуждался. Одним словом, над маленьким сообществом были установлены все притеснения и несправедливости, какие только можно себе представить. Сделав это, друзья посетили уборные. Коломб оказалась виновной; она оправдывалась тем, что ее заставили съесть накануне между сдой какое-то снадобье, чтобы она не могла воспротивиться; она чувствовала себя очень несчастной, так как вот уже четвертую неделю подряд ее наказывали. Дело обстояло именно так, и следовало обвинить только ее зад, который был самый свежий, самый стройный и самый милый, который только можно было встретить. Дюрсе лично осмотрел ее зад, и после того, как у нее действительно был найден большой прилипший кусок дерьма. Ее уверили, что с ней обойдутся с меньшей строгостью. Кюрваль, который возбудился, овладел ею и полностью вытер ей анус; он заставил принести себе испражнения, которые съел, заставляя ее качать себе член и перемежая еду энергичными поцелуями в рот с требованиями проглатывать, в свою очередь, остатки, которые он ей возвращал от ее собственного изделия. Они навестили Огюстин и Софи, которым было велено после испражнений, сделанных накануне, оставаться в самом грязном состоянии. Софи была в порядке, хотя она спала у Епископа, как требовало ее положение, но Огюстин была необыкновенно чиста. Уверенная в себе, она гордо вышла вперед и сказала то, что всем было известно: мол, она спала, следуя своему обыкновению, у господина Герцога и перед тем, как заснуть, он заставил ее прийти к нему в постель, где обсосал ей дыру в заду, пока она ему восстанавливала член своим ртом. Спрошенный Герцог сказал, что он не помнит об этом (хотя это было ложно), что он заснул с хоботом в заду у Дюкло, так что можно было призвать ее в свидетельницы; послали за Дюкло, которая, хорошо видя, о чем шла речь, подтвердила рассказанное Герцогом, и сказала, что Огюстин была позвана только на одну минуту в кровать к монсеньору, который и насрал ей в рот. Огюстин настаивала на своем и оспорила Дюкло, но ей велел молчать, и она была записана, хотя была совершенно невиновна. Потом зашли к мальчикам, где Купидон был пойман с поличным: О н отложил в свой ночной горшок самый прекрасный кал. Герцог накинулся на него и проглотил все сразу, пока молодой человек сосал ему орудие любви. Были отменены вообще разрешения испражняться, и все перешли в столовую. Прекрасная Констанс, которую иногда освобождали от прислуживания по причине ее положения, почувствовав себя хорошо в этот день, появилась голая, и ее живот, который начинал понемногу раздуваться, вскружил голову Кюрвалю; он начал сжимать довольно грубо в руках ягодицы и грудь этого бедного создания, поэтому ей было позволено больше не появляться в этот день во время рассказов. Кюрваль снова принялся говорить гадости про несушек и заверил, что будь его воля, он бы установил закон острова Формозы, где беременные женщины менее тридцати лет толклись в ступке вместе со своим плодом; когда бы заставили следовать этому закону во Франции, в ней стало бы в два раза больше народу.
Перешли к кофе. Он подавался Софи, Фанни, Зеламиром и Адонисом, но очень необычным образом: они давали его проглатывать своим ртом. Софи прислуживала Герцогу, Фанни – Кюрвалю, Зеламир – Епископу, а Адонис – Дюрсе. Они набирали полный рот кофе, полоскали им внутреннюю полость и в таком виде выливали в глотку того, кому прислуживали. Кюрваль, который вышел из-за стола очень разгоряченный, снова возбудился от этой церемонии и по окончании ее овладел Фанни и извергнул ей в рот семя, приказывая глотать под страхом самых серьезных наказаний, что несчастный ребенок и сделал, не моргнув глазом. Герцог и два его друга заставили детей пукать и срать им в рот. Отдохнув после обеда, все пришли слушать Дюкло, которая принялась за продолжение своих рассказов:
«Я быстро пробегусь, – сказала эта любезная девушка, – по Двум последним приключениям, которые мне остается вам рассказать, о странных людях, находящих свое сладострастие только в боли, которую они заставляют себя испытывать; потом мы поменяем тему, если вы найдете это угодным. Первый, пока я его возбуждала, был совсем голый, он хотел, чтобы через дыру, проделанную в потолке, на нас лили все время, которое должно было продолжаться это занятие, потоки почти кипящей воды. Напрасно я объясняла ему, что не имея той же страсти, я окажусь, как и он, ее жертвой; он уверил меня в том, что я не почувствую никакого неудобства и что эти обливания полезны для здоровья. Я ему побрила и позволила так сделать; так как это происходило у него дома, я не знала о степени нагретости воды – она была почти кипящей. Вы не можете себе представить удовольствие, которое он испытал. Что до меня, то, продолжая обслуживать его, я кричали признаюсь вам, как ошпаренный кот; моя кожа потом облупилась, и я обещала себе больше никогда не возвращаться к этому человеку.»
«Ах! Черт возьми, – сказал Герцог, – меня берет желание ошпарить таким образом прекрасную Алину.» – «Монсиньор, – смиренно ответила та, – я не поросенок.»
После того, как наивная откровенность ее детского ответа заставила всех засмеяться, друзья спросили у Дюкло, каким был второй пример, который она хотела привести.
«Он совсем не был таким же тягостным для меня, – сказала Дюкло, – требовалось лишь защитить руку хорошей перчаткой, затем взять этой перчаткой гравий со сковороды, стоявшей на жаровне, и натереть моего клиента им от затылка до самых пяток. Его тело было таким привычным к этому упражнению, что, казалось, это была дубленая шкура. Когда мы дошли до орудия, нужно было взять его и качать в пригоршне горячего песка; он очень быстро возбуждался; другой рукой я клала под его яички красную от жара лопатку, нарочно приготовленную для этой цели. Это натирание и этот жар, который пожирал его тестикулы и, может быть, немного прикосновений к моим ягодицам, которые я должна была всегда держать на самом виду, заставляло его спускать; он делал это, тщательно заботясь о том, чтобы его сперма текла на красную лопатку, с наслаждением наблюдая за тем, как она сгорает.» – «Кюрваль, – сказал Герцог, – этот человек, мне кажется, любил человечество не более, чем ты.» – «Мне тоже так кажется, – сказал Кюрваль, – не скрою, что мне понравилась мысль сжигать свое семя.» – «О! Я отлично вижу, сколько наслаждения она тебе доставляет, – сказал Герцог, – ты бы его сжег с тем же удовольствием, не правда ли?»
– «Клянусь честью, я этого сильно боюсь, – сказал Кюрваль, совершая нечто с Аделаидой, от чего она в ответ громко закричала.» – «С чего это ты? – спросил Кюрваль у своей дочери. – Так орать… Разве ты не видишь, что Герцог говорит мне о том, как сжигать распускающееся семя; и что есть ты, скажи, пожалуйста, как не капля семени, распустившегося при выходе из моих яичек? Ну же, продолжайте, Дюкло, – добавил Кюрваль, – потому что я чувствую, что слезы этой непотребной девки побудят меня извергнуть еще раз, а я этого не хочу.»
«Теперь мы, – сказала Дюкло, – остановимся на подробностях, которые понравятся вам, может быть больше. Вы знаете, что я Париже есть обычай выставлять мертвецов у дверей домов. Был на свете один человек, который платил мне двенадцать франком за каждое посещение такого покойника. Все его сладострастие состояло в том, чтобы приблизиться к гробу как можно ближе, к самому краю; я должна была качать ему таким образом, чтобы его семя извергалось в гроб. И так мы обходили три или четыре места за вечер, в зависимости от того, сколько мне удавалось обнаружить; мы совершали со всеми операцию, он трогал мне задницу, я ему качала. Это был мужчина около тридцати лет, я поддерживала с ним связь более десяти лет; за это время, я уверена, заставила его залить спермой более, чем две тысячи гробов.»
«Говорил ли он что-нибудь во время своей операции? – спросил Герцог. – Обращался ли он с какими-то словами к вам или к мертвецу?» – «Он осыпал бранью умершего, – ответила Дюкло, – он говорил ему: «Постой, мошенник! Постой, плут! Постой, злодей! Забери мое семя с собой в преисподнюю!» – «Вот уж странная мания, – сказал Кюрваль.» – «Мой друг, – сказал Герцог, – будь уверен, что этот человек был одним из наших и что он на »этом, разумеется, не останавливался.» – «Вы правы, монсиньор, – сказала Ла Мартен, – и у меня будет случай представить вам еще раз этот персонаж.»
Дюкло, пользуясь тишиной, продолжала так:
«Другой гость, фантазии которого шли дальше, хотел, чтобы я имела лазутчиков в деревне, чтобы предупреждать его каждый раз, когда хоронили на каком-нибудь кладбище молодую девушку, умершую без опасной болезни (это было условие, которое он требовал соблюдать). Как только я находила усопшую, он платил очень дорого за находку, и мы отправлялись вечером на кладбище, к яме, указанной лазутчиком, земля которой была свежеперекопанная; мы оба быстро раскапывали труп; как только он мог до него дотронуться, я начинала качать член, пока он ощупывал труп со всех сторон, в особенности, ягодицы. Иногда, возбуждаясь во второй раз, он срал и заставлял меня срать на труп, по-прежнему ощупывая те части тела, которые мог достать.»
«О! В этом деле я знаю толк, признаюсь, мне приходилось заниматься подобным несколько раз в моей жизни. Правда, я добавлял к тому несколько эпизодов, о которых еще не время рассказывать… Как бы там ни было, она меня возбуждает; раздвиньте ваши ляжки, Аделаида… «Диван прогнулся под тяжестью тел, и господин Председатель совершил инцест. «Председатель, – спросил Герцог, – держу пари, тебе казалось, будто она мертва?» – «Да, по правде говоря, – сказал Кюрваль, – так как я бы без этого не кончил.»
Дюкло, видя, что никто не берет больше слова, так закончила свой рассказ:
«Для того, чтобы не оставлять вас, господа, в таком унылом настроении, я закрою свой вечер рассказом о страсти герцога де Бофор. Этот молодой сеньор, которого я забавляла пять или шесть, раз и который для той же цели часто навещал одну из моих подруг, требовал, чтобы женщина, вооруженная годмише, голая качала самой себе перед ним: и спереди, и сзади, три часа подряд без перерыва. Перед вами ставились часы, чтобы вы не сбились; если вы прекращаете это занятие до полного истечения третьего часа, вам ничего не заплатят. Он же – перед вами и наблюдает за вами, поворачивает то в одну, то в другую сторону и требует от вас, чтобы вы лишились чувств от наслаждения; если вам в действительности случится потерять сознание посреди удовольствия, очень вероятно, что вы ускорите и его финал. В противном случае, ровно в то самое время, когда часы пробьют третий час, он подойдет к вам и извергнет вам в лицо.»
«Клянусь моей верой, – сказал Епископ, – я не знаю, почему, Дюкло, ты не предпочла оставить нас в предшествующих историях. В них было что-то привлекательное, что нас весьма возбуждало, а эта слащавая пресненькая страсть, которой ты заканчиваешь вечер, ничего не оставляет у нас в голове.» – «Она поступила правильно, – сказала Жюли, которая сидела рядом с Дюрсе. – Что касается меня, то я ей за это благодарна, это позволит всем лечь спать более спокойными, когда не будет в голове гадких мыслей, которые рождают рассказы мадам Дюкло.» – «А! Это не спасет вас, прекрасная Жюли! – сказал Дюрсе. – Не стоит забывать о прошлом, но и настоящим не нужно пренебрегать. Поэтому соблаговолите следовать за мной.» И Дюрсе бросился в свой кабинет, прихватив заодно и Софи. Кому из них пришлось тяжелее, неизвестно, но Софи издала ужасный крик и вернулась красная, как петушиный гребень.
«О! Что касается этой, – сказал Герцог, – у тебя не было нужды принимать ее за мертвую, так как своей бледностью она походит на смерть!» – «Она кричала от страха, – сказал Дюрсе, – спроси у нес, что я ей сделал и прикажи сказать это тебе совсем тихо.» Софи приблизилась к Герцогу, чтобы ему это сказать. «Ах! – сказал тот разочарованно. – В том не было ничего сверхъестественного.»
Позвонили на ужин, друзья прервали все разговоры, чтобы пойти воспользоваться наслаждениями стола. Оргии были отслужены с достаточным спокойствием, и все легли добродетельно, так что не было даже никаких признаков опьянения, что было чрезвычайной редкостью.
Двадцать седьмой день
С самого утра начались доносы, разрешенные с предыдущего дня, и султанши, заметив, что не хватало только Розетты для того, чтобы они были все восьмером наказаны, не преминули пойти и обвинить се. Они заверили, что она пропукала всю ночь, и так как ее поступок был для остальных девушек оскорбителен, она восстановила против себя весь сераль и была немедленно записана в книгу. Все остальное прошло чудесно и, за исключением Софи и Зельмир, которые слегка запинались, друзья были встречены новым приветствием: «Черт возьми, говенный боже! Не хотите ли моей жопы? Там есть говно.» И действительно, оно было повсюду, так как старухи забрали всякий горшок, всякую салфетку и воду. Мясная диета без хлеба начинала воспламенять эти маленькие рты, которые совсем не полоскались; в этот день было замечено, что у детей было большое различие в дыханиях. «Ах, зараза! – воскликнул Кюрваль, облизывая Огюстин. – Теперь, по крайней мере, Она чего-то стоит! Возбуждается, когда целуешь ее!» Все единодушно согласились, что стало несравненно лучше. Так как до кофе не произошло ничего интересного, мы и перенесем читателя сразу к нему. Его подавали Софи, Зельмир, Житон и Нарцисс. Герцог сказал, что совершенно уверен, что Софи должна была извергнуть и что абсолютно необходимо было в этом убедиться. Он попросил Дюрсе наблюдать и, положив ее на диван, стал ее осквернять по краям влагалища, в клиторе, в заднем проходе – сначала пальцами, затем языком. Природа восторжествовала: не прошло и четверти часа, как эта прекрасная девушка смутилась, стала красной, вздохнула; Дюрсе указал на все эти изменения Кюрвалю и Епископу, которые не могли поверить, что она вот-вот извергнет; что касается Герцога, то этот молодой маленький дурачок намок со всех сторон: маленькая плутовка намочила ему все губы своим семенем. Герцог не мог устоять перед похотливостью своего опыта; он встал и, склонившись над девочкой, ввел пальцами сперму вовнутрь влагалища так далеко, как мог. Кюрваль с головой, разгоряченной этим зрелищем, схватил Софи и потребовал кое-что еще кроме семени; девочка предложила ему свой красивый зад; Председатель приставил к нему рот… Умный читатель без труда угадал, что тот получил. В это время Зельмир, взяв в рот, забавляла Епископа, а он качал ей задний проход. Одновременно Кюрваль, заставлял качать себе Нарцисса, задницу которого он с жадностью целовал. Тем не менее, только Герцог сумел потерять свое семя: Дюкло объявила на этот вечер еще более милые рассказы, чем предыдущие, и все хотели поберечь себя для того, чтобы их услышать. Время настало; вот как стала изъясняться эта интересная девица:
«Один человек, ни окружения, ни существования которого я никогда не знала и которого я смогу, вследствие этого, обрисовать очень несовершенно, упросил меня по записке явиться к нему в девять часов вечера на улицу Бланш-дю-Рампар. Он уведомлял меня, что не имел дурных намерений и что, хотя он не знаком со мной, у меня не будет повода жаловаться на него. Письмо сопровождалось двумя луидорами; несмотря на свою обыкновенную осторожность, которая, конечно, должна была заставить меня воспротивиться этому приглашению, так как я не знала того, кто меня заставлял нанести визит, я, тем не менее, решилась, совершенно доверившись не знаю уж какому предчувствию, которое, казалось, очень тихо подсказывало, что мне нечего бояться. Я являюсь, и после того как слуга предупредил меня, чтобы я полностью разделась и что только в таком виде он сможет ввести меня в покои своего господина, исполняю приказание; как только он видит меня в желаемом виде, он берет меня за руку и, проведя через две или три комнаты, наконец, стучит в какую-то дверь. Она открывается, я вхожу, слуга удаляется; дверь закрывается, однако между печью и тем местом, куда я была введена, не было ни малейшей разницы: ни свет, ни воздух не проникали в это помещение ни с одной стороны. Едва я вошла, какой-то голый человек подошел ко мне и схватил меня, не произнося ни единого слова; я не теряю присутствия духа, убежденная, что все это клонится к потере небольшого количества семени, которое требовалось пролить для того, чтобы оправдать этот ночной обряд: я подношу руку к низу его живота с целью заставить чудовище побыстрее потерять свой яд, делавший его таким злым. Я нахожу хобот очень толстым, ужасно твердым и чрезвычайно упрямым и шаловливым; через мгновение мои пальцы отводятся; кажется, он не желает, чтобы я прикасалась к нему; меня сажают на табурет. Неизвестный помещается напротив меня и, схватив мои сосцы один за другим, сжимает и сдавливает их с такой силой, что я ему грубо говорю: «Вы мне делаете больно!» Тогда он перестает, поднимает меня, укладывает плашмя на высокий диван и, усевшись между моих ног сзади, начинает делать с моими ягодицами то, что только что делал с моей грудью: их щупают и сдавливают с неистовством, с беспримерным бешенством, раздвигают, снова сжимают, их валяют, целуют, покусывая, сосут отверстие в моем заду, и так как эти сжимания, много раз возобновляемые, представляют меньшую опасность с этой стороны, чем с другой, я не противлюсь ничему, давая ему делать с собой все, что он хочет, и пытаясь угадать, какой могла быть цель этой тайны, если вещи оказались такими простыми; вдруг я слышу, как мой человек испускает ужасные крики: «Спасайся, пропащая дрянь! Спасайся, – кричит он мне, – спасайся, беспутная девка! Я кончаю и не отвечаю за твою жизнь.» Вы охотно верите, что моим первым движением было вовремя дать деру; слабый луч предстал передо мной: это был луч света, впускаемый дверью, через которую я вошла; я бросаюсь туда, нахожу слугу, который меня встретил, бросаюсь в его объятия, он возвращает мне мое платье, даст мне два луидора, и я удираю, очень довольная, что так дешево отделалась.»
«Вам следовало поздравить себя, – сказала Ла Мартен, – так как это было лишь жалкое подобие его обыкновенной страсти. Я покажу вам того человека, господа, – продолжала она, – в более опасном обличье.» – «Не в таком роковом, как то, в котором представлю его я господам, – добавила Ла Дегранж, – и я присоединяюсь к мадам Ла Мартен, чтобы заверить вас, что вам чрезвычайно повезло, что вы легко отделались; этот человек имел и другие страсти, гораздо более странные.» – «Хорошо, подождем, чтобы об этом судить, узнав всю его историю, – сказал Герцог. – Поспеши, Дюкло, рассказать нам какую-нибудь другую для того, чтобы убрать из памяти этого отъявленного негодяя.»