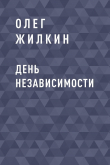Текст книги "Летописец. Книга перемен. День ангела (сборник)"
Автор книги: Дмитрий Вересов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 80 страниц) [доступный отрывок для чтения: 29 страниц]
* * *
Лунин, революцией мобилизованный и призванный, как и многие молодые люди его поколения, в отличие от многих оказался хорошим организатором и смелым воином. Поэтому к своим тридцати годам он готовился стать командиром дивизии. После взятия Киева полк Лунина остался в городе. Александр Бальтазарович ожидал повышения, и пока неясно было, что последует за этим повышением: останется ли он в Киеве, отправят ли его к неспокойной польской границе или против Врангеля в Крым, к Перекопу. Перекоп уже штурмовали, но его не удалось взять с налету.
По сравнению с походными неурядицами, тяжелыми боями, потерями служба в Киеве казалась отдыхом: была не в пример спокойнее и сытнее. Появилось немного свободного времени. Лунин, в течение долгих месяцев мечтавший о досуге, чтобы посвятить его занятиям живописью, даже и не вспомнил о своей мечте. В свободные часы он бродил, напрасно надеясь на встречу с Марией, и ругал себя, понимая, что уподобился романтическому подростку. Но ничего не мог с собою поделать. В «ХЛАМе» Мария больше ни разу не появлялась, где она живет, он не знал.
Собственно, встретить-то ее оказалось легче легкого. Нужно только зайти в ЧК, где приходилось бывать по долгу службы, и заглянуть под лестницу, в каморку письмоводителя. Там чаще всего и сидела теперь Мария и копировала какие-то бумаги за одним столом с бывшим аптекарем Гинцманом, который тут же деликатно испарялся, как только Лунин заглядывал в дверь, – дуэнья из старого Наума получилась никакая.
Александр Бальтазарович, из побуждений деликатности опасаясь расспрашивать Марию о чем-либо, рассказывал ей о себе. О том, что на самом-то деле он человек глубоко штатский, но любит перемену мест и не очень любит толпы человеческие. Поэтому его и потянуло к занятиям геологией. Он рассказывал ей, как после окончания института служил в Геологическом комитете в Петербурге и два года руководил съемочными работами за Уралом.
– Съемки, Мария, – это болота и бурелом, это пешком, а если повезет, то на лошадях, два десятка верст в день. Это заплечные мешки или вьючные ящики с образцами – каменным материалом, который нужно описать на месте, доставить в Петербург, разобрать там, подвергнуть анализу и определить, какие минералы складывают кусок породы. Вам не приходилось ли в гимназии смотреть в микроскоп на шлиф – тончайший срез камня? Тогда вы не представляете, насколько он прекрасен. Куда там стеклышкам в калейдоскопе! Пусть даже камушек серый, но сколько в нем оттенков! Художник во мне всегда наслаждался этим зрелищем.
– Вы и вправду художник, Александр? – интересовалась Мария.
– Я плохой художник, неумелый. Но все же повсюду таскаю с собой этюдный ящик и пишу при случае. Кто испытал сие (я имею в виду работу с красками), тот пропал. Талантлив ты, нет ли, художество затягивает. Так же как сочинительство, рифмоплетство.
– Вы хотите сказать, что сочиняете?
– Бывает, – покраснел честный Лунин. – Но сочиняю я еще хуже, чем рисую. Просто стыдно, что проговорился.
– Прочтите, Александр Бальтазарович, – умоляла Мария.
– Маша, вы смеяться станете.
– Да не стану я смеяться, клянусь чем угодно. Я за счастье почту… – уверяла Мария и добавляла тихонько: – При моей-то жизни. Ну, пожалуйста.
И Лунин решался. И срывающимся голосом, отворачиваясь и морщась от редко посещавшего его в присутствии барышень и дам смущения, декламировал вирши:
Все вокруг так пестро и шумно,
Но напрасно толпа весела,
Без тебя я тоскую безумно,
Ты улыбку мою унесла.
Только изредка темной порою
Тяжко скучного дня
Нежный облик встает предо мною,
И ему улыбаюсь я.
Маша со всей возможной искренностью хвалила непритязательное творение, воистину образчик рифмоплетства, и просила читать еще.
– Ну хорошо, – соглашался Александр Бальтазарович, лихой комполка, и читал, словно бы в атаку бросался, сочиненное не далее как вчера под впечатлением последнего свидания с Марией:
Ночь еще и мрак глубок;
Но во мраке жуткого смятенья
Видишь ты и веришь – недалек
Долгожданный праздник пробужденья.
И не будет больше литься кровь.
Сгинет мрак житейского ненастья:
Воцарится на земле любовь —
Светлый праздник радости и счастья.
– Это красиво, – хвалила Мария и складывала ладони на груди в подтверждение своего полного восторга, – оч-чень, очень красиво и тонко, Александр. Вы по-настоящему талантливы.
И совсем неважно было для Марии, хороши или плохи его стихотворения. Лунин стал для нее светом в окошке, встречи с ним – единственной радостью в ее сумрачном существовании. И она рада была хвалить его за что угодно, заслуженно или нет, чего никогда не позволяла себе с Францем. С Францем она порою обходилась незаслуженно жестоко, раня его своей прямолинейностью.
Но Лунин был непрост и прекрасно знал цену своим поэтическим опытам. Поэтому он просил Марию не хвалить его.
– Ни к чему это, Маша, – тихо говорил он. – Будьте лучше искренни. Вам так идет.
Мария опускала голову и отвечала:
– А если мне хочется хвалить вас, Александр? Мне ведь так давно ничего не хотелось. Позвольте же. Поверьте, в этом я искренна с вами, а больше мне ничего и нельзя.
Но такие долгие беседы были редкостью, непозволительной роскошью. И об этом однажды Лунину и напомнили. Как-то раз в длинном коридоре без окон Александра Бальтазаровича поймал за рукав Наум и, щуря мудрые и грустные, как у старого шимпанзе, глаза, зашептал на ухо:
– Я вам попустительствую, да! Но лишь из симпатии к бедной девочке. Она покупала у меня декокт и гематоген. Разве у нее жизнь? Нет! Разве ей можно писать эти бумажки? Это же протоколы допросов! Гершель приводит ее сюда, чтобы я присматривал за ней. Он ненормальный, но он что-то чует своими ноздрями. Он чует вас, Лунин!
– Она пойдет со мной, Гинцман? Как вы думаете?
– Что думать Гинцману? Гершке взял ее отца. Она с ним ради отца. Но, вы знаете, Лунин, она все ждет чего-то. Но вы лучше не ходите сюда, не делайте хуже ни девочке, ни старому Науму.
И Александр Бальтазарович, пересиливая себя, старался больше не появляться в каморке под лестницей, хотя и чувствовал, что этим причиняет Марии боль. Ему стало легче от того, что он узнал, по какой причине его возлюбленная вынуждена терпеть рядом с собой это чудовище, но и неизмеримо тяжелее от того, что он пока не видел пути ее спасения. Поэтому он и бродил по улицам, надеясь на чудо случайной встречи, чтобы хотя бы взглядом ободрить ее и поддержать.
Но однажды поздним летним вечером он, как пишут в романах, движимый неясным предчувствием, побрел в сторону здания, где помещалась ЧК.
* * *
Как же Мария оказалась в каморке под лестницей? Дело в том, что в один прекрасный день тайные запасы морфия у Наума Гинцмана иссякли, и он понял, что близок день его казни. Потому что не может быть никаких сомнений в том, что Изюмский не оставит в живых свидетеля своей слабости, а также – в одном лице – и свидетеля его непутевого детства и юности в Богом забытом городишке Зудовске, располагавшемся в черте оседлости. Однако казнь откладывалась в связи с тем, что Изюмский решил определить на место письмоводителя Марию, чтобы она всегда была под рукой. Он легко получил разрешение на это у начальства, которому, понятное дело, приятнее было лицезреть в каморке под лестницей красивую молодую женщину, чем старого ворчливого еврея. Так Мария поступила ученицей к Гинцману.
Учиться-то, честно говоря, было особо и нечему, и старый Гинцман уже давно был бы похоронен и забыт, если бы Гершель Израэльсон, а ныне Георгий Изюмский в минуту просветления вдруг не осознал, что помимо него в проклятой конторе в поте лица трудится немало молодых, сильных и привлекательных мужчин. Поэтому Наума и решено было до поры до времени пощадить, с тем условием, что он будет присматривать за Марией и не допускать ее контактов, кроме самых что ни на есть официальных, с молодыми, сильными и привлекательными.
По причине того, что наркотики Изюмский теперь получал нерегулярно, психика его совершенно расшаталась, а физическое здоровье давно уже оставляло желать лучшего. Нередко и по любому поводу он впадал в истерику, визжал и брызгал слюной, не мог унять мелкого тремора конечностей и подбородка, грозился убить Наума и задушить Марию, которая, по его мнению, насмехалась над ним. Но она не насмехалась, а безразличный вид, расцениваемый Изюмским как насмешка, объяснялся ужасом перед ним, холодным и цепким, словно колючая проволока.
Если бы она знала, какие эмоции должна изобразить, чтобы унять его, она бы попыталась. Но все дело в том, что реакции его стали абсолютно непредсказуемы, и, если бы даже она и попробовала, пересиливая себя, изобразить нежные чувства, заботу и ласку, все могло закончиться крахом. И для нее, и, как она полагала, для отца, и для ставшего хорошим другом и мудрым советчиком Наума. Поэтому Мария сдерживалась изо всех сил, испытывая нервное перенапряжение, а лицо ее при этом превращалось в маску.
Однажды под вечер Изюмский явился в каморку, и вид у него был необычайно благостный. Мария поняла, что ее ждет очередное испытание.
Изюмский, не обращая внимания на полного предчувствий, а потому затаившегося в углу Гинцмана, проговорил кротким голосом:
– Я пришел тебя обрадовать, Мария. Мы с тобою теперь больше не будем расставаться ни днем ни ночью. Тебе бы этого хотелось, да-а?
– Да, Георгий, – одними губами ответила побледневшая Мария.
– Я стал плохо работать в последнее время, Мария, – продолжал он, – меня преследуют неудачи. Я все думал-думал, почему это? И вдруг я понял: мне не хватает твоей музыки. Ты так давно не играла. Да и когда тебе играть? Ты теперь трудящаяся женщина. Но я думаю, ты будешь счастлива вновь прикоснуться к клавишам. Прямо здесь, в этом здании. Я буду работать, а ты помогать мне своей игрой. Счастливое решение, да-а? Сюда привезли пианино. Может быть, тебе нужны ноты?
Мария отрицательно покачала головой.
– Ой-вэй… – горестно прошептал в своем углу Наум, – ой, девочка.
Изюмский даже не взглянул в его сторону. Он взял Марию за локоть, поднял со стула и повел по коридорам с видом счастливого супруга. Они спустились в подвальный этаж и зашли в тесное, плохо освещенное помещение с голыми кирпичными стенами в темных подтеках. Один угол помещения был наискось занавешен измятой шторой из потускневшей церковной парчи. В другом углу стояла обтянутая замызганным шелком банкетка и ломберный столик. А на столике. На столике хирургические инструменты в треснувшей фарфоровой супнице и мельхиоровое ведерко для шампанского с клеймом гостиницы «Континенталь». В ведерке – слесарный набор. Напротив, вдоль стены, – пляжный топчан с вбитыми в него крюками на уровне плеч и лодыжек.
У Марии колотилось сердце, в глазах мелькали серебряные звезды, не хватало дыхания, на лоб упала непослушная прядь, ставшая вдруг мокрой и липкой. Подкашивались ноги. Но Изюмский крепко держал ее, не давая упасть. Он откинул парчу, и за нею Мария сквозь звездную пыль в глазах увидела пианино и табурет перед ним. Она услышала слова Изюмского, сказанные с несвойственной ему звенящей нежностью. В холодный пот бросало от этой нежности.
– Твое истинное призвание – музыка, Мария. Я это понимаю. Ты скверный письмоводитель, ты пропускаешь важные слова. Но ты хорошая музыкантша. Ты будешь – великая музыкантша. Ты будешь – мой концертмейстер. У нас будет свой театр. Нет, не театр – храм. Ты будешь играть в храме. Садись и жди. Когда я скажу, начнешь играть. Твое дело играть, Мария.
Он усадил ее на табурет, поднял крышку пианино, плотно задернул занавес и исчез, клацнув то ли замком, то ли своими железными зубами.
Мария заставила себя взглянуть на пианино. Оказалось, что не хватает нескольких клавиш, а те, что были, покрыты сеткой мелких трещинок. Щербатая челюсть, а не инструмент. Какую адскую музыку на нем можно сыграть? Только не музыку – то, что получится, нельзя будет назвать музыкой. Хрипы, стоны. Пригоршни диссонансных звуков. Сразу две октавы растопыренными до последнего предела пальцами обеих рук. И все время, все время – страдающее верхнее «фа». Играй, Мария. Медленно и старательно – сбивчивые ученические гаммы, убийственные в своем многократном повторе. Оглушительно и фальшиво – куплеты из Любонькиного репертуара. Колоти по клавишам – выбей оставшиеся визгливым аккордом из «Петрушки». Вот так, раз за разом – бей, повторяй, штампуй. Пусть на страшной стене отпечатаются куцые синкопы – похоронные розаны на ярмарочном набивном ситце. Теперь – карильон на оскверненных разбитых колоколах. Теперь изо всех сил – ребром ладони, сжатыми кулаками, лбом, чтобы не слышать нечеловеческих ноющих звуков и победного рычания оргазмирующего палача. Теперь – оглохнуть, ослепнуть и поджать ноги, чтобы не залило темно-алым тошно пахнущим наплывом из-под гробовой парчи. Теперь – навсегда? – скорбная тишина Страстной пятницы.
* * *
…Сначала почему-то возвратился слух.
– Я таки тебе не доктор, Гершке. Я даже не фельдшер, чтоб ты знал. Я всего лишь бывший аптекарь. Но даже был бы я доктор, я не смогу воскресить эту бедную девочку, если она умрет.
– Она жива, Наум. Она дышит. Приведи ее пока в чувство, и все.
…Потом возвратилось обоняние. Она почувствовала запах пыльной бумаги и переплетного клея и поняла, что лежит на кушетке в каморке под лестницей.
– Как я тебе приведу ее в чувство, если она не хочет приходить в чувство? Ей хорошо там, где нет чувства. Что ты хочешь, Гершке? Чтобы она пришла в чувство, все вспомнила и сошла с ума?
…Потом возвратилась память, и Мария снова потеряла сознание.
Несколько раз Мария стараниями Гинцмана возвращалась из небытия, но ее тянуло назад, в тихую темень и покой. Когда она в очередной раз очнулась, то услышала, как старый Наум вопрошает Его:
– Ты ведь давно убил ее отца, Гершель?
– А что я с ним должен был делать? Кормить с ложечки?
– Девочка терпела ради отца. Она не простит тебе.
– Терпела. Простит, не простит… Чушь! Она меня любит, она спит со мной. Зачем ей отец? Что он ей может дать? А-а, пусть думает, что он жив. Так для всех спокойнее. И если ты проговоришься, старый индюк, то я выпотрошу тебя. Веришь?
– Как не верить? Ты выпотрошишь, Гершке.
– Встань у двери и никого не пускай. Скажи, что здесь допрос. Понял, Наум?
Дверь скрипнула, открываясь, и бесшумно закрылась.
…Вернулось осязание. Мария почувствовала Его цепкие холодные пальцы на своей груди, потом на бедрах под задравшейся юбкой. Он знакомо сипел, дышал открытым ртом, нетерпеливо наваливался, делал больно. Мария терпела, зажмурившись, и выжидала.
…Наконец, вернулось зрение.
В каморке было тесно, все стояло впритык: шкаф, сейф, стол и два стула, кушетка. Если лежишь на кушетке, можно не поднимаясь дотянуться рукой до чернильницы на столе. Или до револьвера, если он вдруг там оказался, небрежно брошенный в спешке, в расстегнутой кобуре. Мария откинула руку, зацепила рукоятку и осторожно потянула.
Он , рыча и подрагивая, сжал зубами ее плечо. Теперь самое время. Самое время, пока Он так напряжен, что ничего не видит вокруг, и еще не изверг своего семени.
Мария стреляла под челюсть. Выстрел прозвучал на удивление тихо. Услышал его только Наум, который мыкался под дверью. Он бочком протиснулся в каморку и сказал:
– Ах. Таки ты доигрался, Гершке. Лучше бы ты, Гершке, пошел в ученики к Яше-портному. У Яши можно было кроить и резать и колоть иголками. Не людей, нет. Материю. И куда я тебя теперь дену, а?
Марии было все равно. Она лежала, залитая кровью ворога, и прощалась с жизнью.
Дверь скрипнула и отворилась. В проеме замер Лунин, которого привело в каморку то самое неясное предчувствие. Быстро оценив обстановку, он закрыл за собою дверь и сказал:
– Вот что, Наум. Его надо как-то вынести из здания, так, чтобы никто не видел, и бросить на пороге. Пусть думают, что это покушение.
– На пороге! Что ж, Лунин, идите скажите часовому: отвернитесь, часовой, мы вынесем убитого Гершке и бросим его у порога. Потом уже можете поворачиваться, часовой, – ворчал Гинцман, смачивая из графина полотенце и вытирая Марии лицо.
– Тогда.
– Тогда! Что вы можете придумать, Лунин, если смотрите на бедную девочку и вам плакать хочется? Вы ничего не можете придумать.
А Гинцман вам скажет: несите Гершке во двор и положите в автомобиль.
– Во двор?
– А что такого? Вот она дверь, рядом. Она заперта, но что вам стоит взломать замок? А старый Гинцман будет стоять на шухере.
Замок взламывать не пришлось. Лунин легко отомкнул его с помощью тонкого лезвия перочинного ножа. Затем он вынес труп Изюмского в темный двор и уложил в багажный ящик автомобиля, снова воспользовался ножом в качестве ключа и беспрепятственно вернулся в каморку.
Осталось замыть кровь и выйти из здания так, чтобы никто ничего не заподозрил. Но сначала надо было привести в чувство Марию, чтобы она самостоятельно могла пройти мимо поста при входе.
– Машенька, нужно собраться с силами и идти, – уговаривал Александр Бальтазарович. – Ты убила гадину, честь тебе и хвала. Все самое страшное позади, и все теперь будет хорошо. Я не дам тебя в обиду. Ты мне веришь? Нужно жить, Машенька. Просто жить.
– Он ей говорит: жить, – ворчал старый аптекарь, – а она не хочет жить, она хочет умирать. И ей все равно, – повысил голос Наум, строго глядя на Марию, – и ей все равно, что если она не встанет и не пойдет, то жить больше не придется ни старому Гинцману, ни молодому Лунину.
– Я пойду, – отозвалась Мария.
– Слава Богу, – проворчал Наум, – но сначала пойдет он, и пойдет себе спокойно домой, а не будет ждать нас за углом, как соратник по борьбе. Иначе нас заметят и будут думать: что эти люди имеют общего? Они что-то замышляют?
* * *
На следующий день и еще на следующий Мария нашла в себе силы прийти на службу, а потом, после того как обнаружили труп Изюмского, слегла с нервным расстройством. Труп обнаружили только через день и лишь потому, что шоферу понадобился находящийся в багажнике домкрат. Точного времени и места убийства определить не смогли. Болезнь Марии объяснили шоком и тоской по мужу. Убийц не искали, а списали все на левых эсеров, известных своими террористическими склонностями. Тем более что началась кампания борьбы с ними. В Киеве возобновились аресты.
Лунин получил звание командира дивизии. Он просил Марию стать его женой. Мария, в душе попросившая прощения у Франца, приняла его предложение, и летом двадцатого года они дорогами войны отправились в Крым. Дивизия Александра Бальтазаровича должна была присоединиться к армии Фрунзе и штурмовать Перекоп.
Берлин. 2002 год
Биограф опять-таки страшится чрезвычайной отрывочности сведений, фрагменты которых он должен с величайшим трудом объединить в настоящую историю.
...
«…А Франц-то и не умер, в чем Вы, я уверен, нисколько и не сомневались, прозорливейшая фрау Шаде. Франц-то не умер, а благополучно добрался вместе с почтенным родителем и родительницей до Германии. Крушение поездов, устроенное, по слухам, некими объединившимися бандами, и вправду имело место. Но произошло оно на другой железной дороге и в другое время. Отсюда мораль: не верить слухам и не терять надежды, пока вы лично не убедитесь в действительности произошедшего.
Пока вы с полным основанием не уверитесь в том, что желанная встреча никогда не состоится по причине пребывания вашего предмета нежных ли, дружеских ли чувств в недоступных пределах, не оставляйте надежды, фрау Шаде, не оставляйте надежды, заклинаю Вас! А то можно и дров наломать. Открою Вам тайну, в которую посвящен: обещания, даваемые нами в порыве чувств, живут себе и живут, пока не исполнятся. А уж как и когда они исполнятся, в каком виде воплотятся, приходится только гадать. В стране, где я прожил большую часть своей жизни, есть поговорка: „Слово не воробей, вылетит – не поймаешь“ То-то и оно, милая фрау, то-то и оно. Потому и сказано в Великой книге: не клянись.
Вот скажите Вы мне, фрау Шаде: кой черт тянул Франца за язык, когда он клялся Марии в верности, да еще, неразумный он юноша, призывал в свидетели силы природы?! Понятное дело, что и Мария в таких обстоятельствах не могла не ответить тем же. Чем, спрашивается, могло это кончиться? Только жестокими испытаниями, чем же еще? Искушать судьбу – это, знаете ли. Ах, да мне ли читать мораль? Нашелся тоже морализатор! У самого, признаться, рыльце в пушку, и хватит об этом. Так я продолжу.
Не стану утомлять Вашего внимания, дражайшая фрау, описанием не столь уж значительных невзгод, кои пришлось претерпеть семье Михельсонов в своих странствиях. Впрочем, в семейной историографии почти и не сохранилось сведений об упомянутых невзгодах. Известно лишь, что наши эмигранты лишились части вывозимых ценностей, пока добирались до Берлина. Однако того, что осталось, Александре Юрьевне, женщине практического склада, хватило, чтобы открыть маленький модный салон под несколько декадентским названием „Искусственный цветок“.
Она наняла модистку, двух швеек, и, поскольку была женщина со вкусом, ее салон вскоре приобрел репутацию заведения не для всех, и туда стремились попасть по протекции берлинские щеголихи, по большей части жены спекулянтов, до сей поры в ярких своих платьях и не бог весть каких мехах более похожие на клумбы с георгинами, обрамленные декоративным мхом. Тут уж Александра Юрьевна не растерялась и повысила расценки, а также вывесила бесстыдное объявление с просьбою не являться на примерки в вязаных бюстгальтерах, поскольку от таковых мало толку и вообще они некомильфотны. Вскоре благодаря деятельности Александры Юрьевны с окраины, где семья снимала комнаты в пансионе, удалось перебраться в центр Берлина, в квартал Николаифиртель, и снять помещение в здании, расположенном поблизости от базилики Святого Николая. Вам знакомо это благословенное место, фрау Шаде? Ну, еще бы! Кому же оно не знакомо?»
«Еще бы, еще бы не знакомо, – вступила в мысленный диалог фрау Шаде. Она свернулась в клубочек, сидя в глубоком кресле, что стояло в гостиной ее квартиры, занимавшей половину верхнего этажа модернового дома, расположенного в фешенебельном квартале Николаи-фиртель неподалеку от базилики Святого Николая. – Еще бы не знакомо; не только знакомо, но и любимо. Мне повезло, что я здесь живу. Мне повезло с домом».
Квартиру эту за особые заслуги в спорте, другими словами, за весьма успешную дрессуру юных гимнасток, ценой собственного здоровья завоевавших уйму всевозможных наград, предоставили ее драгоценному супругу в самом начале восьмидесятых. Тогда Николаи-фиртель начали приводить в порядок, вернее, восстанавливать его былой уют, или, как принято теперь говорить, – «исторический облик». Квартал, очень плотно застроенный до войны, во время бомбежек и обстрелов сильно пострадал, почти полностью был разрушен. Старых зданий здесь осталось совсем мало, поэтому стали возводить новые в стиле северного барокко. Причем, вероятно по причине небогатой фантазии, зачастую копировали постройки, находящиеся в других кварталах города. Но больше всего понастроили однообразных панельных домов, приземистых, но с высокими крышами. Фасады украсили бетонным декором, нарочито грубым и тяжеловесным. В таком вот доме, в модной ностальгической мансарде и получил квартиру Дитрих Шаде и спустя несколько лет привел сюда жену. И через четыре года погиб, царство ему небесное, подонку. А квартира осталась за молодой вдовой.
Фрау Шаде взглянула на часы. Половина второго – глубокая ночь, и давно положено спать. Ноги затекли, заныл перекрученный позвоночник, онемела шея. А спать-то совсем и не хочется, так читала бы и читала. Хотя почему бы не перебраться из кресла в постель? Тоже очень подходящее место для чтения. И хорошо бы взять с собой бутерброд и бутылочку минеральной воды. Прекрасное решение, так и поступим. Только бы не проговориться потом о таком неправильном времяпрепровождении старушенции фрау Мюнх, мнением которой дорожит весь дом.
Фрау Мюнх обладала способностью очень ловко вызывать на откровенность специально для того, чтобы потом со всей прямотой заявить, строго глядя из-под бровей-ниточек: «Ваш образ жизни, дорогая, достоин осуждения. Вы упали в моих глазах, фрау соседка». Именно так: фрау соседка. А потом она разнесет по всему дому историю о том, почему именно фрау соседка Шаде упала в ее глазах. И герр Фляйшер (галантерейная торговля аж на Курфюрстендам! Но это ложь – всего лишь павильон в торговом центре на окраине), и герр Барнхельм (фон Барнхельм, как сообщал он каждый раз, понижая голос, что, видимо, должно было объяснять наличие у него в квартире огромного количества разномастного антиквариата), и красотка фрау Беата (Беата Штольц, она же Нойман, она же Майер и еще два-три варианта – в фамилиях ее многочисленных сменяющих друг друга состоятельных мужей все давно запутались и называли ее теперь только по имени) – все они будут укоризненно качать головами и осуждать непутевую соседку.
На постели – вот неожиданная радость! – обнаружился Кот. Старый, добрый Кот – весьма независимое создание. Кот появился когда-то в квартире фрау Шаде самым что ни на есть загадочным образом и теперь приходил и уходил, когда ему вздумается. Вернее, не приходил и уходил, а появлялся и исчезал, несмотря на запертые двери, закрытые окна и отсутствие достойных такого господина отдушин. На случай его появления на кухне всегда стояли плошки с водой и с сухим кормом, а в туалете – лоток с гранулами. Кот не считал нужным здороваться и прощаться. Свое дружеское расположение он выражал тем, что устраивался в любимых уголках фрау Шаде и дремал там, мерно урча. Когда Кот пребывал в особо сентиментальном настроении, он тыкался носом в ладонь и громко требовал почесать ему шейку и подбородок. Никаких кличек он не признавал и отзывался только на «Кота».
– Привет, Кот, – сказала фрау Шаде. – Нагулялись ли вы, Ваше блудное Кошачество?
Кот высокомерно уставился зелеными глазищами на свою зарвавшуюся домоправительницу, моргнул и разлегся на боку, раскинув лапы. Он был серо-полосатый, с палевым животиком и грудкой, с лихими разбойничьими усищами и богатыми бакенбардами – воплощенная мечта романтических представительниц кошачьего племени.
– Позволено ли мне будет прилечь здесь, с краешку? – спросила фрау Шаде у растянувшегося во всю длину Кота. – В конце концов, это моя постель, а Вашему Кошачеству самое место на коврике. Тем более что от тебя, мой друг, за версту несет сексуальным разбоем. Репутацию скольких невинных девушек ты погубил, негодник, на этот раз? Не расскажешь ли?
Но герр Кот не стал торопиться с чистосердечным признанием. Он, ни слова не сказав, спрыгнул на пол и отправился в гостиную, неся свой хвост торжественно и чинно, как хоругвь.
Фрау Шаде опустила поднос с минералкой и бутербродами на прикроватный столик, взбила подушку и поставила ее домиком, сбросила халат, оставшись в легкомысленной полудетской пижамке, и залезла под одеяло. Пристроила на коленях черную папку с рукописью, откусила от бутерброда с салатным листом, запила его пузырящейся жидкостью и снова погрузилась в чтение.