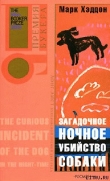Текст книги "Туман на родных берегах"
Автор книги: Дмитрий Лекух
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Дмитрий Лекух
Туман на родных берегах
В третьем тысячелетье
Автор повести
О позднем Предхиросимье
Позволит себе для спрессовки сюжета
Небольшие сдвиги во времени —
Лет на сто или на двести.
Давид Самойлов. Свободный стих
Пролог
Ворчаков спал.
Спал и летел одновременно.
Так иногда бывает во сне.
Особенно, если этот сон – в небе.
Удивительное, кстати, чувство.
Какая-то странная свобода – от всего, от всех обязательств, кроме обязательств полета.
Свобода от правил и законов, включая закон всемирного тяготения.
Будто тебя только что освободили с каторги. И не думайте, что это пустые слова.
Если бы!
Собственно говоря, хотя за свою, не такую уж длинную жизнь, Ворчаков ни разу не был на каторге в качестве воспитуемого, судить о ней он мог со знанием дела, – в том числе и об освобождении.
Но он об этом не думал.
По крайней мере – сегодня.
Сегодня он просто летал…
…Нет, не падал, как это случается при небольших, не очень опасных, по словам врачей, но все же не рекомендуемых сердечных перегрузках, вызванных неизбежным при его служебной деятельности нервным истощением. Хотя, разумеется, с нервным истощением при его профессии тоже, вне всякого сомнения, все было в порядке, – сердце пока выдерживало.
Поэтому он и не испытывал чувства падения.
А просто летал.
Как в детстве.
Как во сне.
И сон его был подобен полету, а полет – сну, отчего он по-детски причмокивал губами.
Самое интересное, – ему и снилось, что он летит, но при этом он понимал, что делает это в волшебном пространстве сна.
И в этом сне он был всемогущ.
Так тоже бывает.
И тоже скорее в детстве…
…Вождь, в юности, говорят, писавший неплохие стихи в духе модных тогда акмеистов, теперь выдернувший его телеграммой с пометкой «молния» в древнюю столицу Империи, как-то рассказывал, что по их одесским поверьям такие счастливые, радостные сны, – худшие предвестники самых грозных событий. Может, именно поэтому сам Канцлер таких, «радостных» снов, как и любых других знаков судьбы мистически боялся, о чем тогда, в минуту слабости, свойственной порой даже самым великим и несгибаемым людям, и поделился с одной из своих верных гончих.
Боялся и не доверял.
Не доверял и боялся.
Не Ворчакова, разумеется.
Снов…
Вождь много чего боялся, в том числе того, что со временем о его страхах станет известно за пределами «ближнего круга». Но Никита, будучи, в силу своей профессиональной деятельности, человеком насквозь прагматическим, подобного рода суеверия начисто отметал.
За исключением тех случаев, когда дело касалось пресечения слухов о тайных фобиях Вождя.
Вот это как раз – не шутки.
И – никакой мистики.
Это могло повлиять на безопасность Вождя и Империи, это было серьезно и входило в круг профессиональных обязанностей Ворчакова.
А все остальное – подлежало «вынесению за скобки».
Молча, разумеется.
С вождями не спорят…
…Нет, в сами-то «вещие сны» он, конечно, верил.
Глупо было бы.
Не верил он в их легкое «одесское» толкование: кто бы ни кодировал эту божественную шифровку, вряд ли рассчитывал на то, чтобы ею так легко могли пользоваться и разгадать первые встречные профаны. И хотя Никита понимал, что Вождь – отнюдь не первый встречный и уж тем более не профан, а как минимум самый что ни на есть настоящий гений Возрожденной Русской земли, – Ворчаков все равно не верил: издержки профессии.
Ну, да и Бог с ним.
Или боги.
Наши славянские боги…
…Позади оставались суетливое и страстное прощание со скучающей без мужа томной баронессой фон Штольц, четыре часа на тяжелом открытом авто по скользкому от дождя серпантину с краткой остановкой у живописной татарской чайханы, где ему удалось не спеша выкурить папиросу и посидеть в легкой задумчивости над стаканом кислого молодого вина.
Суета в небольшом, но неуютном и грязноватом здании симферопольского Императорского аэропорта. Как всегда суетное, несмотря на должности и полномочия, оформление огромного количества постоянно сопровождавшего его багажа: чтобы как следует, со вкусом, раздеть какую-нибудь скучающую и оттого внезапно доступную светскую красавицу на отдыхе, нужно как минимум уметь одеваться.
К счастью, одеваться Ворчаков не только умел, но и любил.
Он вообще неплохо относился к своей неповторимой персоне с ее, как ему казалось в те минуты, когда Ворчаков был сам себе симпатичен, неповторимой, мужественной и привлекательной для дам внешностью. И потому старался следить за своим физическим состоянием на досуге не менее бдительно, чем следил за врагами Отечества, находясь на государевой службе.
Поэтому, мягко говоря – багаж был.
И немаленький.
И это – только то, что Никита счел «предметами первой необходимости» во время вынужденной командировки в Москву. Остальное ушло обратно в столицу, в благословенный град Петра Строителя, в старинный особняк на Васильевском острове контейнером, – по железной дороге, через Екатеринодар.
Позади оставался как всегда чересчур короткий и оттого суетливый отпуск.
На службе Ворчаков суетиться не любил: ищейку кормят ноги и нюх, но сам Ворчаков по лености предпочитал второе.
…Узковатое даже в дорогом салоне самолетное кресло к полноценному отдыху измученного отпуском тела не особенно располагало.
Но Ворчаков все-таки спал.
И даже улыбался.
Когда тебе без малого тридцать, ты здоров, физически развит, родовит, богат, отлично образован и последние недели проводил большей частью на свежем воздухе, – спится легко.
Даже если тебя грубейшим образом вырывают из законного отпуска.
Ничего.
Позже догуляем.
Когда настанут такие времена и мировые разведки перестанут вести свою хитроумную игру, когда перестанут фрондировать собственные вояки и Троцкий со товарищи перестанет наконец засылать на территорию Великой Империи своих агитаторов и диверсантов.
Когда успокоятся проклятые британские островитяне и их американские родственники в С.А.С.Ш.
Когда народные избранники в Пятой Государственной Думе научатся наконец думать об избравшем их народе Великой России, а не о собственном благополучии. Когда уймутся и перестанут мечтать о захвате власти внутренние заговорщики.
И когда ему, Никите Ворчакову, удастся повесить последнего из числа непрерывно вертящихся вокруг доверчивого Вождя политиков – предателей идеалов русского национального единения.
Пока живешь – надеешься.
Глава 1
Разбудила его горничная, обслуживавшая первый салон новенького, пахнущего свежей краской двухмоторного «Туполева-24АМ», который разрабатывался как военный транспортник, но из-за своей дороговизны и малой вместимости салона в военной авиации не прижился, зато оказался весьма востребованным в гражданской.
Хорошенькая горничная.
Пухленькая.
Она поинтересовалась, что господин полковник Имперской безопасности изволит откушать на горячее: седло барашка в травах под соусом из розмарина или половинку цыпленка табака.
Или горячего копчения ручьевую кавказскую форель с разварной картошечкой по-русски, греческими оливками и малосольными огурчиками.
Бред, конечно, с точки зрения нормального европейского человека.
И – опасный бред.
Особенно для последователя традиции, прямо запрещающей соединять и смешивать несоединимое, в том числе в кулинарии.
Но в последнее время такие «славянофильские извращения» в Империи входили в моду, и некоторые из этих экспериментов оказывались на удивление вкусны. Настолько вкусны, что их стали подавать путешествующим в первом классе цеппелинов и аэропланов «Русских авиалиний»: огромной имперской транспортной компании, занятой перемещением людей и грузов по воздуху в любые уголки Империи и за ее пределы.
Компанию возглавлял личный товарищ и соратник Вождя, Николай Николаевич Нестеров, действующий генерал интендантской службы и родной брат погибшего в далеком четырнадцатом героического летчика Петра Николаевича Нестерова.
Говорят, Петр Нестеров был юношеским кумиром Вождя, и бесталанный Николай возглавил гигантскую корпорацию лишь благодаря настойчивой протекции Канцлера. Ворчаков об этом не задумывался, его проблемой была исключительно безопасность, а с этим в «Русских авиалиниях» все было в полном порядке.
Неудивительно: роль военных в руководстве корпорации ни для кого секретом не являлась. Как и тот неумолимый факт, что в случае начала масштабных боевых действий «Русские авиалинии» автоматически переходили в подчинение Генерального штаба, под непосредственное командование главкома ВВС, соратника Байдакова, со всеми вытекающими.
Что совершенно не мешало цепеллинам и самолетам в обычной, гражданской жизни, становиться все более привычным для жителей Империи и чуть ли не повседневным для перемещающихся на колоссальные расстояния управленцев гражданским транспортом.
С этим понятно.
Баранина, цыпленок или форель.
Определимся чуть попозже…
Есть еще вопросы?
Какое вино подавать господину Инспектору к обеду?
Сразу не ответишь.
Стоит поразмышлять…
Какого вина выпить?
Красного столового?
Ледяного белого муската?
Русской водочки?
Или, допустим, шустовского коньячку?..
С рыбкой вменяемо охлажденная «смирновка» сочетается замечательно. Почти идеально.
Да и коньячок будет неплох, если его правильно дополнить долькой лимона или обильно полить лимонным соком саму нежную, бледно-розовую форель.
И обязательно после этого – дать немного подышать…
Разбудить-то горничная его разбудила.
Но инспектору неожиданно показалось, что он так и остался жить дальше там, в продолжавшем тянуться сне.
Таком странном, переполненном холодными четкими красками, как белоснежные облака, по которым стремительной вечерней водомеркой бежала, то пропадая в глубоких провалах, то возникая вновь небольшая черная тень изящного аэроплана.
Бежала то замедленно, то стремительно – так что ему стало немного не по себе.
Синева.
Безжалостная ледяная синева.
И белизна облаков.
И первозданная чернота стремительной чужеродной тени…
Ворчаков неожиданно для себя попросил бокал красного шипучего «Абрау».
Желательно – ледяного.
А лучше – бутылку.
И форель – но без картошки.
Копченую.
И – лимон.
Дурной вкус, что говорить.
Но…
Хотя – извините – нет-нет, секундочку.
Надо еще немного подумать.
…Ворчакову, если бы не крепкий и, видимо, здоровый сон, было бы немного не по себе.
Во-первых, – вчера гуляли.
Крепко, по-гвардейски.
Как и полагается случайно встретившимся на отдыхе, успевшим стать влиятельными господами, но еще не постаревшим односкамеечникам из «василеостровских гимназисток», – выпускников уютно расположившегося в здании бывшей женской гимназии знаменитого «делателя элит» – юридического факультета Императорского, имени генерала Лавра Корнилова, Санкт-Петербургского университета.
Глупость, кстати.
И многократная.
Безвременно сгинувший в Гражданскую Лавр Георгиевич мало того что человеком слыл весьма неприятным и не сильно образованным, так был еще к тому же и убежденнейшим республиканцем.
«Россия – не вотчина Романовых».
Но – тем не менее, тем не менее.
Альма матер положено любить даже такой, и далеко не в самых лучших ее проявлениях.
Хоть будущие просвещенные юристы и фрондировали, повторяя про прославленного полководца и мученика «белого движения» знаменитое презрительное «лев с головой барана», – умение пить по-корниловски считали вполне почетным.
Более того, сам ритуал студенческого «посвящения в гимназистки»…
Уже одну эту причину можно считать уважительной.
Похмелье еще никто не отменял.
Даже у директоров департаментов службы Имперской безопасности.
Во-вторых, ему все не удавалось проснуться.
Как ни старался.
Уже и кофе выпил несколько чашечек.
И умылся в узенькой аэросалонной уборной.
И покурил…
Не помогло.
Похоже, опять придется обращаться к «народным балтийским средствам».
Благо кокаин всегда под рукой, специально для таких целей приобретенный в ялтинской городской аптеке: чистый, медицинский, не какая-нибудь контрабандная польская подделка.
Пусть этим дерьмом недобитый пан Пилсудский травится: польская республика, разделяющая откровенно враждебные друг другу большевистскую Германию и Имперскую Россию, – отличный плацдарм для неизбежной в ближайшие десятилетия войны. И очень удобный полигон для спецслужб обоих враждебных друг другу, стремительно наращивающих вооружения гигантов.
Но ее откровенно двуличная политика раздражала Ворчакова даже больше, чем ее сидящие в туманном Лондоне «союзные идеологи».
Так что – никакого потакания враждебной экономике и контрабанде.
Только патентованный легальный товар производства Нижегородского фармакологического объединения.
Но все равно – не хотелось…
Ну а в-третьих, вынырнув на секунду из пространства, что располагается между сном и реальностью, он заметил, что напротив, в таком же узком самолетном кресле, сидела самая настоящая мумия.
Полковник непроизвольно вздрогнул.
Отхлебнул глоток поданного заботливой аэрогорничной прохладного шампанского.
Закурил длинную тонкую папиросу «Дюшес» и решил все-таки остановиться на баранине.
Под розмарином.
С гарниром из отварных овощей и капелькой острого турецкого гранатового соуса.
Мумия могла некоторое время подождать.
Как и кокаин – «убивать» им себя, видимо, все равно придется: по прилете в старую столицу ему потребуется повышенная работоспособность и ясный мозг, но сейчас-то зачем?!
Сейчас надо немного поесть и – совершенно обязательно – опохмелиться.
Вождь поймет, он его, в конце концов, не с боевого задания в Москву выдергивал.
А из банального отпуска…
Семилетнее красное «Абрау-Дюрсо», поданное со льда, для этого в высшей степени подходило.
Еще немного, и должно было отпустить.
Только не надо останавливаться.
Один-другой бокал, и в голове снова начинало приятно шуметь.
Можно расслабиться.
А расслабившись – и побеседовать.
Хоть с мумией, хоть с чертом лысым.
Впрочем, мумия и так все время говорила, говорила, говорила.
Поддерживать разговор было не обязательно.
Достаточно просто кивать.
К тому же, как подсказывала постепенно пробуждающаяся память, сразу после баранины, шампанского и папиросы, времени оставалось только на одну-две чашечки дерьмового аэросалонного кофе, сваренного по уродскому американскому рецепту, «в котле», и пары дорожек порошка в уборной, – после чего аэроплан должен был, выпустив шасси, заходить на посадку…
Глава 2
Кофе был давно допит, папироса докурена, дорожки разнюханы, а аэроплан словно и не думал снижаться.
Ходил кругами, словно что-то выискивая, то ныряя к земле, то снова набирая высоту.
Ворчакову стало тревожно: летать он не любил, несмотря на «полетные» сны.
Тем не менее приходилось терпеть и улыбаться.
Положение обязывало.
Жандармский офицер, учил Вождь, – он только во вторую очередь офицер.
А в первую – жандарм.
Со всеми, что называется, вытекающими.
…«Такова се ля ва», как грустно шутил временами один из большеголовых друзей детства и юности Канцлера, подвизавшийся теперь на ниве Имперской пропаганды и агитации.
Неплохо, кстати, подвизавшийся.
Даже что-то эдакое возглавлявший.
Хотя, по-хорошему, – всех бы их, уродов писучих, – да в лагеря…
…Наконец, легкий двухмоторный «Туполев-24АМ» – настоящее произведение русского конструкторского искусства, – вышедшего, что стало редкостью в последнее время, из гражданского конструкторского бюро, а не из жидовской бериевской шарашки, – заложив широкий круг над Строгинской поймой, начал ощутимо и решительно снижаться.
У Инспектора привычно заложило уши, но он продолжал мужественно сохранять лицо и прислушиваться к уже изрядно надоевшему ведьминому бормотанию.
Достала, карга.
– В этом годе, – мумия пошамкала высохшими губами, за которыми прятались ровные и белые, как у шестнадцатилетней девочки, фарфоровые зубы, установленные явно американским стоматологом, – в этом годе, говорят, в Москве ожидают по-особенному жаркого лета…
Голос этой развалины резок, визглив и противен, совсем как у усиленно рекламируемой в Империи лесопилки (производство фирмы «Грязнов, Стельмарк и сыновья», революция в русской деревообработке: компактна, экономична, надежна, удобна в сборке и транспортировке, – отец высоко оценил этот подарок заботливого сына, – но как же она ревет!), он перекрывал даже надсадный гул заходившего на посадку и уже выпустившего шасси двухмоторного аэроплана.
Хорошо еще, что можно было смотреть не в старческий вампирский рот Великой Княгини, чью древность только подчеркивала искусственная белизна фарфора, а в круглое, как на морском корабле, окно аэросалонного иллюминатора.
Там зеленела чистенькая июньская Москва.
Там тянулись недавно обустроенные, прорубленные сквозь византийскую мешанину улочек и переулков, широкие проспекты.
Там разбегались широкими лучами Имперские автобаны.
А неподалеку от угадываемого в дальней дымке сумрачного Кремля горела золотом путеводная звезда храма Христа Спасителя, глядя на которую мумия начала, вполне ожидаемо и как-то мелко, по-крестьянски, креститься.
Ворчаков тихо вздохнул…
…Вообще-то бабка была редкой умницей.
Цивильной витриной, благословительницей новой Имперской России и ее вождей от лица старой, почти целиком расстрелянной проклятыми максималистами русской Императорской Семьи.
У нее был только один недостаток: она была неимоверно стара и уже потихоньку начала выживать из ума.
А так – вполне ничего…
В Тушине господина директора встречали.
Так что служба-с.
Исполнение долга перед Отечеством – причина уважительная.
Особенно при его роде деятельности.
А то старая мегера еще могла вызваться до дому подвезти: вежливый молодой человек аристократической наружности, да еще в гвардейском мундире с лазоревыми полковничьими погонами всесильной в наши времена Государственной Имперской Безопасности, старой княгине явно понравился.
А если она, не приведи Господь, узнает, что, будучи до мозга костей петербуржцем, Никита своей квартиры в Москве, какой бы она «деловой и культурной столицей России» ни являлась и какой бы неизъяснимой любовью Вождя ни пользовалась, отродясь не имел?!
Когда его заносило по служебной надобности в этот ужасный византийский город, он останавливался в конструктивистки роскошном новодельном отеле «Москва». Построенном не так давно неподалеку от царского Кремля для вынужденной постоянно мотаться в командировки в ненавистную деловую Москву петербуржской элиты чуть ли не по личному распоряжению Верховного.
Если бы она об этом узнала, – княжеского гостеприимства ему было бы не избежать.
И даже то, что полковник проходил по «нерукопожатному» до большевистской смуты и Гражданской войны у русской аристократии жандармскому ведомству, старую бестию не смущало.
Говорили, ей довелось в свое время ненадолго «попасть под большевиков», и даже посидеть в трудовом концлагере имени товарища Троцкого. А уж этот полезный опыт начисто отбивает любую брезгливость по отношению к «лазоревым погонам» государственной имперской безопасности.
– Да-да, княгиня… – слова миловидной компаньонки старой развалины, напротив, пробиваясь сквозь шум моторов, еле-еле слышались, и их приходилось читать по губам.
Впрочем, инспектор как раз хорошо читал по губам.
Его этому учили.
Да и губы компаньонки того стоили.
По таким губам – приятно читать.
А еще приятнее небрежно раздвинуть эти нежные, чуть припухшие лепестки своими твердо очерченными жесткими губами и уверенно проникнуть между ними властным, жадным языком, почувствовав сквозь тонкую ткань блузки, как заполошно бьется крохотное женское сердечко.
Господин полковник даже на секунду задумался и механически поправил изготовленную на заказ форменную фуражку с чуть более высокой, чем позволял устав, тульей, украшенной имперским орлом и сдвоенной сигельруной службы Имперской безопасности. Ворчаков был не гвардейского роста, и ему это легкое нарушение уставной формы одежды – разрешалось.
Впрочем, ему вообще многое разрешалось.
…Тем не менее, лететь после пробуждения было скучно.
Даже запрещенная к изданию и изрядно нашумевшая в свете фантасмагорическая «Дьяволиада» господина Булгакова, которую господин Директор специально попросил в секретной части вверенного ему Четвертого главного управления Имперской безопасности распечатать на машинке и сшить на манер деловой картонной папки (чтобы можно было читать на бесконечных совещаниях), мягко говоря, особо не впечатляла.
И более всего не впечатляла вызвавшая ярое недовольство церковников сюжетная линия Христа.
Неубедительно получилось.
Впрочем, Мастер и сам, говорят, был не особенно доволен текстом.
Собирался переписывать. Поэтому не слишком расстроился, когда уже готовую к печати книгу рассыпала государственная цензура.
Особенно после того как в тот же самый вечер, когда по радио было объявлено о запрете издания «Дьяволиады», премьеру «Театральной пьесы», поставленной в «Эрмитаже» вернувшимся из эмиграции, где ему удалось изрядно прославиться постановкой мюзиклов на Бродвее, жидовским выкрестом Мейерхольдом, почтил своим присутствием сам Местоблюститель, Верховный главнокомандующий, лидер Национал-демократической русской рабочей партии, Вождь русского народа и Канцлер Российской Империи Валентин Петрович Катаев.
И всем сразу стало понятно, что в опале отнюдь не маститый автор, а один из его не самых удачных романов.
Да и то под давлением чрезвычайно консервативных в этом вопросе церковных властей.
Понятно же, что опала объясняется причинами скорее религиозными, чем политическими: Валентин Петрович, будучи человеком выдающегося ума и воистину ангельской терпеливости, раздражать Русскую Православную Церковь не только индустриализацией, но еще и всяческими свободно издающимися «Дьяволиадами» не собирался.
Михаил Афанасьевич, надо думать, тоже относился к данным цензурным намерениям Канцлера как минимум с надлежащим моменту пониманием.
Ведь он был не только знаменитым на весь цивилизованный мир литератором и признанным «наследником Горького и Толстого», но еще и братом любимой жены Вождя.
Синеглазая красавица, слывшая законодательницей светских мод, Первая Леди Империи, была главным залогом и незыблемым фундаментом его личной безопасности и неприкосновенности: вмешивавшихся в его личные, а тем более семейные дела Вождь, мягко говоря, не жаловал.
Валентин Петрович в личной жизни, в отличие от государевой службы, заслуженно слыл сибаритом, любой дискомфорт в ней считал проявлением враждебности и был в этом вопросе чрезвычайно щепетилен.
Но, – факт остается фактом: несмотря на родственную любовь Вождя и воистину мировую славу автора, «Дьяволиада» считалась литературой запрещенной, за одно ее хранение полагалось пять лет сибирской каторги.
Мастер и Вождь не возражали.
При этом чуть ли не в открытую ее читал и обсуждал весь петербуржский, московский и киевский свет, и это придавало атмосфере вокруг последнего творения живого классика еще большую остроту и пикантность.
Господин генеральный директор департамента, Комиссар государственной безопасности Никита Ворчаков, блестящий двадцатидевятилетний офицер, возглавлявший Четвертое управление, хоть и считал Церковь институтом весьма косным и даже временами раздражающим, был в этом показательном смирении заодно и со своим патроном и с его знаменитым родственником-писателем.
Не буди, что называется, лихо.
Вон как они уперлись по куда более важному, чем все сочинения господина Булгакова, «жидовскому вопросу», совершенно справедливо и ясно сформулированному Господином Имперским Советником остзейцем Альфредом Владимировичем Розенбергом.
Просто сказали «нет».
Дальше можно не спорить и не обсуждать: только безумный политик может позволить себе в открытую выступить против Русской Православной Церкви, авторитет которой за годы Гражданской войны и разрухи поднялся до воистину неисповедимых высот.
Позиция церкви была проста и понятна: крещен по православному обряду и знает русский язык – значит русский.
И теперь любому самому гнусному жиду, и пьющему народную кровь банкиру, и сутенеру, и контрабандисту, для того чтобы избежать поселения, лагеря или расстрела, достаточно было просто «раскаяться», отречься от веры отцов, принять православие и стать «официальным имперским выкрестом».
Потому как, чтобы официально считаться «русским», достаточно двух вещей: совершенного владения государственным языком и крещения по православному обряду.
Вот жиды и крестились – с ужасающей скоростью.
А русским языком проживающее в наших палестинах еврейство и без того преотлично владеет…
…И понятно ведь, что слову жидовскому верить нельзя ни при каких обстоятельствах.
И крещению ложному верить нельзя.
Но вот – уперлись церковники.
Просто рогом уперлись, можно сказать.
Вот и ставит жидяра Мейерхольд пиески в своем собственном театре «Эрмитаже», вместо того чтобы лес валить, как положено по «Русской правде», несмотря на то, что своего жидовского происхождения ни от кого не скрывает.
Даже, говорят, – гордится.
Говорит – библейская кровь…
…А недавно, прямо на глазах у господина генерального инспектора, его старого полкового товарища, девицу увел.
Невесту.
Потом бросил, разумеется.
Предварительно надсмеявшись.
Правильно ведь говорят: актеры – сукины дети.
И никак его не достанешь, ублюдка.
Крещен-с.
Против самого-то господина Мейерхольда господин директор, будучи, как уже писалось выше, выпускником и диссертантом Императорского Санкт-Петербургского Университета, и, разумеется, человеком довольно широких взглядов, – вообще ничего личного не имел.
А некоторые его спектакли – обожал.
Так утонченно издеваться над «Белой гвардией» почти что канонизированного Вождем Булакова мог только человек отчаянной отваги и особого дара.
Потомок старинного рода, в котором хватало и настоящих храбрецов, и утонченных безумцев, глава Четвертого главного внутреннего управления Имперской безопасности, аристократ по происхождению и жандарм по призванию, Никита Владимирович Ворчаков такие человеческие качества по-настоящему ценил.
К тому же некоторые молоденькие актрисульки в мейерхольдовском Эрмитаже были – само очарование.
Несмотря на, надо отдать должное, небесспорное происхождение.
Ничуть не хуже, чем, кстати, в столичной, питерской, Особой драматической группе, переименованной некоторое время назад в Большой Императорский драматический театр имени Валентина Катаева.
Вождь, кстати, в тот вечер, когда санкт-петербургскому драматическому присвоили его имя, рад и горд был чуть ли не больше, чем в день избрания Канцлером.
А актрисульки у Мейерхольда – и вправду – диво, как хороши.
Есть вкус, ничего не скажешь…
Но все едино, когда тебя фактически принуждают считать существо с таким богопротивным шнобелем чуть ли не равным себе самому…
И только потому, что какой-то тупой деревенский поп святой водичкой на жидовский кумпол побрызгать, сука такая, не побрезговал.
…Все-таки прав Альфред – надо воскрешать старых, несправедливо забытых языческих богов.
И – резать, резать, резать.
Не по праву веры, а – исключительно – по Праву Крови.
Только очистивший себя народ по-настоящему достоин величия.
Языческих же богов надо воскрешать просто потому, что они не возражают, когда от их имени говорят люди…
Не всякие, разумеется, люди.
Сильные.
Гордые…
Русские, одним словом.
Настоящие русские.
Такие настоящие русские люди, каковыми были их далекие предки до рокового иудеохристианского выбора великого князя Владимира, прозванного за предательство арийской славянской крови Равноапостольным…
Аэроплан тем временем жестковато ударился литыми резиновыми шасси о заново забетонированную дорожку Тушинского военно-гражданского аэродрома.
Дернулся.
Подпрыгнул.
Снова ударил колесами о ровный бетон.
Взревел запущенными в обратную сторону для торможения винтами и наконец уже спокойно побежал по полосе, что называется, «навстречу встречающим».
Инспектор усмехнулся.
Канцлер, будучи, несмотря на некоторую сомнительность происхождения (в двадцатые годы отдельные провокаторы говорили даже об изрядной толике жидовской крови, но Ворчаков совершенно точно знал, что это не так), человеком тонкого литературного вкуса, – в молодости писал стихи и, поговаривают, учился у самого академика Ивана Алексеевича Бунина, – ненавидел такие «встречи встречающих» даже в официальных отчетах.
Исключительно за стиль.
И своих помощников к тому приучал, причем, склонного к канцеляризмам юриста Ворчакова, совершенно безжалостно.
И кстати – напрасно.
Не всем быть поэтами.
Некоторым, к примеру, – приходится служить в жандармерии.