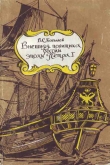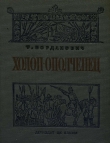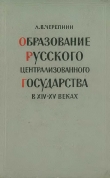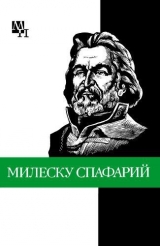
Текст книги "Николай Гаврилович Милеску Спафарий"
Автор книги: Дмитрий Урсул
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
Глава V. Общественно-политические взгляды
 изнь и деятельность Н. Милеску Спафария проходила, как уже отмечалось, в исключительно тяжелый для Молдавии период, когда довлевший над ней гнет военно-феодальной Османской империи значительно усилился.
изнь и деятельность Н. Милеску Спафария проходила, как уже отмечалось, в исключительно тяжелый для Молдавии период, когда довлевший над ней гнет военно-феодальной Османской империи значительно усилился.
Иноземные завоеватели и их ставленники на молдавском престоле – господари-фанариоты беспощадно эксплуатировали молдавский народ, тормозили развитие производительных сил страны, морально подавляли ее население. Многим представителям господствующего класса Молдавии казалось, что османское иго сбросить невозможно, что завоевателям надо покориться и терпеть их владычество. Это были реакционные бояре, которые прекрасно уживались с чужеземными поработителями и вкупе с реакционными господарями (а таковыми были почти все господари-фанариоты и нефанариоты) нередко призывали на помощь турецкие и татарские отряды для борьбы против народа. Но молдавский народ боролся как против иноземных поработителей, так и против «своих», внутренних эксплуататоров. На его стороне были прогрессивно настроенные представители господствующего класса, в том числе отдельные господари, стремившиеся освободить Молдавию от иноземного ига.
В этой исторической обстановке общественно-политические взгляды и патриотические идеалы Милеску Спафария, как выдающегося прогрессивного деятеля Молдавии и России второй половины XVII – начала XVIII в., выразились в первую очередь в форме протеста против экономического и политического угнетения молдавского народа иноземными поработителями, в форме неуклонно проводившейся им идеи правомерности борьбы молдавского народа и других придунайских народов за их освобождение от османского ига, в провозглашении освободительной миссии России, в борьбе за развитие и укрепление русско-молдавской дружбы.
Милеску Спафарий неустанно пропагандировал идею возможности свержения османского ига, причем указывал, что независимость Молдавии может быть добыта только в вооруженной борьбе народа против завоевателей. В ряде своих произведений он отмечает преходящий характер владычества Османской империи над Молдавией и другими придунайскими странами. Однако мыслитель понимал, что молдавский, а также другие порабощенные Османской империей народы (валахи, болгары, сербы, венгры и др.) своими собственными силами освободиться не смогут и что борьба угнетенных народов увенчается успехом лишь при поддержке со стороны могучего централизованного Русского государства.
О связи Милеску Спафария на протяжении всей его жизни с освободительным движением придунайских народов против османского ига свидетельствует как его переписка с прогрессивными общественно-политическими деятелями Молдавии, так и некоторые письма к государственным деятелям России, в частности его письмо в Петербург от 5 октября 1704 г. к ведавшему в то время Польским приказом боярину Головину. В связи с приездом в Москву в 1704 г. Мелентия Лунгу, посланца (чауша) [42]42
Чауш – курьер господаря (правительственный).
[Закрыть]молдавского господаря, которого Петр I «жалует», Милеску Спафарий писал, что чауш «зело надобен», ибо он «в Мултянскую [43]43
Мултянская земля – Валахия.
[Закрыть]землю идет» для организации там борьбы против османских завоевателей, и что в случае войны России против Турции чауш будет «и сербов, болгаров, волохов (молдаван. – Д. У.) и мултян (валахов. – Д. У.), и самого Ракоция (руководитель освободительного движения в Венгрии. – Д. У.) подимать на поганцов (османских поработителей. – Д. У.) и ведает каким способом» (72, 37).
В переписке с общественно-политическими деятелями Молдавии и Валахии, дошедшей до нас лишь частично, а также в своих сочинениях Милеску Спафарий неуклонно популяризировал освободительную роль Русского государства по отношению к народам, порабощенным Османской империей. Особенно ярко эта объективно освободительная роль России по отношению к молдавскому и другим угнетенным иноземными завоевателями народам выражена им в заключении книги «Хрисмологион», где он пишет, что только могучая рука русского государя «победит и весьма возоделеет» Османскую империю и освободит народы, стонущие под османским игом (24, 327).
Борьба России за освобождение молдавского и других придунайских народов от османского ига, к которой призывал Милеску Спафарий, объективно не противоречила национальным интересам России, а полностью совпадала с ними. В рассматриваемый период перед Россией, как уже отмечалось выше, стояли весьма важные внешнеполитические задачи, разрешение которых создало бы благоприятные условия для дальнейшего развития экономики и культуры страны. Устья почти всех рек, протекавших по территории Русского государства в западном и южном направлениях, и соответствующие морские побережья находились во владении Турции и Швеции, что затрудняло развитие экономических и культурных связей с западными государствами. Вот почему Русское государство не могло мириться, в частности, с пребыванием Северного Причерноморья в составе Османской империи и встало на путь борьбы за вытеснение турецких завоевателей с этой территории. Кроме того, султанская Турция, постепенно теряя свое могущество, стала орудием в руках Англии, Франции и других западных колонизаторов, которые во имя обеспечения собственных торговых интересов все время натравливали султанское правительство на Россию и пытались помешать осуществлению ее планов. Таким образом, объективные результаты русско-турецких войн начиная с конца XVII в. имели огромное прогрессивное значение для угнетенных Османской империей народов, которые справедливо видели в России единственную избавительницу от иноземных поработителей. Следует помнить и то, что в экономическом, политическом и культурном отношении Россия была гораздо более развитым государством, чем отсталая султанская Турция. «Россия, – писал Энгельс, – действительно играет прогрессивную роль по отношению к Востоку… господство России играет цивилизаторскую роль для Черного и Каспийского морей…» (1, 27, 241).
Но Милеску Спафарий понимал также, что Молдавия, как небольшая страна, даже освободившись при помощи России от османского ига, не могла бы долго сохранить свою независимость, находясь в окружении таких агрессивных в то время государств, как Османская империя, Крымское ханство, Австрия и панская Польша. Поэтому он, выражая вековые чаяния молдавского народа, ратует за принятие Молдавией русского подданства.
Наблюдая реакционную роль папства, проводившего теократическую политику, а также идеологическую экспансию католической церкви на Украине и поддержку римской курией агрессивных устремлений польских и немецких феодалов против России, Украины, Молдавии и других стран, Милеску Спафарий резко выступал против католицизма. Критика католической церкви в то время была одной из форм борьбы за независимое, самостоятельное государственное и культурное развитие как Молдавии, так и России.
Необходимо отметить, что в общественнополитической мысли на Украине во второй половине XVII в. главное место также занимала проблема борьбы против иноземных захватчиков – польских и турецких феодалов (см. 77, 59). Это объясняется тем, что захват украинских земель польскими феодалами привел к усилению эксплуатации трудящихся. Социальное и национальное угнетение со стороны польских феодалов сопровождалось духовным порабощением украинского православного населения католической церковью. Чтобы укрепить свои позиции на Украине, польские феодалы, вдохновленные католической церковью, осуществили союз православной и католической церквей на Украине под верховенством папы римского (уния). Протест трудящихся масс против социального, национального и религиозного гнета панской Польши перерос в освободительную войну украинского народа под руководством Богдана Хмельницкого. Народно-освободительная война 1648–1654 гг. окончилась победой украинского народа и воссоединением его с братским русским народом в едином Российском государстве. После воссоединения Украины с Россией Левобережье в административно-политическом отношении стало частью Российского государства, сохранив при этом определенную автономию. Правобережная же Украина продолжала оставаться под гнетом панской Польши. Широкие массы украинского народа боролись за воссоединение всей Украины с Россией. В то же время некоторые гетманы проводили политику отрыва Украины от России и присоединения ее к Польше или Турции. Такая политика вызывала острое недовольство трудящихся масс Украины, которое вылилось в вооруженную борьбу крестьянства и простого казачества, принимавшую одновременно резко антифеодальный характер. В идеологическом плане она приняла форму религиозной антикатолической полемики (там же, 48).
Убежденным сторонником воссоединения Украины с Россией и непримиримым врагом польской экспансии выступил литературный и церковно-политический деятель Лазарь Баранович (1620–1693). Последовательная борьба за укрепление братского союза России с Украиной была одной из важнейших сторон его деятельности. Во многих своих произведениях Лазарь Баранович, как и Юрий Крижанич, обосновывает идею объединения всего славянского мира во главе с Россией для борьбы против султанской Турции и ее вассала – Крымского ханства. Главную надежду в борьбе против агрессии со стороны Османской империи он возлагал на Русское государство. Эти же идеи развивал в своих произведениях украинский писатель и церковно-политический деятель XVII в. Иоаникий Галятовский. Выдающиеся прогрессивные мыслители Украины Иннокентий Гизель (1600–1683) и Феофан Прокопович (1681–1736) последовательно боролись за укрепление политических, экономических и культурных связей Украины с Россией, за прогрессивный путь общественного развития русского и украинского народов и обеспечение их государственной независимости (см. там же, 59–67).
Борьба прогрессивных общественно-политических деятелей и мыслителей Украины, России и Молдавии, в том числе Н. Милеску Спафария, против католицизма велась под лозунгом защиты православия, являвшегося в то время идеологической основой единства трех братских народов.
Страстный поборник идеи самостоятельности и независимости народов, Н. Милеску Спафарий резко выступает против стремления тех или иных правителей к мировому господству и связанных с этим захватнических войн. В своем сочинении «Хрисмологион» он развенчивает идею мирового владычества, указывая, что она не имеет под собой никакого реального основания, а попытка установления мирового господства обречена на провал. В доказательство этого своего положения он ссылается на примеры из истории древнего мира, когда цари ассирийские, персидские, македонские (Дарий, Кир, Александр и др.), а также римские завоеватели, пытаясь достичь мирового владычества, вели захватнические войны, но своих целей не добились и их «мировые» империи весьма скоро распались. При этом кроме теологических доводов о невозможности установления мирового господства Милеску Спафарий приводит светские доказательства, рационалистические аргументы, выдвигая их на первый план (24, 32–34 л.). Указывая, что ни один царь не может владеть всем миром, он приводит в качестве главного довода то, что все народы, любя свободу, «не хотят покоритися главе той», т. е. претенденту на мировое господство (там же, 32 л.).
В своих работах Н. Милеску Спафарий неоднократно обращается к борьбе свободолюбивых народов против иноземного порабощения. Он пишет, например, о борьбе молдаван против своих поработителей, об освободительных войнах китайского и корейского народов против татаро-монгольских, маньчжурских и японских завоевателей и показывает, что эта борьба в конце концов приводит к освобождению свободолюбивых народов от иноземного ига.
Основную роль в истории борьбы народов за свободу и независимость своей родины и в противодействии попыткам установления мирового господства одного государства Н. Милеску Спафарий отводит славянским народам, и в первую очередь великому русскому народу. Он указывает, что северные народы (русские и их предки восточные славяне) никому не покорялись, что русский народ всегда отстаивал свою независимость, подчеркивает могущество и величие Русского государства и непобедимость русского народа. «И паки знаменательно есть, – пишет Спафарий, – яко никогда народ северный никому покорися, но от начала мира даже до ныне своих монархов имях. Обаче не един из северных стран в толикой силе, и державе владетель обретеся, яко великий наш монарх российский» (там же, 33 об.).
Н. Милеску Спафарий резко осуждает тех правителей государств, которые ведут захватнические войны и порабощают другие народы, называя их тиранами и мучителями народов, и, наоборот, восхваляет тех правителей, которые живут в мире с соседними государствами (см. там же, 33–71). К внешней политике московских царей он относится в высшей степени апологетически. Его выступление против идеи мирового господства одного государства, в защиту независимости народов, подчеркивание политического значения России как одного из сильнейших государств современного ему мира имело, безусловно, большое прогрессивное значение.
В тесной связи с философскими и общественно-политическими взглядами Н. Милеску Спафария находятся и его воззрения на историю, которые, несмотря на рамки провиденциализма, содержат прогрессивные тенденции. Он указывает на воспитательное, патриотическое значение изучения истории, пытается понять всемирную историю как непрерывный процесс развития. Его очень интересовало прошлое Молдавии и Русского государства. Он обращает внимание на то, что к тому времени еще не была написана история России, что русский народ недостаточно знает свою героическую историю и многие славные дела предков, к сожалению, забыты. По его мнению, историю России должны писать сами русские, «потому что всякий народ про себя, и про дела свои, и про страну свою лучше умеют списати, нежели чужой» (17, XLII). Эта мысль Милеску Спафария, несомненно, была навеяна тем, что некоторые иностранные историки, писавшие о России (например, Адам Олеарий, сочинение которого «Описание путешествия в Московию» вышло в 1658 г. и, возможно, было знакомо Милеску Спафарию), фальсифицировали историю русского народа, пренебрежительно относились к его традициям, по существу, клеветали на русский народ. В своей работе «Предисловие к исторической книге…» Милеску Спафарий горячо призывает к написанию истории России, считая составление такого труда исключительно почетным и благородным делом, и выдвигает ряд требований к историкам.
Первое требование – это критическое отношение к источникам, использование лишь проверенных и достоверных сведений. При написании истории необходимо, указывает автор, «чтобы он (историк. – Д. У.) историю свою собрал из добрых и достоверных прежних историках, наипаче из тех, которые меж собою согласуются и которые, наипаче от народа того, яко верны восприяты суть… тем историкам, которые только слухом или своим мнением пишут, не верити вовсе», а можно верить только тем историкам, работы которых «согласуются и всенародными повестьми, и где, по обычаю того народа, из-стари верою подтвердились, о которых они пишут» (там же, XXXIX–XL). Критически относясь к авторитетам и самому методу феодальной историографии, к наследию древних, а также к современным ему историкам, летописцам, Н. Милеску Спафарий считал, что некоторые из них во многом ошибались, что не все их утверждения соответствуют действительности, а поэтому должны быть пересмотрены и уточнены. Он обращает внимание на правдивость изложения исторических событий, требует, чтобы историк «правдою б все писал, а не ласкательством или иным каким страстием повинен» (там же, XXXIX). Историк, говорит автор, не должен умолчать ни о добродетелях, ни о злодеяниях «для того, чтобы от после нас будущих была надежна от добрых дел, а страх от злодейств» (там же). Высказанное им требование научного подхода к описанию истории народов, несомненно, прогрессивно. Он также считает, что историк должен выразить и свое отношение к описываемым событиям, давать им свою оценку. «При том подобает рассуждение и ясность от себя историку к делам привести, се есть, сие похвали, только бережно и вкратце… а другое осуди», «чтоб к добрым делам слогом и словом своим будто совеселится, а противным сопечалуется» (там же).
Н. Милеску Спафарий выдвигал передовую для своего времени мысль об освещении в исторических работах всех сторон общественной и государственной жизни и отмечал, что при написании истории необходимо показывать как военные подвиги, так и развитие «дел гражданских – дипломатии, политики, церкви, науки, искусства» (там же, XLI–XLII). История, по его мнению, имеет не только просветительное, но и воспитательное значение. Он писал, что «история гражданскому или домашнему делу пользует» и что «ничего так не украшает человека и душевно и телесно, и всякое человеческое житие, и гражданское пребывание исправляет, и приведет его к ведомости всяких искусных дел и вещей и к совершенного человека, что история» (там же, XXXVI).
По мнению Н. Милеску Спафария, история прошлого должна была побуждать людей к активности, действию. В исторические события, писал он, «аще кто прилежно вникает, удоб приобрести что в своем нраве, и исправити, и от чесого отступити, и чесому последовати, и от чужих напастей опасно пребывати, и ко исправлению жития и ко будущему приближитися может» (20, 2).
Подчеркивая большое значение изучения истории России в воспитании патриотических чувств народа, Н. Милеску Спафарий указывал, что эту историю необходимо писать и изучать для того, чтобы «московскаго народа и российскаго преукрасити всякими добродетелями, и учениями, и искусствами и прославити не токмо нынешние российские народы, но и прежде бывших славных предков своих… потому что дела их славныя бывшия которые были покрыты темностью забвения» (17, XLI). Автор указывает на международное значение написания истории России для правильного понимания другими народами роли русского народа во всемирной истории и подчеркивает растущий за границей интерес к России. «И та есть всенародная польза, – пишет Спафарий, – что не токмо самому себе российскому народу будет ведомость истинная о своих предках, и о приключившихся дел при них и после них, но и иным народам будет познание и ведомость, и познание и оттуда слава московскому и российскому народу, потому что многие ученые люди разных народов издавна желают таковые книги изданию» (там же, XLII). Стремление Н. Милеску Спафария рассматривать историю России в контексте мировой истории опять-таки роднит его с Ю. Крижаничем (60, 273).
В основе историко-философской концепции Н. Милеску Спафария лежит принцип закономерного изменения и развития общества. Он подходил к мысли о том, что всемирная история представляет собой непрерывно изменяющийся и развивающийся процесс, распадающийся на ряд определенных периодов, между которыми существуют связь и преемственность. В «Хрисмологионе», например, эта идея изменения и развития высказана им следующими словами: «Вся бо престарение имеют, царства, грады, и Речь Посполита, или народ» (24, 193 л.). И далее: «… вся царства мира и владения, совершенство (т. е. высшую точку развития. – Д. У.) и конец имеют» (там же, 34 л.). Эта мысль – о циклическом развитии государства, нашедшая своего защитника и в лице Ю. Крижанича (66, 145), была шагом вперед в развитии европейской философской мысли.
Однако прогрессивные тенденции воззрений мыслителя в этом вопросе значительно ослабляются его идеалистическими взглядами. Отдавая дань времени, он придерживается господствовавшей в средневековой историографии провиденциалистской теории периодизации всемирной истории по «четырем монархиям». Согласно этой теории, последовательная смена четырех монархий: ассиро-вавилонской, мидо-персидской, греко-македонской и римской – предречена провидением, причем последняя монархия должна была существовать до «конца света». Но процесс разложения и кризис рабовладельческого строя привели к крушению Римской империи. Поэтому православные теологи стали считать «вечным царством» Византию. Когда же и Византия окончательно пала под ударами турецких завоевателей, то идеологи русского самодержавия присвоили роль последней монархии Русскому государству, создав теорию «Москва – третий Рим». При помощи этой теории идеологи российского самодержавия стремились поднять международный авторитет Русского государства. Своим острием эта теория была направлена против папы римского, претендовавшего на роль главы всех христиан и стремившегося подчинить своему влиянию Россию и другие государства. Милеску Спафарий разделял русскую историко-политическую теорию «Москва – третий Рим» и считал, что Россия является естественной преемницей предшествующих монархий. При этом он подчеркивал преимущества современного ему Русского государства по сравнению с Римским. Указанием на преемственную связь Византии с Россией Милеску Спафарий отнюдь не хотел умалить политического достоинства и самостоятельности Русского государства. Наоборот, он неоднократно подчеркивает его величие и самостоятельный путь исторического развития. Эта преемственная связь, по его мнению, выражалась в том, что после взятия турками Константинополя оплотом православия стала Москва, одной из важнейших задач которой являлась защита и освобождение православных народов от ига «неверных» турок. Таким образом, идея освободительной миссии России по отношению к порабощенным Османской империей народам обосновывалась им также религиозными доводами, что являлось характерной особенностью того времени.
Н. Милеску Спафарий приближался к пониманию того, что каждый народ вносит свой вклад в создание мировой культуры. Весьма значительный вклад во всемирный прогресс в прошлом, указывает он, сделан древними греками, а также китайским народом. Особая роль в мировой истории, как уже отмечалось, по мнению мыслителя, принадлежит России.
У Н. Милеску Спафария наблюдаются элементы натуралистического понимания истории. В противоположность богословской, фаталистической трактовке истории, объяснявшей все явления общественной жизни действием сверхъестественных сил, божественным провидением, он подчеркивал роль самих людей в историческом развитии общества. Хотя этот взгляд не выходил за рамки идеалистического понимания истории, так как сводил историю общественного развития к деятельности царей и правителей и считал идеальные побудительные силы последними причинами событий, но для конца XVII – начала XVIII в. такая историческая концепция являлась характерной и прогрессивной, ибо была направлена против господствовавшего в то время религиозного фатализма.
Главное место в общественно-политических взглядах Н. Милеску Спафария занимает вопрос о государстве. И это вполне естественно, ибо укрепление государства (самодержавного в России, централизованного в Молдавии) в то время было главнейшей исторической задачей.
Изменения в экономическом строе России конца XVII – начала XVIII в., зарождение в недрах феодализма элементов капиталистического уклада и обострение классовой борьбы требовали соответствующих изменений в феодальной надстройке: перехода от слабой централизованной власти, от феодальной монархии, ограниченной боярской думой, к сильному централизованному государственному аппарату, к монархии абсолютной. Но это встречало упорное сопротивление со стороны отживающих сил общества – реакционного боярства, защищавшего феодальный сепаратизм и выступавшего против укрепления центральной власти. Силой, боровшейся против реакционного боярства, в то время была передовая часть дворянства и купечества, заинтересованная в развитии экономики страны и являющаяся сторонником укрепления централизованного государства. Централизованное феодальное государство в тот период создавало условия для развития экономики и культуры страны, о чем свидетельствуют преобразования Петра I. Конечно, все это проводилось в интересах возвышения класса помещиков и купечества, но объективно укрепление централизованного государства соответствовало историческим потребностям России.
Образование абсолютной монархии, новые внутренние и внешнеполитические задачи, ставшие перед Русским государством, вызвали необходимость своего идейного обоснования. В связи с этим в России стала распространяться теория «общего блага» как цели государства. Согласно этой теории, государство защищает и охраняет общие интересы класса феодалов, а не частные интересы отдельных помещиков. Эта теория призывала к подчинению частных интересов интересам всего класса феодалов. Одновременно она стремилась ограничить крайности феодальной эксплуатации, рекомендовала помещикам не злоупотреблять властью и не разорять крестьян, ибо непомерная эксплуатация подрывает доходы как самих помещиков, так и государства, а жестокости феодального гнета толкают крестьян на восстание.
Теоретическое обоснование процесса централизации Русского государства и превращения его в абсолютную монархию нашло отражение в работах ряда прогрессивных мыслителей второй половины XVII в. Так, видный государственный деятель России А. Л. Ордин-Нащокин (ум. в 1680 г.) развивал прогрессивную программу укрепления независимости государства, проведения государственных реформ, преодоления отсталости страны, развития промышленности, поощрения купечества. В области внешней политики Ордин-Нащокин считал необходимым установление тесного союза со славянскими странами с целью противодействия общим врагам. Он являлся сторонником неограниченной монархии и рассматривал царя как защитника государственных интересов от своекорыстия бояр, которым были чужды интересы всей Российской державы.
Гнет Османской империи на Балканском полуострове заставлял южных и западных славян – болгар, сербов, хорватов, словаков, а также молдаван рассматривать Россию как оплот в борьбе против чужеземного ига. Идею объединения всех славянских народов вокруг Москвы развивал выдающийся политический мыслитель XVII в. хорват Ю. Крижанич, проживший много лет в России. Он являлся сторонником просвещенного абсолютизма и считал, что царь должен заботиться о всеобщем благополучии подданных. Но чтобы монархия не превратилась в «людодерство», в тиранию, Крижанич рекомендовал установить для нее ряд ограничений. Крижанич страстно желал видеть «светоч славянства» – Русь могучей и несокрушимой и в связи с этим предлагал ряд мер, направленных на развитие экономики страны, устранение некоторых недостатков русской жизни, проведение реформ общественного и политического строя Русского государства. Он также указывал на тяжелое положение русских крепостных крестьян и выступал против их обременения чрезмерными повинностями (см. 60, 274).
Теории, обосновывавшие дальнейшую централизацию и усиление Русского государства, получили развитие и в работах Н. Милеску Спафария.
Следует также отметить, что особенно важное значение вопрос о создании сильного централизованного государства приобрел в то время в Молдавии, где власть господаря не была прочной, в результате чего феодальные междоусобицы ослабили ее и явились одной из решающих причин того, что она не смогла отстоять своей независимости и подпала под иго Османской империи. Милеску Спафарий понимал великое значение сильной централизованной власти в истории народов как политической организации более высокого типа, чем феодальная раздробленность. Поэтому его взгляды на государство в значительной степени являлись теоретическим выражением назревших исторических потребностей как России, так и Молдавии.
Наилучшей формой государственного правления Милеску Спафарий считал абсолютную («совершенную») монархию, когда «един царь, или краль, сам владеет без клеврета», т. е. не ограничен боярской думой (24, 28). Сравнивая монархию как власть одного с аристократией как властью «многих и благих», он отдает предпочтение монархии как сильной централизованной власти, которая «величеством своим вся прочая царства мира превосходит и побеждает» (там же, 29). Источником этого взгляда на государственное правление, без сомнения, являлась политическая организация России, где к концу XVII в. боярская дума потеряла свое прежнее значение и установилась сильная централизованная власть, обеспечившая независимость и государственные интересы России.
Сильная централизованная власть, создававшая условия для формирования и укрепления национальных государств, в тот период могла установиться лишь в форме феодальной монархии. Ф. Энгельс указывал, что королевская власть в период феодализма была прогрессивным элементом. «Она была, – писал Ф. Энгельс, – представительницей порядка в беспорядке, представительницей образующейся нации в противовес раздробленности на мятежные вассальные государства» (1, 27, 411).
Являясь сторонником абсолютной монархии, Н. Милеску Спафарий для ее обоснования приводит как рационалистические, так и теологические доводы. Но теологические доводы он, по-видимому, считает недостаточно убедительными и поэтому выдвигает на первый план рационалистические доказательства. В связи с этим его можно с известным основанием причислить к тем мыслителям, которые, по словам К. Маркса, первыми стали рассматривать государство человеческими глазами и выводили его законы больше из разума и опыта, чем из теологии. Вопреки теологии, утверждавшей, что царская власть происходит «от бога», Милеску Спафарий выдвигает положение о том, что власть государственная земного происхождения, и к ее оценке он применяет критерий человеческого разума. Необходимость государства, власти царя мыслитель выводит из необходимости единого руководителя в обществе. Одновременно он высказывает догадку о том, что государство возникло на основе противоречий между отдельными группами общества. Для теоретического обоснования необходимости сильного централизованного государства с монархом во главе Милеску Спафарий приводит следующий, как он выражается, «философский довод»: «Всякое множество благоустроенное от единого устрояется, еже владеет им и управляет. Аще убо то едино, отъемлеши абие чин разрушается и множество смущается. Явственно то есть в нашем телеси, еже состоится от толикаго множества член, аще убо не была бы сила сицевая управляющая и общая, яже спрягает обще все благия части, разрушено абие было бы сочинение тела, о том аще кто сумнительствует, сей да вопросит докторофилософов. Убо стихии, или элементы, сиречь начала мира, се есть земля, вода, воздух, огонь, яже всегда противоборствуют. И того от начал внутренних, сиречь качества ради противных, и их ради стояти мирно не возмогли бы, аще не имели едино небо правящее и я устрояющее: паки возвратили бы ся во первое тшее и пропасть. Во человецех, кийждо род имать едину главу, кийждо град единого правителя. Всякое общество единого верховника. Всякое царство единого царя… Во едином же паки, и в том же человеце, един разум словесный владетельствует и правит всеми прочими силами. Вся чувства от единыя главы держатся. Вся части тела от единого тогожде сердца оживотворяются. Во едином корабли един есть кормчий. В воинстве един воевода есть общий…» (24, 126–126 об.).