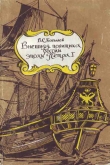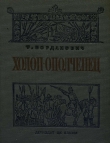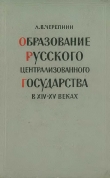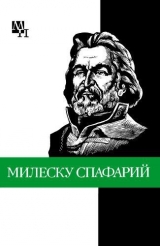
Текст книги "Николай Гаврилович Милеску Спафарий"
Автор книги: Дмитрий Урсул
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Таким образом, мыслитель подходит к пониманию того, что практика играет определенную роль в процессе познания. Конечно, у него не было, да и не могло быть в то время, научного понимания практики и ее роли в процессе познания. Он понимал практику ограниченно, не включая в нее воздействие человека на природу с целью ее преобразования и тем более революционное изменение общественных отношений. Но само обращение мыслителя к практике, попытка понять ее роль в процессе познания являлись весьма прогрессивными, ибо были направлены против схоластики и способствовали развитию научных знаний. Приведенные выше рассуждения мыслителя говорят о том, что он, деля науки на теоретические и практические и требуя всяческого расширения последних, не воздвигал между ними преграду. По его мнению, перекликающемуся с аналогичным (но высказанным несколько позже) мнением Феофана Прокоповича (см. 78, 103), каждая наука является одновременно и теоретической и практической.
Милеску Спафарий придавал большое значение истинности наших знаний о мире и подходил к правильному пониманию истины как соответствию знаний объективной действительности. Высшей и главной целью любой науки и всех их, вместе взятых, полагал он, является постижение истины. Так, он, например писал, что «история без истины, яко слепая, везде заблуждает», а «истина есть начало всякия мудрости» (17, XXXIX). Мыслитель считал, что познание причин природных явлений и исторических событий приводит нас к познанию истины.
Милеску Спафарий являлся горячим поборником просвещения, убежденным сторонником всемогущества знания. Он стремился доказать необходимость образования и практическую пользу различных наук. По его мнению, наука и образование стоят выше всякого богатства и власти и наука является бессмертным приобретением человека. «Сведение (знание, наука, – Д. У.) нетленно», – писал мыслитель (26, 26). Он пытался дать определение каждой из известных ему наук, установить ее место в общественной жизни и пользу, которую она приносит людям. Вместе с тем он стремился доказать невозможность укрепления государства без развития науки и просвещения. Милеску Спафарий старался понять насущные требования своей эпохи, вот почему мы находим у него не отвлеченные мудрствования о той или иной науке, а попытку заинтересовать читателя кратким изложением ее основ с обязательным указанием на ее практическое применение. Своеобразным призывом к науке и просвещению является его «Книга избранная вкратце о девятих мусах и о седмих свободных художествах».
Следует особо подчеркнуть, что у всех прогрессивных русских мыслителей, особенно у естествоиспытателей, характерной чертой являлся интерес к народнохозяйственным проблемам, к практическому значению наук. Эта черта была свойственна и Милеску Спафарию. Его горячая забота о просвещении, проповедь знаний, указание на их связь с практическими задачами выражали жизненную потребность Молдавии и России того периода.
Развитие производительных сил в недрах феодального общества обусловливало возникновение и развитие положительных, конкретных наук, постепенно отпочковывавшихся от не расчлененной в прошлом единой науки, в которую входила и философия. Поэтому мыслители должны были определить место и роль философии среди других наук. Не прошел мимо этого вопроса и Милеску Спафарий. Для него философия является не только одной из наук, но и той областью знания, которая объединяет и направляет развитие всех наук.
Семь «свободных художеств» (наук): грамматика, риторика, диалектика, арифметика, музыка, геометрия и астрономия – по мнению мыслителя, являются «орудиями и частями философии» (26, 26). А «едина философия, метафисика [41]41
Здесь термин «метафизика» употребляется не в смысле «антидиалектика», а обозначает всю философию в целом.
[Закрыть], вся науки управляет» (24, 127). Особое внимание он уделяет выяснению взаимоотношений между философией и диалектикой, а также характеристике диалектики. Диалектика, считает он, – это «орудие орудиев и рука философии». Она «царица человеческого разума», «пила мыслей», «правило помышлений, приятелище истины». Милеску Спафарий определяет ее как «художество любопрения», которое учит как «ложь от истины разделяти». Практическое значение диалектики состоит в том, что она «употребляется вместо орудия, еже благоразделити слово и довод учинити и памяти зело помогати», ее необходимо изучать также «ради истинства, понеже правила предлагает, чрез них же исправляются помышления наши» (26, 33, 34). Диалектика «потребная есть философом, богословом и доктором или хотящим учитися, или победити, или толковати, или доводити во всех делех» (26, 34). В данном случае Милеску Спафарий, так же как и многие древние философы и философы Нового времени, в том числе Юрий Крижанич (см. 65, 459) и Феофан Прокопович (см. 78, 97–98), рассматривает диалектику как «мастерицу орудий» исследования для всех наук. Что же касается философии, то она, по его мнению, не схоластическая наука, оторванная от жизни, а основа знаний и представлений, определяющих строй жизни народа, наука о причинах явлений.
В грамматике он видит «художество зрителное и делателное, благоглаголати и писати учащее». Ее необходимо изучать потому, что она «есть иным художествам самое основание», имеет огромное значение для изучения и вообще для «совершенствования» человека (см. 26, 29).
Мыслитель указывает также на большую роль точных наук – арифметики, геометрии, астрономии – в жизни общества. Он считает, что знание арифметики крайне необходимо для строительства, мореплавания, торговли, медицины и что вообще «житие человеческое не может исправитися без сего учения» (там же, 36). Определяя место и роль геометрии как науки, Милеску Спафарий подчеркивает, что ее положения являются истинными и что она приносит огромную пользу людям. Геометрия, говорит он, имеет большое значение для «землемерия», географии и других наук; она дает возможность «о круге земном разумети» и «по стопам солнца и луны круг земли измерити» (там же, 43).
Астрономию он характеризует как учение «о движении звезд» и отличает ее от астрологии. «Разнствуются убо астрологиа от астрономии, – пишет он, – яко астрологиа учит о совершенстве звезд и о их ползе, астрономия же учит о движении звезды» (там же, 45). Мыслитель скептически относился к попыткам средневековых астрологов гадать по звездам и предсказывать судьбу. Наряду с этим он подчеркивает большое практическое значение астрономии в земледелии, военном деле и пр.
Кроме указанных в рассматриваемой книге семи так называемых «свободных наук» Милеску Спафарий придавал большое значение для практической деятельности людей также и другим наукам, например истории, географии, наукам, изучающим животный и растительный мир, и т. д., но, как уже отмечалось выше, весьма высоко ценил математику. В этом плане он предпринял серьезную попытку преодолеть средневековую классификацию наук, предвосхитил аналогичное мнение Феофана Прокоповича (см. 78, 89).
Таким образом, мыслитель исключительно высоко оценивает науки как исторические и философские, так и естественные, подчеркивает их громадную роль в практической деятельности и совершенствовании людей, в просвещении разума. Просветительские трактаты Милеску Спафария, а также его географические сочинения и «Книга глаголемая естествословная» свидетельствуют как о стремлении автора популяризовать естественнонаучные знания, так и о его материалистических тенденциях.
Во взглядах Милеску Спафария на мораль, воспитание и обучение также отражены прогрессивные для его времени тенденции. Вопреки идеалистической теории «врожденных идей» или «врожденных принципов практического поведения», отстаиваемых Р. Декартом и некоторыми другими философами XVII в., Милеску Спафарий, так же как и Юрий Крижанич (65, 452), выступает сторонником сенсуалистской теории «чистой доски» (fabula rasa). Мыслитель уподобляет «умы отрок юных» «скрижали ненаписанной», на которой можно начертить все что угодно. Моральные принципы, нормы практического поведения людей, по его мнению, формируются средой, воспитанием, т. е. имеют своим источником опыт, практическую деятельность человека (18, 29). Подобные идеи высказывал в своих произведениях и Симеон Полоцкий (55, 262). Как было отмечено выше, Милеску Спафарий был знаком с сочинениями Симеона Полоцкого и использовал некоторые из них. Милеску Спафарий пытался дать естественнонаучное обоснование необходимости воспитания и обучения в детские и юношеские годы. Он считал, что наиболее прочно и глубоко усваиваются и прививаются человеку те знания, навыки, моральные нормы, с которыми он познакомился в детстве, когда заполнялась его «чистая доска». «…Юных сердца, – пишет Милеску Спафарий, – суть скрижали не каменные, но плотяные», т. е. живые, телесные, и то, что там уже написано, стереть нелегко (18, 29). Он считает, что воспитание и обучение требуется подчинить интересам общества, государства.
По мнению Милеску Спафария, образование должно быть всесторонним, что обусловлено взаимосвязью и единством всех известных в то время наук. Проводя мысль о необходимости изучения основ всех наук и используя для доказательства этой мысли аллегорические образы муз и Аполлона, он писал: «Философи древни хотяще показати, яко всякое учение подобает во память быти и содержатися единому от другаго, понеже аще не во память пребывает учение, всуе труждаемся, аще и бесчисленныя книги прочитаем и аще едино учение познаваем, другого же не свемы; хромое таковое учение явится. Сего ради сице изобразиша девять мус во образе девяти дев, яже друг от друга рукою содержатся и на различная учения относятся и лик составляют. Между же их сликовствует Аполлон, сиречь солнце, знаменуя, яко учение свет есть и ум просвещает, подобно и солнце свет есть и миру сияет» (26, 27).
Наряду с этим Милеску Спафарий считал необходимой и специализацию, т. е. профессиональное образование, которое должно проводиться уже на широкой базе усвоенных основ наук. Мыслитель пытался установить определенную систему образования и последовательность обучения, требовал соблюдения в преподавании принципа «от простого к сложному». Указывая, что образованным человеком можно стать лишь при систематическом овладении науками, что требует большого труда, Милеску Спафарий предлагал обучение разделить на три периода («седмилетия»). В первом «седмилетии» должно даваться первоначальное общее образование. Второй период предполагает изучение какого-либо ремесла, науки и овладение профессией, необходимой для жизни. «Во-втором седмилетии, – пишет он, – да учат я коему-либо художеству, да возмогут тем нуждная, житию стяжати» (18, 27). Перед воспитанием и обучением мыслитель ставил задачу подготовки всесторонне развитых и полезных для общества граждан. Поэтому наряду с требованием обязательного приобретения профессии, которая давала бы возможность плодотворно трудиться для общества, он считал необходимым в третьем, последнем периоде обучения учить «искусству, как честно гражданствовати в мире» (там же). В «Арифмологии» Милеску Спафарий также указывает, что образованию должны быть посвящены два первых десятилетия человеческой жизни: «10 лет – младенство, учение, буйство, 20 лет – юношество, борбище, учение» (26, 100).
Н. Милеску Спафарий считал, что главную роль в воспитании играют родители, учителя и та среда, в которой находится ребенок. Важнейшим условием, обеспечивающим успех в воспитании, по его мнению, является приобщение детей к посильному труду. Он критиковал пороки современного ему феодального общества: праздность, леность, тунеядство, пьянство и т. д., но не видел, да и не мог видеть, социально-экономических причин этих пороков и считал, что путем просвещения и соответствующего воспитания их можно изжить. В связи с этим он требовал воспитания трудолюбия с детства: «Родителе чадолюбивии должни суть юность рожденных собою ко трудом душеполезным прикланяти и от младых нохтей добрым делом приучати я… ибо ейже работе приобыкнут вверсте юности, та им сладка будут, а не стужит и во пределах последняя ветхости. Во юности нехотяй труждатися, во старости зле постраждает» (18, 26). Решающее значение в воспитании и формировании личности человека мыслитель придает среде. Поэтому он требует, чтобы «с добрым общение да будет чад ваших», ибо «общающиеся благим, благостыни обучаются, или поне зла творити не навыкают» (там же, 35). Одновременно он призывает оградить детей и юношей от влияния нездоровой среды. «Изряднее же да соблюдают я от видения скверных, ибо, якоже несть лепо юным скверная глаголати, тако и видети» (там же, 27).
В качестве приемов воспитания на первом месте у него фигурируют личный пример родителей и умеренная любовь к детям. Подчеркивая большое значение личного примера в воспитании, он обращается к родителям со следующим призывом: «Буди им образ житием ты, ко всякой добродетели. Да не зрит око их ничто же развратно в тебе, да не слышит ушеса их скверных и непотребных глагол от тебя: образ твой есть сын, какова тебя видит и слышит: тако сам образуется» (там же, 32–33). Далее Н. Милеску Спафарий считает, что «подобает родителям имети любовь к чадам умереная», «да не по всякому чад прошению соизволение творят», и осуждает тех родителей, которые из-за ложно понятой любви к детям потворствуют им, а это попустительство вредит правильному воспитанию и приводит к печальным последствиям. В педагогической практике он призывает к применению наказаний за плохие поступки, но наказания должны быть крайней мерой, главным в воспитании, по его мнению, является убеждение. «Бий первее словом…» (там же, 32), – указывает он.
Милеску Спафарий обращает внимание на исключительно большую роль учителя в воспитании и обучении. Как известно, основным недостатком школьного обучения того времени было невежество учителей. Чтобы облегчить усвоение науки, надо сделать ее интересной для ученика. Поэтому необходимо было, чтобы учителя не только сами обладали соответствующими знаниями, но и использовали новые методы преподавания. И для достижения основной цели, которую мыслитель ставит перед воспитателем, – привитие детям высоких моральных качеств, особенно любви к труду, – советует выбирать искусных, опытных, «изрядных» учителей.
Многочисленные рассуждения, касающиеся просвещения, содержатся и в «Арифмологии». Так, в разделе «От Иисуса Сирахова» Милеску Спафарий отметил: «6. Блажен, иже обрете разум. 7. Иже повествует внимающим слушателным. 8. Колико велик есть, иже обрел мудрость» (26, 91). Далее он указывает, что «меж себе брань творят» «сон и желание учения», что «малословие неученому большее, нежели многословие» (там же, 95), а «бывают учени»: «1. Чрез обыкновение. 2. Чрез заповеди законныя. 3. Чрез любопрение» (там же, 97). Является абсурдным («Паче естества суть»), чтобы человек «сонлив и ленив» был «зиатель многих искусных дел» (там же, 99), однако «между себе согласуются» «чада непослушная и плети», «ученик и книга», но не согласуются: «Благий учитель и ученик недостоин» (там же, 100). Среди восьми положений «И себе и иным вредити познаваются» читаем: «1. Аще кто желает быти учитель иным, и он сам есть неучен и неискусен» (там же, 93), а в числе трех пунктов, которые «несут утварь, им, им же прибавляются», отметим: «3. Красныя и благия книги им, иже отрицаются от учения» (там же, 94).
Чтобы убедить читателя в пользе просвещения, Милеску Спафарий ссылается на авторитет Сократа: «Сократ… чрез философию и учение всяк порок природный исправи и очисти» (там же, 101).
Таким образом, материалистическое исходное положение Милеску Спафария о том, что среда оказывает решающее влияние на формирование характера человека, дало ему возможность также в области воспитания и обучения выдвинуть ряд глубоких передовых мыслей, свидетельствующих как о многосторонности интересов и теоретической зрелости мыслителя, так и о стремлении его воспитать полезных для родины граждан.
Тенденция к материализму и диалектике, характерная для сочинений Милеску Спафария, сказалась и в его эстетических трудах. Об этом свидетельствует и широкое обращение к античной натурфилософии, и утвержение рационалистических принципов в познании мира. Характерной чертой эстетических взглядов мыслителя является их просветительская направленность. Философ отстаивает идею общественного значения «свободных художеств», к которым традиционно относит наряду с искусством и ряд наук. Возникая в процессе познания, искусства сами становятся способом познания и воздействия на человеческую жизнь.
Обратимся, например, к факту широкого использования Милеску Спафарием античной мифологии. О. А. Белоброва отмечает, что приобщение читателя XVII в. к миру античных мифов имело совершенно определенный смысл. Оно было необходимо, чтобы научить современников пониманию ораторской прозы, поэзии. Античные боги и герои в сочинениях Милеску Спафария – это конкретные персонажи, действующие в «баснях эллинских». В этом смысле его эстетические трактаты ценны своей познавательной, информативной стороной, и читавшие их учились понимать иносказательный смысл мифологических сюжетов и образов на приведенных примерах (26, 18).
Велика, с точки зрения Милеску Спафария, роль искусств и в воспитании человека-гражданина, «как честно гражданствовати в мире». Особую роль в воспитании человека-гражданина он придает музыке, которая «великую пользу житию человеческому соделывает» и «к правам добрым устремляет». Так, он писал, что музыка – «мудрость свободная, всем потребная, везде угодная, мусика имянуемая, веселием исполняемая, радостьми устрояема, сладостми ограждаемая, всегда всем честная и любезная, на земли живущих усты похваляемая» (там же, 39). Милеску Спафарий считает, что учиться музыке необходимо по следующим причинам:
«1. Яко древнейшая есть…
2. Яко сладка есть, яже утешает своими гласы человека.
3. Яко истинным состоится началством, еже из равнения учения сотворено есть.
4. Яко душу веселит и мелянхолию отгоняет.
5. Яко великую ползу житию человеческому соделовает и ко благочестию устремляет, и нравы добрыми и сама часть есть благочестие» (там же, 38–39).
В «Книге иероглифийской» Милеску Спафарий развивает, по существу, материалистические мысли о мире в пространстве и во времени, вне которых нет ничего, и этот единственно реальный мир есть первообраз красоты: «Краснейшее есть мир, за еже есть образ первообразного красота. Величайшее место, понеже вмещает в себе всяческая, и ничто же вне его. Скорейшее же есть ум, зане во мгновении окружает небо и землю. Мудрейшее есть время, зане временем вся научаются и открываются, и ни един совет есть, иже ниже не временем объявиться» (там же, 125).
Затем автор переходит к иероглифическому письму, как удивительнейшему «между всех иных временей делех и действ», говорит о происхождении, характере и значении этого письма, объясняет, почему это письмо называется «египетским» и «священноваятельным». В главе I речь идет о том, как египтяне изображали бога, Вселенную, мир, Солнце и др. Так, в разделе «Иероглифийское писание вселенныя» Милеску Спафарий указывает: «Егда хотяху вселенную или мир живописати, писаху человека лицем козлим, цветом красным, двоерога, пестрою кожею пардовою одеянна, нижняя от пояса власатая, ноги его козли. В правой руце свирель, седмитростную держаща, в шуи же дреколь на версе изгиблен. Сим образом все еже в мире есть изображаху: лице бо его красное огня стихии знаменоваше, два рога – солнце и луну; кожею же пестрою пардовою звезды небесныя знаменоваху; нижнюю часть его власатую писаху ради древес, хврастий и скота; ноги козлии земли твердость изображаху; в нем же седмь согласий суть и седмь планит, сиречь звезды заблуждшиа; дреколом же гибленным преобразоваху время и лето, еже в себе обращается. И сего ради образ той от еллинов Пан, се есть все именовавшеся…» (там же, 132). И далее, в разделах «Мир», «Солнце и финике», он продолжает:
«Мир египтяне сице живописаху: человека, носяща на раме его круг златый и одеждею пестрою долгою одеянна. Круг бо, его же на себе носяще, златый являше небесный круг и движение круглое его, еже небо творит. Одежда же пестрая знаменова стихии, и яже из них рождаются, та же и различения вещи, яже от земли растят и производятся древеса, зелье и прочая» (там же). «Финикс птицу не токмо едину быти во всей вселенной, но и красотою своею всех птиц далече превосходити повествуют, зане еже окрест выи его блистает златое, цветы красны, баграновидно же во всем тело его, хвост сиз, червлеными перьями различено начертанием лице; глава же его вверху пером преукрашенну…» (там же, 133).
Как видим, современный Милеску Спафарию читатель получал богатую информацию о сущности «иероглифического письма», о содержательном материале древней символики. Пытливый читатель, знакомый с современной ему религиозной эстетикой, находил в ее идеях о символах много общего с тем, о чем сообщал мыслитель. Это облегчало ему возможность демистификации реальной действительности, искаженной в положениях богословов о бесконечных символах, подобно ступеням, ведущим к божественной сущности мира.
Следовательно, общественное значение эстетических трудов Милеску Спафария для эстетической мысли России и Молдавии XVII в. определяется идеями просветительства, явной направленностью против господствовавших теологических взглядов в области эстетических вопросов, его неуклонным стремлением освободиться от религиозно-мистических идей. Эстетические трактаты Милеску Спафария способствовали процессу развития светского направления в эстетических взглядах и «свободных художествах» его эпохи.
Философские воззрения Милеску Спафария, лежащие в основе его общественно-политических взглядов, оставаясь в целом идеалистическими и метафизическими, являются по своему содержанию прогрессивными, ибо включают в себя материалистические тенденции и элементы диалектики. Многие материалистические и диалектические идеи в России и Молдавии были высказаны им впервые. Пропаганда этих взглядов, горячая защита просвещения, прославление научных знаний были направлены на борьбу против обскурантизма и засилья теологии, способствовали прогрессу общества.