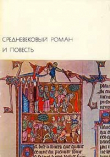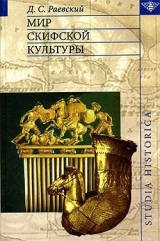
Текст книги "Мир скифской культуры"
Автор книги: Дмитрий Раевский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Глава III. К реконструкции скифо-сакской религиозно-мифологической системы
1. О скифской модели мираВ гл. I настоящей работы была предложена реконструкция определенной части скифской религиозно-мифологической системы, объединяющая в рамках единой структуры триаду богов «Папай – Таргитай – Апи», которая моделирует трехчленную организованную по вертикали вселенную и дублируется на более низком уровне – в рамках зримого, телесного мира – триадой сыновей Таргитая. Встает вопрос: каким мыслилось скифам мифологическое пространство в целом, как соотносились с этой моделью ведущее божество скифов – богиня Табити – и остальные персонажи семибожного скифского пантеона?
При определении системы отношений, связывающих Табити с трехчленной моделью мира, следует исходить из обоснованной в гл. II интерпретации функции этой богини, которая трактует ее как божество огня во всех его проявлениях. Для религиозно-мифологических систем других индоиранских народов характерно толкование огня как универсального принципа, суммарно олицетворяющего весь тот космос (как в его зримом, телесном, так и в высшем, духов-ном, религиозно-спекулятивном понимании), отдельные элементы которого персонифицируются в различных божествах пантеона. Так, в «Ригведе» (II, 1) мы находим прямое указание на то, что Агни тож-дествен порознь каждому из богов (Индре, Варуне, Вишну и т. д.), каждой из телесных стихий (водам, камням, деревьям и т. п.) и вместе с тем олицетворяет их суммарную совокупность, а потому и превосходит каждого из богов в отдельности:
Ты и похож (на них) и равен им величием,
О, Агни, прекраснорожденный, и превосходишь (их), о бог,
Когда твоя сила во всем величии разворачивается здесь
Через небо и землю – через оба мира.
(Пер. Т. Я. Елизаренковой)
Тот же принцип универсальности Агни, его тождества совокупности всех элементов мироздания находит отражение в цитированном выше пассаже «Ригведы» о трех его рождениях в различных зонах космоса, а также в понимании огня как посредника между раз-личными мирами, несущего жертву от людей к богам.
Отражение той же концепции понимания огня как универсально-го начала находим мы и в иранской символике трех огней, олицетворяющих три сословно-кастовые группы, которые, в свою очередь, моделируют трехчленный космос.
Предложенная выше трактовка священных золотых атрибутов, фигурирующих в скифской генеалогической легенде, как «царских Гестий», символизирующих три социальные группы и – на космологическом уровне – три зоны мироздания, прямо перекликается с таким пониманием огня как универсального единого начала, тождественного космосу в целом. Прямое подтверждение такого толкования находим мы в уже неоднократно упоминавшемся фрагменте сочинения Фирмика Матерна. Этот автор, указывая, что «персы и все маги, обитающие в Персии», почитают огонь выше всех прочих элементов, отмечает, что они полагают существование двух воплощений огня: мужского и женского, причем женское его воплощение мыслится как трехликое чудовище, проросшее змеями, а мужская ипостась трактуется как некий персонаж, угоняющий быков. Близость этих двух персонажей охарактеризованной выше супружеской паре скифской мифологии – Aпи и Таргитаю – не вызывает сомнений. В скифской же системе, как я пытался показать, эти божества мыслятся как персонификации нижнего и среднего миров. Пони-мание огня как универсального, сквозного начала в рамках системы, крайне близкой к скифской, в этом источнике выражено предельно отчетливо. Поэтому представляется наиболее убедительным, что в скифской мифологической картине мира Табити мыслилась как божество, обнимающее все мироздание в целом. В графическом выражении организация космоса по вертикали в понимании скифской мифологии выглядит в таком случае следующим образом:

Учитывая уже упомянутое наблюдение В. Н. Топорова [1973: 119], что в архаических космологических текстах описание Пространства ведется обычно в направлении извне внутрь, мы находим подтверждение предложенной схемы в характере описания скифского пантеона Геродотом (IV, 59):
Они чтут только следующих богов: выше всех Гестию, затем Зевса и Гею, признавая последнюю супругой Зевса, далее Аполлона, Афродиту Уранию, Геракла и Арея.
Сама структура этого пассажа свидетельствует о четком делении скифских богов на три «разряда»:
1. Гестия-Табити.
2. Зевс-Папай и Гея-Апи.
3. Аполлон-Гойтосир, Афродита-Аргимпаса, Геракл-Таргитай и Арей.
Эта структура вполне соответствует предложенной реконструкции.
Охарактеризованная модель мира реализуется в доступном нам скифском материале на самых различных уровнях: в мифологических персонификациях составляющих ее элементов, в их предметных символах, в космических категориях (в свою очередь представленных различными иерархическими уровнями), в социальных категориях, в политических институтах. Можно выделить следующие более или менее четко засвидетельствованные структуры, соотносимые с этой моделью:

Некоторым из этих триад соответствует понятие, символ или персонифицированное воплощение совокупности всех составляющих триаду членов. Для 1-го и 2-го случаев это космос, мир в целом; для случая 3 – богиня Табити, а для случая 4 – соответствующая ей стихия – огонь; в случае 5 эта совокупность персонифицирована в образе Таргитая; в случае 7 ей соответствуют скифы как единый этносоциальный организм, «скифский народ».
Таковы те классификационные системы, которые находят отражение в имеющемся материале. Они определяли понимание скифами мироздания, космического и социального порядка, формы социального поведения и организации общества.
Реконструкция скифской мифологической системы и свойственной скифам модели мира остается неполной, пока не выяснена сущность трех последних божеств, включенных Геродотом в скифский пантеон наряду с рассмотренными выше Табити, Папаем, Апи и Таргитаем. Геродот называет их Аполлоном, Афродитой Уранией и Ареем и приводит скифские имена двух первых: Гойтосир (по иному чтению Ойтосир) и Аргимпаса (Артимпаса). Но толкование этих персонажей требует всестороннего анализа, в рамках данной работы не предпринимаемого. Я ограничусь лишь одним замечанием, позволяющим предполагать, что почитание этих божеств связано с затронутым выше скифским представлением о строении вселенной.
Как уже отмечалось в литературе, данные Геродота о том, что скифский пантеон включал именно семь божеств, заслуживают полного доверия, так как отражают традицию, широко представленную в индоиранском мире [Абаев 1962: 445 – 447]. При перечислении этих божеств три интересующих нас в данный момент персонажа – Гойтосир, Аргимпаса и Арей – отнесены к последнему, третьему «разряду», который, судя то его завершающему положению в описании пантеона (см. выше о принципе описания пространства извне внутрь) и по наличию именно в его составе Геракла-Таргитая, связан со средней, материальной зоной мироздания. Заслуживает специального внимания то обстоятельство, что этот «разряд» включает именно четыре божества. В свете охарактеризованного выше представления об организованном телесном мире как об имеющем четыре стороны (см. с. 84) можно высказать предположение, что четыре божества скифского пантеона, объединенные в единый «разряд», являются хранителями этих четырех сторон света, что можно было бы рассматривать как точную аналогию четырем индийским локапалам. То обстоятельство, что одним из этих четырех божеств является Геракл, олицетворяющий, согласно предложенной выше трактовке, телесный мир в целом, не противоречит такому толкованию. В число локапалов включается Индра, который одновременно является и божеством, совершающим космогонический акт разделения неба и земли и утверждения средней зоны космоса, и хранителем одной из сторон этого мира – востока.
Такое толкование четырех скифских божеств «низшего разряда» должно быть, конечно, проверено в ходе всестороннего анализа их функций. Но полагаю, что оно объясняет структуру скифского пантеона в целом как разделенного на три уровня, включающие соответственно одно, два и четыре божества, и хорошо согласует представление о трехчленном космосе с фактом существования семибожного пантеона.
В рамках данной работы я совершенно не касаюсь и вопросов, связанных с почитанием скифами Тагимасада. Этот бог, который, согласно Геродоту (IV, 59), не входит в общескифский пантеон и которому поклоняются лишь скифы царские, стоит особняком в скифской религии. В другом месте мной была предпринята попытка толкования этого персонажа как скифского варианта общеарийского божества Йимы-Йамы [Раевский 1971а: 271 – 276]. Но вопрос о соотношении Тагимасада и семибожного скифского пантеона и о месте культа этого божества в общей системе скифских верований остается открытым, так же, впрочем, как и вопрос о месте Йимы в мифологических системах других иранских народов. Он требует специального анализа, который не может быть осуществлен в данной работе и для выполнения которого я не могу считать себя достаточно компетентным.
Исследование скифской мифологической системы, конечно, должно быть продолжено. Но и систематизированный выше материал, при всей его ограниченности и при учете предварительного характера предложенных реконструкций, позволяет сформулировать следующий вывод: реконструированная скифская мифологическая модель мира, представляющая частный случай общеарийской модели, заставляет категорически отказаться от оценки скифской религии как имеющей «примитивный характер», как «только еще подошедшей… к созданию небесной иерархии» [Артамонов 1961: 83] и от утверждения, что «скифскому пантеону не удалось сложиться в раз-витую иерархию функционально разграниченных божеств» [Ельницкий 1960: 51]. Подобные оценки представлются неверными хотя бы в свете того факта, что скифы принадлежали к индоиранскому миру, который уже на общеарийском этапе создал развитую мифологическую систему. Мы видим, что конкретный скифский материал также противится этим оценкам. Гораздо более справедливым представляется мнение О. М. Фрейденберг, что «нет эпохи, когда бы существовали обрывки, фрагменты представлений; осмысление, т. е., говоря нынешним языком, моделирование мира всегда системно, с самого начала» [см.: Брагинская 1975: 182; курсив мой. – Д. Р.]. Эта системность нашла в сохранившихся фрагментах скифской мифологии достаточно яркое отражение.
2. Скифская мифология и саки Средней АзииРассмотренный в предыдущих разделах материал при всей его фрагментарности позволяет все же уловить систему, объединявшую все проанализированные мотивы. Совершенно иная картина обнаруживается при попытке систематизации подобного материала, относящегося к древним ираноязычным народам Средней Азии. Здесь отрывочность и фрагментарность имеющихся сведений еще более разительна и не компенсируется даже применением комплексного анализа. Данные античных источников крайне скупы и не обладают к тому же этногеографической определенностью, т. е. не могут быть с достаточным основанием привязаны к определенному народу и региону. Изобразительные памятники с антропоморфными сюжета-ми также весьма немногочисленны и почти не поддаются истолкованию. Малочисленность сведений двух названных групп источников, в свою очередь, практически исключает возможность привлечения общеарийских параллелей для реконструкции мифологических мотивов, бытовавших в Средней Азии в интересующее нас время, так как мы почти не располагаем среднеазиатским материалом, поддающимся достаточно обоснованным сопоставлениям.
Однако фрагментарные сведения, касающиеся мифологии среднеазиатских народов, предстают в ином свете, если рассматривать их сквозь призму реконструированной выше скифской мифологической системы. Здесь выявляется целый комплекс весьма показательных схождений, причем эти схождения относятся к различным уровням скифской модели, к различным сферам ее реализации. Разумеется, информативная ценность таких схождений различна, но, рассмотренные в совокупности, они, на мой взгляд, позволяют сделать ряд выводов, представляющих определенный интерес. Следует оговориться, что ниже привлекаются лишь те сведения о мифологии народов Средней Азии, которые обнаруживают сходство с рассмотренными мотивами мифологии скифов.
Первая группа схождений между скифскими и среднеазиатскими религиозно-мифологическими представлениями относится к сфере чисто мифологических сюжетов и мотивов, вторая – к сфере реализации космологической модели, отраженной в этих мотивах, в социально-политических институтах. Рассмотрим каждую из этих групп в отдельности.
На данном этапе в древней среднеазиатской традиции обнаруживается лишь один мотив, связанный с космогонической генеалогией, нашедшей отражение в рассмотренной выше скифской легенде. Среди многочисленных золотых пластин с антропоморфными изображениями, входивших в состав знаменитого амударьинского клада, привлекает внимание одна, фигурирующая в каталоге Дальтона под № 86 [Dalton 1964: табл. XV]. На ней представлен обнаженный мужчина, держащий в согнутой руке небольшую птичку, судя по очертаниям – утку. Выше мы видели, что в скифской мифологии мотив водоплавающей птицы связан с символикой власти над телесным миром, и в частности с владыкой этого мира – первым человеком Таргитаем. Сочетание на названном памятнике изображения обнаженной человеческой фигуры (единственного на амударьинских пластинах) с мотивом птицы позволяет высказать предположение, что здесь также отразились представления о первом человеке, являющемся олицетворением и владыкой телесного мира. Однако отмеченная выше общность символизма водоплавающей птицы для широкого индоиранского ареала не позволяет на основе этого единичного факта, даже если принять предложенное толкование, делать чересчур смелые выводы о близости среднеазиатских мифологических представителей именно к скифским.

Рис. 10. Парфянская драхма
В изображениях на предметах, входящих в состав амударьинского клада, имеются и другие мотивы, находящие прямые аналогии на памятниках Европейской Скифии. К ним относится, например, сюжет охоты всадника на зайца, представленный на амударьинском серебряном диске и на пластинах из Куль-обы и Александропольского кургана. Такое распространение этого мотива заставляет предполагать в нем устойчивый смысл. Однако семантика этого мотива остается пока неясной, и он мало что может добавить к решению вопроса о скифо-среднеазиатских мифологических изоглоссах.
Значительно более показателен в этом плане еще один мотив, получивший широкое распространение в другой части Средней Азии – в Парфии. Речь идет о так называемом парфянском лучнике – самом распространенном изображении на реверсе парфянских монет (рис. 10). По свидетельству В. Роса, изображение лучника наиболее характерно для парфянской нумизматики в целом, а на парфянских драхмах является практически единственным, за крайне редкими исключениями [Wroth 1903: LXVII]. Несмотря на крайнюю популярность этого мотива в чекане Аршакидов, вопрос о его происхождении и особенно о значении до сих пор не может считаться до конца выясненным [87]87
Подробнее вопрос о толковании изображения парфянского лучника рассмотрен мной в специальной статье [Раевский 1977].
[Закрыть].
Что касается происхождения этого мотива, то наиболее распространенным является мнение, что его прототипом послужило изображение сидящего на омфале Аполлона на монетах Селевкидов [Wroth 1903: LXVII; Кошеленко 1968: 58]. Однако даже сторонники такого толкования отмечают существенные расхождения между селевкидскими и парфянскими изображениями [см., например: Кошеленко 1968: 58]. Среди упомянутых селевкидских монет наиболее близкими по характеру изображения на реверсе к парфянским являются немногочисленные экземпляры, на которых Аполлон представлен не с опущенным луком и стрелой в руке, каким он чаще все-го изображается в селевкидском чекане, а с луком в поднятой руке [см.: Newell 1941: табл. LIV, 5 – 10, LXII, 7 – 9, 12, 13, LXIII, 1 – 15, LXIV, 1 – 5]. Именно монеты этой группы П. Гарднер, а позднее В. Рос были склонны рассматривать как непосредственный прототип аршакидских монет с изображением лучника [Gardner 1878: 14; Wroth 1903: LXVIII].
Но, признавая, иконографическую близость изображений на указанных селевкидских и парфянских монетах, мы должны учитывать следующее обстоятельство. В репертуаре монетных изображений Селевкидов Аполлон с луком в руке – мотив достаточно редкий, он засвидетельствован лишь на монетах, относящихся к краткому хронологическому отрезку (время правления Антиоха I и Антиоха II). К тому же эти экземпляры чеканились на монетных дворах западных областей Селевкидской державы (Сарды, Магнезия на Меандре), наиболее удаленных от района, ставшего ядром сложения Парфянского царства. Следует также учитывать важное значение, которое всегда придавалось изображениям на монетах как прокламирующим определенные политические концепции [88]88
По справедливому замечанию Г. А. Кошеленко, «монета испокон веков являлась не только денежным знаком, но и средством пропаганды определенных идей… Вся система символов, помещенных на монете, отражала определенные идеологические концепции своей эпохи» (добавлю: и своей среды. – Д. Р.) [Кошеленко 1971: 212].
[Закрыть]. Все это свидетельствует, что выбор парфянской династией именно этого мотива и его преобладание в чекане Парфии должны были быть обусловлены вескими причинами идеологического характера. Мотив лучника должен был соответствовать каким-то представлениям, бытовавшим в самой Парфии и игравшим важную роль в ее политической идеологии [89]89
Недавно Е. В. Зеймаль предложил гипотезу о иных прототипах парфянских монет с изображением лучника (доклад на конференции, посвященной 2500-летию Иранского государства, Ленинград, сентябрь 1971 г.; доклад этот еще не опубликован). Однако любое решение вопроса не влияет на толкование семантики этого мотива, так как его популярность в чекане Аршакидов должна объясняться, исходя из толкования его на парфянской почве.
[Закрыть]. Для выяснения значения этого мотива в общей системе идеологии Парфии мы прежде всего должны объяснить содержание изображения, т. е. ответить на вопрос, что именно делает представленный на монете персонаж, в момент какого действия с луком он изображен. Аполлон с луком в руке на селевкидских монетах, по толкованию Э. Т. Ньюэлла, занят проверкой прямизны лука [Newell 1941: 248].
Такое толкование тем более вероятно, что на большинстве селевкидских монет Аполлон изображен в момент выверки прямизны древка стрелы, и монеты упомянутых серий Антиоха I и Антиоха II могут рассматриваться как частичная переработка наиболее распространенного мотива. Однако по ряду соображений такую интерпретацию нельзя, на мой взгляд, распространять на действие парфянского лучника. Во-первых, как неоднократно отмечалось в литературе, политический смысл изображения на монетах Селевкидов состоял прежде всего в помещении здесь образа божества – покровителя династии. Лук же по традиции считался, как известно, неотъемлемым атрибутом Аполлона. Поэтому в принципе любое действие его с луком в данном случае семантически равнозначно, чем и объясняется разнообразие иконографии Аполлона на селевкидских монетах. Устойчивость же сюжета на монетах Аршакидов свидетельствует, что именно конкретное действие персонажа имело значение, обладало политическим символизмом. Для этой роли мало подходит акт проверки прямизны лука. Во-вторых, следует учитывать, что между селевкидскими и парфянскими монетами с этим сюжетом есть некоторые иконографические различия. Если селевкидский Аполлон всегда держит лук в согнутой руке прямо против глаз, то у парфянского лучника рука с луком вытянута, а сам лук зачастую расположен во-обще не на линии взгляда персонажа [см., например: Wroth 1903: табл. IV, 2, и VI, 9], что исключает приложение к этим изображениям толкования Э. Т. Ньюэлла и заставляет утверждать, что здесь имеется в виду какое-то иное действие.
Сопоставление всех изображений лучника на монетах Аршакидов приводит к выводу, что единственным возможным толкованием их сюжета является интерпретация их как воплощающих момент передачи лука. Герой либо протягивает его кому-то, либо принимает его из чьих-то рук. При таком толковании приходится отметить уникальность этого мотива в древней нумизматике. Он не находит аналогий ни в древневосточном, ни в эллинистическом монетном репертуаре, но, как уже отмечалось, весьма популярен в Парфии и, следовательно, играет важную роль в ее политической идеологии. Поэтому при расшифровке символики этого мотива следует вести поиски в кругу представлений, бытовавших в Парфии, но чуждых остальным государствам древнего мира. В то же время нельзя не отметить разительную близость этого сюжета центральному мотиву рассмотренной выше скифской генеалогической легенды в версии Г-II, т. е. рассказу об испытании сыновей Таргитая и о вручении лука как символа власти младшему из них. Рассмотренные выше изобразительные воплощения этого сюжета на воронежском и, видимо, гаймановском сосудах демонстрируют и значительную иконографическую близость к изображениям парфянского лучника (ср. рис. 1 и 4, с одной стороны, и рис. 10 – с другой). Объяснение этого сходства мы находим в истории сложения Парфянского царства, какой она рисуется по данным античных авторов.
Как известно, античная традиция устойчиво связывает происхождение парфян вообще и династии Аршакидов в первую очередь со «скифским» миром, т. е. с кочевыми племенами северных областей Средней Азии. Так, по Страбону (XI, XI, 2), Аршак был предводителем даев-апарнов. Согласно рассказу Помпея Трога – Юстина, царство парфян основали скифы (Just., II, 1, 3 и II, 3, 6). Там же мы находим указание, что «парфяне… произошли от скифских изгнанников» (XLI, 1, 1). «Вышедших из Скифии парфян» упоминает и Курций Руф (IV, 12, 11). Отражение этой традиции находим мы и у других древних авторов [сводку данных см.: Бокщанин 1962: 472 – 474]. О том, что эта традиция не является плодом выдумки античных писателей, а отражает определенную историческую реальность, можно судить прежде всего по собственно парфянскому источнику – по иконографии царей и самого лучника на монетах Аршакидов. Их «скифский», т. е. кочевнический, облик единодушно отмечается всеми исследователями [см., например: Кошеленко 1968: 60]. Если вспомнить при этом, что упомянутая скифская легенда служила в самой Скифии для обоснования богоданного характера царской власти и что прокламированию этой идеи служило помещение изображений на ее сюжет на скифских монетах (см. гл. IV, 3), то появление сюжета лучника на парфянских монетах объясняется лучше всего, если толковать его на основе содержания скифской легенды. В та-ком случае наиболее популярный сюжет аршакидского монетного репертуара может рассматриваться как доказательство общности мотива передачи лука как инвеститурного акта для широкого круга скифо-сакских племен и, следовательно, близости свойственных им мифологических представлений.
Еще одно схождение на сюжетном уровне между скифской и парфянской мифологией представляется более гипотетичным. На одном из рельефов гробницы армянских Аршакидов в Ахце (IV в. н. э.) представлен воин с двумя собаками, поражающий копьем дикого кабана. Сцена эта обычно трактуется как имеющий космогонический характер эпизод сказания о прародителе армян Хайке: согласно легенде, Хайк и его собаки после смерти превратились в созвездие Ориона и Гончих Псов [Степанян 1971: 13, табл. 9]. Однако, учитывая, что этот рельеф входил в декор гробницы представителей династии Аршакидов, и принимая во внимание парфяно-сакское происхождение этой династии, нельзя исключать и иранские корни представленного здесь сюжета, который, как отмечалось выше, весьма характерен и для скифского мира. В частности, по сюжету этот рельеф очень близок росписи склепа № 9 некрополя крымской скифской столицы, которая выше была трактована как эпизод мифа о Таргитае-Траетаоне. Такая близость позволяет, на мой взгляд, включить этот мотив, хотя бы предположительно, в круг скифо-сакских мифологических изоглосс.
Обращаясь к группе схождений, относящихся к социально-политической сфере, мы прежде всего находим многократные указания на наличие у среднеазиатских саков института троецарствия и трехчленного деления войска, подобного тому, какое существовало у царских скифов.
Первое свидетельство о такой организации сако-массагетского общества мы находим в рассказе Геродота о походе Кира против массагетов (I, 211). Согласно этому рассказу, на первом этапе войны персы нанесли поражение одному из отрядов массагетов, возглавлявшемуся сыном царицы Томирис царевичем Спаргаписом. Отряд Спаргаписа, по сообщению Геродота, составлял третью часть войска массагетов. Указания на трехчленную организацию сакского войска и на то, что во главе его стояли три царя, мы находим у Полиена. Одно из них содержится в рассказе о том, как Дарий поочередно действовал против трех сакских отрядов (VII, 11). Второе свидетельство прямо указывает на одновременные и согласованные действия в войне против Дария трех сакских царей и содержится в рассказе о подвиге коневода Сирака (VII, 12) [см.: Струве 1968: 52 – 53]. Учитывая проанализированную выше связь института троецарствия у скифов с символизмом трехчленной организации космоса, в указании на существование подобного института у среднеазиатских саков можно, на мой взгляд, видеть косвенное доказательство того, что и у них существовали подобные космологические представления, а не ограничивать это схождение лишь политической сферой.
Наконец, весьма важным является свидетельство о единстве социальной номенклатуры у скифов Причерноморья и саков Средней Азии. Среди народов, населяющих земли за Яксартом, Плиний (VI, 50) называет эвхатов (Euchatae) [90]90
По традиции, происхождение которой мне неясно, в отечественных исследованиях часто это название в переводах Плиния передается как «эвхоты» [Латышев 1947 – 1949: 874; Болтенко 1960: 50]. Однако во всех просмотренных мной изданиях Плиния представлено одинаковое написание – Euchatae.
[Закрыть] и котиеров (Соtieri), безусловно тождественных авхатам и катиарам Геродота. Против того, что Плиний просто перенес в Азию сведения, почерпнутые из Геродотова описания Европейской Скифии, говорят два момента. Во-первых, эти «народы» названы им в ряду с заведомо азиатскими племенами: саками, массагетами и т. д. Во-вторых, при описании населения Европы Плиний упоминает авхетов (Auchetae), опять-таки несомненно тождественных авхатам Геродота (Plin., IV, 88, см. также: VI, 22) [91]91
Ссылка на параграфы труда Плиния дана по изданию В. В. Латышева. В большинстве изданий Плиния (например, в издании «The Loeb Classical Library») дается иное членение текста. IV, 88 по Латышеву соответствует IV, 12 других изданий; VI, 22 = VI, 7; VI, 50 = VI, 19.
[Закрыть]. Различное написание одного названия (авхеты и эвхаты) позволяет полагать, что в этих пассажах Плиния данный «этноним» восходит к разным источникам. При этническом истолковании фигурирующих в Геродотовой легенде «родов» наличие у Геродота и Плиния сходных названий при описании Европы и Азии толковалось обычно как отражение миграций (см., например: [Ельницкий 1970: 67] – о связи этих данных с передвижением «закаспийских киммерийско-скифских племен в области Прикавказья в VIII – VII вв. до н. э.»). Если же в соответствии с развернутым выше толкованием видеть в авхатах и катиарах сословно-кастовые группы, бытование этой терминологии и у европейских скифов, и у заяксартских саков должно рассматриваться как доказательство единства отраженной в этих названиях системы социальной стратификации, а скорее всего и ее мифологического обоснования. Недавно Е. Е. Кузьмина [1975: 291 – 292] предприняла попытку найти подтверждение трехчленной сословно-кастовой стратификации сакского общества в структуре могильника Уйтарак, где выявлены три группы захоронений, существенно различающиеся по характеру обряда и набору инвентаря [Вишневская 1973: 67 – 68]. Предположение это очень интересно, но нуждается в более развернутой археологической аргументации.
Весьма существенным представляется то обстоятельство, что Плиний фиксирует бытование в Средней Азии социальных терминов, характерных для обеих традиций, прослеженных нами в Европейской Скифии. Кроме котиеров и эвхатов этот автор упоминает среди среднеазиатских народов палеев и напеев: «Там напеи, как говорят, были уничтожены палеями» (VI, 50). Здесь мы видим ту же номенклатуру, которая отражена в версии ДС скифской легенды [92]92
А. М. Хазанов [1975: 206] видит в таком распространении этой номенклатуры свидетельство скифской миграции из заяксартских областей к Нижнему Дону.
[Закрыть], а кроме того, пассаж этот интересен тем, что, как уже отмечалось, подтверждает, возможно, социальный характер этих названий, отражая существование между палами-палеями и напами-напеями отношений господства и подчинения.
Наконец, самой, пожалуй, существенной мифологической изоглоссой, связывающей европейских скифов и среднеазиатских саков, является отраженный в уже упоминавшемся пассаже Курция Руфа мотив священных даров, не только очень близкий к рассказу Геродота, но и разъясняющий семантику последнего. Согласно Курцию (VII, 8, 84), от богов даны сакам следующие дары: ярмо, плуг, копье, стрела и чаша. Первые два предмета связаны с получением плодов земли, два следующих предназначены для поражения врагов, чаша служит для возлияний богам. Если в версии Г-I скифской легенды связь трех атрибутов с тремя социальными функциями лишь угадывается, то здесь она прямо провозглашается. Расхождение состоит лишь в замене секиры копьем и стрелой. Зато в передаче Курция не ощущается соотнесенность атрибутов с зонами мироздания, зафиксированная в скифской традиции. Дополняя и разъясняя одна другую, эти две традиции могут рассматриваться как отражающие схождение между скифской и сакской мифологией и на космологическом и на социальном уровнях.
Таковы выявленные схождения между мифологией и мифологи-чески обосновываемыми социально-политическими институтами европейских скифов, с одной стороны, и народов Средней Азии – с другой. Основным недостатком рассмотренного среднеазиатского материала является, как уже отмечалось, его значительная этногеографическая неопределенность. Попытки более или менее четкой локализации проанализированных мотивов на этнической карте древней Средней Азии наталкиваются на существенные трудности. Мотив, предположительно трактованный мной как изображение первочеловека и его символа – водоплавающей птицы, украшает пластину, входящую в состав амударьинского клада, найденного на территории Бактрии. Это обстоятельство не дает, однако, оснований однозначно толковать это схождение как специфическую скифо-бактрийскую изоглоссу. В литературе уже отмечалось наличие в амударьинском кладе предметов, бесспорно связанных с культурой кочевого сакского мира [Dalton 1964: XIII; Артамонов 1973: 14 – 15]. Да и в целом этнокультурная принадлежность амударьинского комплекса еще не вполне выяснена, и историческая интерпретация указанного схождения, даже если оставить в стороне отмеченную выше широкую популярность данного мотива, достаточно сложна.
Остальные названные мотивы, зафиксированные в Средней Азии и обнаруживающие близость к скифской мифологии, более или менее определенно связаны с сако-массагетским миром. Именно к этим народам относятся все отмеченные свидетельства о троецарствии и трехчленной организации войска, у них же бытовали, по данным Плиния, обе интересующие нас системы социальной терминологии. С сакским миром, судя по данным о «скифском» происхождении Аршакидов, надо, видимо, связывать и скифо-парфянские мифологические схождения. Однако при интерпретации всех этих сведений мы сталкиваемся с проблемой многозначности и этноисторической неопределенности термина «саки», о чем уже кратко говорилось (см. примеч. 6 к Введению). Ни границы ареала этого этнонима, ни локализация отдельных племен и народов сакского мира, ни вопрос об археологических реальностях, стоящих за этим названием, не могут считаться решенными. Поэтому даже констатация факта, что отмеченные на среднеазиатской почве схождения со скифской мифологией выявляются преимущественно в пределах сакского мира, не придает им достаточной этнической и географической конкретности.