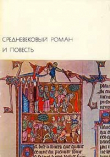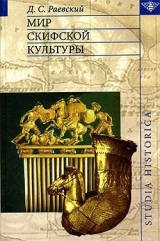
Текст книги "Мир скифской культуры"
Автор книги: Дмитрий Раевский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Все сказанное дает достаточно полное истолкование реконструированному скифскому ритуалу, определяет его место в общей системе свойственных скифам представлений, как чисто религиозно-космологических, так и спроецированных в сферу социально-политических идей, и объясняет популярность его изобразительных воплощений.
Нам осталось рассмотреть одну особенность почитания Табити – представление о присущей ей множественности, отраженное у Геродота (клятва «царскими Гестиями»). Согласно Гейзау [Geisau 1932: стб. 1880], в этом сказалось существование в Скифии нескольких царей. По его мнению, каждая царская юрта имела свой очаг, являвшийся общескифской святыней. Известно, что для древних индоиранцев было характерно представление о множественности проявлений божества огня, которое, будучи единым, в то же время воплощается в каждом зажженном на земле огне (ср.: «Ригведа», VII, 3). Однако толкование Гейзау основано на ограниченном понимании функций Табити только как божества очага, которое, как показано выше, вряд ли исчерпывает истинную сущность этой богини. Ближе, на мой взгляд, подошел к правильному пониманию «царских Гестий» С. А. Жебелев, хотя и он исходил из интерпретации Табити лишь как богини очага. По его мнению, «это какие-то священные предметы, своего рода фетиши, имевшие отношение к царскому очагу… Может быть, к числу этих священных предметов должно относить ту золотую чашу, которая, по легенде, упала с неба при сыновьях Таргитая» [Жебелев 1953: 33].
Для толкования природы множественности проявлений Табити-Гестии мы вновь обращаемся к индийскому материалу. Согласно ведической традиции, Агни не только воплощается в каждом земном огне. Его множественность имеет и иную природу, соотнесенную с трехчленным строением мироздания. В гимнах «Ригведы» подчеркивается трехкратное рождение Агни в различных плоскостях вселенной (III, 1 и X, 45). Поэтому он обладает тремя жилищами, тремя голова-ми, тремя языками и т. д. и называется «имеющим три обиталища»: (X, 45) [см.: Елизаренкова 1972: 280]. В связи с этим стоит вспомнить, что, по Валерию Флакку (VI, 54), доспехи воинов Колакса украшают «разделенные на три части огни». Конкретно троекратное, рождение Агни представлено в «Ригведе» (X, 45) следующим образом:
В первый раз с неба родился Агни,
Во второй раз – от нас, знаток (всех) существ,
В третий раз – в водах.
(Пер. Т. Я. Елизаренковой)
Но ведь именно три огненных воплощения этих зон мироздания и представляют упавшие с неба золотые предметы, о которых повествует версия Г-I скифской легенды и которые являлись, по Геродоту, скифскими святынями, особо почитаемыми и ублаготворяемыми обильными жертвами. Огненная природа этих предметов проявляется в их воспламенении при приближении старших сыновей Таргитая, а связь с тремя уровнями вселенной находит отражение в соотнесенности этих предметов с тремя сословно-кастовыми группами, которые ведут свое происхождение от трех братьев, являющихся персонификациями этих уровней (см. гл. I). Хранителем и служителем культа этих святынь с мифических времен Колаксая выступает скифский царь. Поэтому именование их «царскими Гестиями» или, точнее, «царскими Табити», царскими священными огнями, вполне соответствует их сакральной сущности, а клятва ими как высшей святыней скифов, олицетворяющей социальный и космический порядок, действительно должна была быть в Скифии высшей клятвой. Полную аналогию этим трем скифским символам представляют три священных огня зороастризма, восходящие к древней традиции и символизирующие три сословно-кастовые группы, а через них – три зоны мироздания: Гушнасп, Фарнбаг и Бурзен Михр [Dumézil 1941: 220 – 224; Пигулевская 1956: 273 – 274].
Предложенная интерпретация выражения «царские Гестии» приводит нас к неожиданному выводу, что реконструированный выше ритуал венчания скифского царя с богиней Табити упомянут в Скифском рассказе Геродота. Речь идет об описании праздника, связанного с почитанием золотых священных атрибутов и игравшего важную роль в скифской религиозной жизни. Согласно Геродоту, «вышеупомянутое священное золото цари их (скифов. – Д. Р.) очень ревностно охраняют и ежегодно чтут богатыми жертвами. Кто с этим священным золотом во время праздника заснет под открытым небом, тот, по словам скифов, уже не проживет года; поэтому ему дается столько земли, сколько он сам объедет на коне в один день» (IV, 7). Б. Н. Граков полагал, что в рассказе о сне с золотыми предметами «мог подразумеваться один из группы стражей священного золота, долженствовавших длительно бодрствовать около него, который первым терял силы. Такой сон играл особую ритуальную роль» [Граков 1971: 45]. Однако, согласно Геродоту, охрана священного золота считалась обязанностью самих скифских царей. К тому же, учитывая отмеченную выше связь ритуала с содержанием мифа (повторение в ритуале того, что происходило «вначале»), можно полагать, что описанное Геродотом действо, ежегодно повторяемое во время праздника, есть не что иное, как воспроизведение судьбы первого обладателя золотых реликвий, т. е. первого скифского царя Колаксая. Поэтому представляется более убедительной точка зрения Ж. Дюмезиля [Dumézil 1941: 221] и М. И. Артамонова, посвятившего анализу скифского праздника специальное исследование [1947: 8], что персонаж, засыпающий со священным золотом и затем обрекаемый на смерть, есть лицо, замещающее в ритуально-магическом плане собственно скифского царя, временный царь-жрец, функции которого хорошо выяснены в специальном исследовании Дж. Фрэзера [1931: 320 сл.].
Что же означает этот сон со священным золотом? Уже М. И. Артамонов отмечал вероятность наличия в нем брачного мотива, пола-гая, что это «сон магический, оплодотворяющий “мать сырую землю”» [1947: 7]. Он не учел, однако, того, что, согласно Геродоту, эта брачная направленность обращена не на землю, а непосредственно на священные атрибуты, так как речь идет о «сне со священным золотом». Сон персонажа, имитирующего на скифском празднике первого царя Колаксая, есть в таком случае прямая имитация брачного союза между этим мифическим героем и божеством, воплощенным в трех золотых предметах, иными словами, воспроизведение того самого бракосочетания между скифским царем и богиней Табити, ре-конструкция которого была предложена выше и которое представлено на рассмотренных изображениях. Но если на этих изображениях сцена венчания вполне антропоморфизирована, то в ритуале праздника сохранялись элементы фетишистского понимания того же обряда, трактующего брак царя с богиней в виде союза между ним и олицетворяющими богиню предметами. Известно, что мотив брака с каким-либо предметом как воплощением божества представлен в этнографическом материале весьма широко [см.: Штернберг 1936: 166 – 167].
Таким образом, существование в Скифии реконструированного здесь обычая священного бракосочетания царя подтверждается самым авторитетным из всех возможных источников – Скифским рассказом Геродота.
Дополнение II. Скифский религиозный праздник и судьба КолаксаяПредложенное выше толкование сна со священными предметами заставляет пересмотреть укоренившееся понимание всего праздника, во время которого этот сон имел место. Описание Геродотом этого праздника является одним из немногих дошедших до нас свидетельств о скифских ритуалах и несомненно представляет значительный интерес. В советской литературе прочно утвердилась интерпретация этого праздника и связанных с ним обычаев, предложенная М. И. Артамоновым. Она состоит в том, что выделение земельного надела персонажу, обрекаемому на смерть после ритуального сна с золотыми реликвиями, есть проявление характерной для скифского общества практики ежегодного передела общинной земли. Привилегированное положение этого персонажа проявляется, по мнению М. И. Артамонова [1947: 7], лишь в размерах выделяемого надела, поскольку дается ему столько земли, «сколько он захочет».
Однако такое толкование не вполне точно, так как, согласно Геродоту, размер надела определялся строго традиционным способом и ни в коей мере не зависел от желания персонажа. Представляется, что сам этот способ имеет определенный смысл, связанный с символикой праздника. Кроме того, предложенная М. И. Артамоновым интерпретация не объясняет некоторых особенностей описанного Геродотом ритуала и связанных с ним верований. Так, неразъясненными остаются сведения Геродота о времени смерти участвующего в ритуале персонажа. Историк указывает на два обстоятельства: с одной стороны, смерть наступает не непосредственно после ритуального сна, хотя и связана с ним причинной зависимостью; с другой стороны, она должна наступить до истечения ближайшего года, т. е. в строго определенные сроки. В целом толкование М. И. Артамонова имеет тот недостаток, что отдельные элементы праздничного ритуала (сон со священным золотом, способ определения размера надела и смерть персонажа) объясняются изолированно один от другого, не образуя смыслового единства. Недавно интерпретацию М. И. Артамоновым скифского праздника подверг убедительной критике А. М. Хазанов [1975: 125 – 126]. Он обоснованно поставил под сомнение соответствие предполагаемого М. И. Артамоновым ежегодного передела земли у скифов уровню социально-экономического развития скифского общества и отметил, что определяемая таким способом, как указано у Геродота, площадь (около 100 кв. км, по М. И. Артамонову) ни в какой мере не может рассматриваться как реальный надел, выделяемый в пользование одной земледельческой семейной ячейке [см. также: Dumézil 1941: 221]. Таким образом, предположение, что в скифском ритуале отразилась практика ежегодного передела земли, оказывается неубедительным. Но если социально-экономическая интерпретация описанного обряда неудовлетворительна, то естественно попытаться истолковать его на основе религиозной символики и содержания связанного с этим обрядом мифа с учетом всех моментов известного нам ритуала. А. М. Хазанов [1975: 47] отметил, что ритуал скифского праздника есть, скорее всего, воспроизведение мифа, возвращающее события изначального времени, но попыток реконструкции этого мифа не предпринял.
Как уже указывалось, представляется вполне оправданным мнение М. И. Артамонова и Ж. Дюмезиля, что персонаж, который засыпает с золотыми реликвиями, а затем обрекается на скорую смерть, является лицом, замещающим в ритуале реального скифского царя. Следовательно, происходящие с ним события имитируют то, что было «вначале», – судьбу первого обладателя священного золота, Колаксая. Смысл их, равно как и всего праздничного ритуала, становится поэтому вполне ясен, если рассматривать их с учетом религиозной сущности образа этого мифологического героя. Я уже останавливался на том, что в скифской космологии Колаксай является персонификацией солнца. События его мифической биографии должны, следовательно, трактоваться как определенные поворотные моменты солярного цикла. Свадьба Колаксая с богиней огня, составлявшая, по предлагаемому толкованию, сущность описанного Геродотом праздника, является одной из высших точек солнечного годового цикла, так как отражает приобщение солнца божественному огню, получение им новой силы. В таком случае вполне понятно, что его смерть отстоит от этого праздника на срок меньший, чем год. Ежегодное ритуальное убийство человека, замещающего скифского царя, т. е. персонификацию солнца, есть отражение на скифской почве общемирового мотива осеннего умирания природы.
Сохранялся ли во времена Геродота кровавый ритуал убийства «временного царя», или он лишь имитировался в ритуальном действе – сказать трудно. То, что известно о других сторонах скифского быта, позволяет допустить, что обычай этот существовал во всей своей первозданной жестокости. Именно поэтому, вероятно, в нем участвовал не сам царь, а замещающий его человек. Он должен был имитировать царя во всех аспектах. Надел, который получал этот человек во время праздника, вовсе не являлся той землей, которая, по толкованию М. И. Артамонова, отдавалась ему для обработки: это была имитация «царства», которым он «владел» в течение того короткого срока, когда он был «царем». Именно солярной сущностью этого ритуала объясняется и способ определения размера этого царства, символизирующего царство солнца: так же как солнце царит над той землей, которую оно «объезжает» за день, размер владения персонажа, имитирующего его в ритуале, определяется способностью последнего объехать за день на коне определенную территорию (ср. сходный мотив в известной английской балладе «Король и пастух», переведенной на русский язык С. Я. Маршаком). Показательно, что у разных народов существовал ритуал регулярного объезда царем своих владений, причем этот объезд трактовался как начало нового временного цикла [Иванов 1974: 39], что связано с представлением о солярной природе царя. (О сакральной процедуре проведения границ и о связи ее с царем см.: [Топоров 1974: 12 сл.].) Существенно, что объезжать свое «царство» персонаж скифского ритуала должен был верхом. Представление о связи коня и солнца было, как отмечалось выше, широко распространено у индоиранцев, в том числе у скифосакских народов. Конь и царь в равной мере выступают в скифском ритуале как воплощение солнца – Колаксая (ср. о быстроногом «Колаксаевом коне» у Алкмана, фр. 23, ст. 59; ср. также годовой путь коня в индийском ритуале Ашвамедха [Иванов 1974а: 94]). Об отождествлении царя и царского коня в скифских религиозных представлениях говорит и приведенный выше миф о конском инцесте.
Соотнесение различных моментов биографии Колаксая с реальными датами годового солнечного календаря допускает различные варианты. Мы располагаем прямыми или косвенными указаниями на три события его мифической биографии, которые могут быть сопоставлены с узловыми моментами солярного цикла: 1) рождение; 2) овладение священными золотыми предметами или, по предложенному толкованию, венчание с небесным огнем; 3) смерть. Рождение солнца в различных культурных традициях приурочивается либо к зимнему солнцестоянию (это нашло, например, отражение в христианском празднике рождества), либо к весеннему пробуждению природы, к весеннему равноденствию. Соответственно рождение Колаксая приходится либо на 22 декабря, либо на 22 марта. Скифский праздник, связанный со вторым из названных событий биографии этого персонажа – приобщением к божественному огню, знаменовал либо момент наивысшего могущества солнца, либо, что представляется более вероятным, момент его вступления в период могущества. Соответственно описанный Геродотом скифский религиозный праздник падает или на 22 июня, или, скорее, на 22 марта. Смерть Колаксая-солнца и того персонажа, который, замещая его в ритуале, «не проживет и года» после сна со священным золотом, должна приходиться на осенне-зимний период (22 сентября или 22 декабря). Какое событие мифической биографии Колаксая соответствует четвертому узловому моменту годового солярного цикла, неизвестно (может быть, рождение у него потомка?). Три варианта согласования скифских религиозно-мифологических представлений с солнечным календарем могут быть выражены следующим образом (первый из предложенных вариантов кажется наиболее предпочтительным):

Такой представляется семантика ежегодного скифского ритуала и связанного с ним мифа. Неясным остается, как согласовывался со скифской ритуальной практикой отмеченный выше факт параллельного бытования в Скифии двух вариантов мифа о сакральном испытании сыновей Таргитая, отраженных соответственно в версиях Г-I и Г-II генеалогической легенды. Судя по рассказу Геродота, ритуал праздника основывался на варианте версии Г-I, и большими сведениями на этот счет мы не располагаем.
Когда данная работа была уже закончена, вышло в свет исследование В. Н. Топорова [1975] о весеннем праздничном ритуале у хеттов и у некоторых других индоевропейских народов. В нем автор показал, что в различных традициях этот праздник, во-первых, связан с огненным ритуалом (в частности, в Риме – с тремя кострами) и, во-вторых, знаменует начало нового временного цикла, нового солнечного года. Тождество с реконструированной выше скифской традицией очевидно, что позволяет отнести к скифскому празднику ту характеристику, которая дана В. Н. Топоровым хеттскому обряду: это «не просто один из основных праздников хеттов, а главный праздник года, обладающий максимальной сакральностью и приуроченный к основной временной точке – перехода от Старого Года к Новому» [Топоров 1975: 32].
Располагаем ли мы данными, где проводился скифский праздник? Из скифских культовых мест наиболее подробно Геродот (IV, 62) описывает алтари Арея, но они располагались по округам, тогда как в данном случае нас интересует общескифский религиозный центр. В этой связи привлекают внимание данные Геродота об Эксампее (IV, 52 и 81). Это название носит источник, впадающий слева в Гипанис, и местность, из которой этот источник вытекает. Что скифский праздник проводился, возможно, именно здесь, писал Б. Н. Граков [1968: 102]. Прямых указаний на культовый характер урочища Эксампей у Геродота нет. Однако он рассказывает, что здесь находился сосуд вместимостью свыше 600 амфор, изготовленный из наконечников стрел, принесенных по велению царя Арианта скифами всей страны для определения численности населения Скифии. Размеры сосуда не оставляют сомнения в его ритуальном назначении, а его происхождение (Б. Н. Граков [1968: 112] видит в этом рассказе указание на своеобразный «поголовный налог») указывает на общескифский характер этой святыни. К тому же данные Геродота о местоположении Эксампея, несколько противоречивые и с трудом согласующиеся с реальной географией, представляют определенный интерес, если взглянуть на них как на отражение мифологических представлений. Место слияния Гипаниса и источника Эксампей находится в четырех днях пути от устья Гипаниса и в пяти днях пути от его истока, находящегося у северного предела Скифии [84]84
Сведения Геродота об истоках Гипаниса противоречивы. Они расположены в пределах Скифии (IV, 52), но по течению Гипаниса выше скифов-пахарей живут невры (IV, 17 – 18), область расселения которых не входит в пределы земли скифов (IV, 51).
[Закрыть]. Учитывая, что, согласно Геродоту и скифским представлениям, все главные реки Скифии текут с севера на юг [Бонгард-Левин, Грантовский 1974: 116], исток Эксампея расположен несколько се-вернее его устья, т. е. примерно против середины течения Гипаниса. Что касается самого Гипаниса, то расположенный у его устья город борисфенитов (Herod., IV, 53) есть, по Геродоту (IV, 17), срединная точка южной, приморской стороны «скифского четырехугольника». Следовательно, сам Гипанис, текущий с севера на юг, представляет своего рода меридиональную среднюю линию «скифского четырехугольника». Урочище Эксампей, таким образом, по данным Геродота, располагается в геометрическом центре этого четырехугольника [85]85
Следующие из этих данных параметры «скифского четырехугольника» расходятся с теми, которые приведены в другом месте труда Геродота. Согласно самому Геродоту, сторона четырехугольника имеет протяженность 20 дней пути (IV, 101), а данные о длине течения Гипаниса приводят к выводу, что меридиональная сторона тянется на 9 дней пути. Это, однако, не опровергает приведенного толкования, так как данные Геродота о расстояниях между различными местностями Скифии и в других пунктах не согласуются с приведенными им же параметрами четырехугольника. Так, согласно Herod., IV, 101, половина южной стороны его – расстояние от устья Борисфена на восток до Меотиды – равна 10 дням пути, а по Herod., IV, 18 – 19 – на восток от Борисфена 3 дня пути до р. Пантикапа и еще 10 дней – до р. Герра.
[Закрыть]. Вряд ли это обстоятельство случайно. Выше уже отмечалось, что четырехугольная Скифия есть отражение представления об организованной вселенной. В упорядоченном же мире, согласно архаическим представлениям, максимумом сакральности обладает именно центр мира, через который проходит axis mundi и где в начале мира совершился акт творения, приведший к созданию упорядоченного космоса [Топоров 1973: 114]. Показательно, что Геродот толкует название Эксампей как Святые (Священные) Пути. Сакральные же свойства центра мира определяются прежде всего тем, что именно через него пролегает кратчайший путь, «связывающий землю и человека с Небом и Творцом» [там же]. Именно «центр мира» является обычно местом проведения праздника, воспроизводящего в ритуале события «начала мира». Поэтому есть все основания полагать, что скифский праздник проходил именно в урочище Эксампей, а сообщаемые Геродотом данные о местоположении этого урочища в значительной степени условны, так как подчинены не реальной географии, а концепции о четырехугольной конфигурации мира и о его центре. Вспомним, что на навершии с Лысой горы, отражающем, как отмечалось выше, эту концепцию, центральной осью является фигура обнаженного божества. Его функция – связывать земной мир с небесным, обозначенным птицей над его головой, – заставляет видеть в нем не Папая, как полагали Б. Н. Граков [1971: 83] и М. И. Артамонов [1961: 75], а скорее Таргитая.
Не исключено, что именно с размещением на Гипанисе скифского культового центра связано происхождение современного названия этой реки – Буг, возводимое специалистами к иранскому корню, связанному с религиозной терминологией [Трубачев 1968: 183].
Остановимся теперь на том, как интерпретировалась в скифском мифе смерть Колаксая на сюжетном уровне. Ответа на этот вопрос мы не находим в рассказе Геродота, но некоторые данные на этот счет обнаруживаются в других источниках.
Выше уже обращалось внимание на близость скифской легенды о трех сыновьях Таргитая к общеиранскому мотиву о трех сыновьях Траетаоны-Феридуна. Но по иранской мифоэпической традиции младший из них погибает от руки своих братьев [см., например: «Шахнаме», 1957, строки 3309 – 3402]. Такое завершение мотива соперничества трех братьев широко распространено в фольклоре различных народов и является логичным завершением сюжета [Мелетинский 1958: 152]. Отсутствие этого элемента в рассказе Геродота вполне объяснимо конкретной задачей, которую ставил перед собой историк: легенда приведена у него в связи с рассуждением о происхождении скифов. К этому вопросу имела отношение лишь первая ее часть. Дальнейшая судьба ее героев лежала вне сферы интересов Геродота [см. также: Толстов 1948: 295]. Не случайно даже мотив брака Колаксая нашел отражение не в изложении скифского мифа, а, согласно предложенному выше толкованию, в описании ритуала связанного с ним праздника. Подтверждение этой гипотезы мы находим в скифском изобразительном материале и у Валерия Флакка. Как уже указывалось, на сосуде из Гаймановой могилы два персонажа, в которых я предложил видеть старших сыновей Таргитая, композиционно как бы противопоставлены центральной сцене, изображающей самого Таргитая и младшего из братьев. При этом обращает на себя внимание одна деталь: старшие братья представлены с большим числом предметов вооружения. У одного из них на поясе горит, а в руке плетка, другой снабжен мечом, щитом и булавой. Эта деталь особенно заметна при сравнении с другой парой персонажей, которые имеют лишь луки. Не изображены ли здесь старшие сыновья Таргитая в момент замышления убийства младшего?
Еще показательнее в этом плане изображение на пластине из Сахновки. Выше уже отмечалась связь центральной группы этой композиции с мотивом брака, скорее всего того же ритуального венчания царя, а других представленных здесь групп – с сопровождающими это действие жертвоприношениями. При такой трактовке существенно и наличие здесь фигуры слуги с опахалом: по данным этнографии, у разных народов обмахивание новобрачных имеет апотропеическое значение [Кагаров 1929: 160]. Необъясненным оставалось наличие в левой части композиции так называемой сцены «побратимства», т. е. изображения двух скифов, пьющих из одного ритона. Мотив этот достаточно широко распространен в скифском искусстве. Если он действительно отражает обычай побратимства, то видеть в двух этих персонажах старших сыновей Таргитая, которые и без того являются братьями по крови, нельзя и вся интерпретация сахновского изображения теряет смысл. Однако следует вспомнить, что Геродот, описывая церемонию совместного питья из одного сосуда, вовсе не связывал ее именно с обычаем побратимства. Такое толкование было дано ей исследователями на основании сопоставления с другими источниками [см.: Хазанов 1972]. Геродот пишет лишь, что скифы пьют из одного сосуда, если заключают с кем-либо клятвенный договор (IV, 70). Поэтому, не отрицая, что ритуал побратимства в Скифии мог быть сходным, мы не обязательно должны видеть в названных изображениях именно его воплощение и вполне имеем право толковать «побратимов» на сахновской пластине, равно как и на бляшках из Куль-обы и Солохи, как старших сыновей Таргитая, оскорбленных избранничеством своего брата и клянущихся погубить его. В целом же композиция на сахновской пластине представляет развернутую иллюстрацию к мифу о Колаксае и в конечном счете – воспроизведение ритуала на ежегодном скифском празднике: бракосочетание царя с богиней, богатые жертвоприношения и возлияния, сопровождающие эту церемонию (ср. указание Геродота, что скифы ежегодно чтут священное золото – resp. богиню Табити, божественную супругу царя, – богатыми жертвами), и, наконец, братьев главного персонажа, дающих клятву погубить его. С точки зрения космической символики убийство младшего сына как персонификации солнца двумя старшими, олицетворяющими средний и нижний миры, также вполне оправданно.
Предложенная реконструкция финала мифа заставляет обратиться к еще одному памятнику – к знаменитому гребню из кургана Солоха. Как известно, здесь изображен бой двух скифских воинов, пешего и конного, с третьим. При этом художник подчеркивает, что одинокий воин терпит поражение: его конь уже убит и, как пишет А. П. Манцевич [1962: 5], «исход битвы ясен: гибель спешившегося всадника неминуема». Совпадение сюжета этой сцены и указанного мифа весьма знаменательно.
Подтверждением предложенного толкования сюжета изображения на гребне служит, на мой взгляд, и следующая деталь. Облик конного воина значительно отличается от привычного образа скифа на многочисленных предметах торевтики из курганов Причерноморья. Он значительно более эллинизован, что сказывается прежде всего в его доспехе, в частности в наличии кнемид и шлема коринфского типа, который не только не встречается на изображениях скифов, но крайне редок и в археологическом материале из скифских курганов [см.: Черненко 1968: 82 – 83]. В связи с этим нужно вспомнить то, что говорилось выше об обработке скифской легенды в среде причерноморских эллинов, и в частности о замене трех скифских мифических персонажей родоначальниками различных народов. Согласно этой обработанной редакции, одним из братьев является Ге-лон. Но, по Геродоту (IV, 108), гелоны – выходцы из Эллады. Было ли это утверждение выдумкой самого историка или отражало какое-то бытовавшее в причерноморских колониях представление, оно в любом случае должно было быть известно греческому мастеру, изготовившему солохинский гребень. В таком случае изображенный на нем конный воин эллинского облика – средний сын Геракла-Таргитая Гелон (resp. Арпоксай), тогда как его пеший союзник – старший сын Агафирс (resp. Липоксай).
Бросается в глаза совпадение изображения на гребне и описания событий, предшествующих гибели Колакса, у Валерия Флакка: «Раненный сам и лишенный коня, он (Колакс. – Д. Р.) пеший пронзает копьем Апра и Тидра Фасианокого» (VI, 638 – 640). Апр здесь, как отмечалось выше, безусловно тождествен Арпоксаю версии Г-I, и таким образом текст Флакка прямо подтверждает наличие в скифском мифе мотива борьбы Колаксая с братьями. Эпизод этот кончается смертью Колакса, хотя в соответствии с центральным сюжетом поэмы убивает его не Апр, а сам главный ее герой – Язон. Как и в рассмотренных выше фрагментах этой поэмы, мотивы, заимствованные из не дошедшего до наших дней источника, излагавшего интересующий нас скифский миф, перемешаны здесь с мотивами и персонажами, не имеющими к этому мифу отношения. Но, как и в тех пассажах, вряд ли можно объяснить случайностью наличие здесь сюжетного хода, вполне согласующегося с реконструированным без учета этого фрагмента финалом мифа. В этом ходе обращает на себя внимание и уже неоднократно отмечавшаяся независимость Флакка от Геродота.
Заслуживает внимания, что и у Валерия Флакка, и на солохинском гребне гибели персонажа предшествует смерть его коня. Это обстоятельство может быть сопоставлено с высказанным выше предположением о семантической эквивалентности всех элементов ряда «солнце – Колаксай – царь – конь». Смерть коня – инкарнации Колаксая – может трактоваться как первый этап его собственной гибели.
Тот же мифологический мотив, что на гребне из Солохи, но в варианте, повествующем о двух братьях (версия ДС), воплощен, возможно, на пластине из Гермесова кургана. То же можно сказать и о бляшках с изображением сцены единоборства из Чмыревой могилы, которым посвящена специальная статья М. М. Кубланова [1955]. По его мнению, «не представляется возможным связать эту сцену с местной мифологией или эпосом», поскольку этому мешает «отсутствие каких-либо элементов символики, реалистический характер изображения и одинаковая трактовка одежды, лица, положения каждого из борцов. Как видно, мастер не стремился выделить и отличить одного из борющихся от другого» [там же: 128]. По этой причине М. М. Кубланов полагает невозможным «видеть в изображении борьбу двух противоположных начал или двух противопоставляемых друг другу героев не дошедших до нас частей скифского былинного эпоса» [там же] и предлагает толковать сцену на бляшках как погребальное игрище, обычай, якобы появившийся в Скифии в послегеродотово время [там же: 129]. Такая трактовка вполне вероятна, но она вовсе не исключает того, что в этом ритуале отразился некий миф, хотя, конечно, наличие в изображении реалий, указывающих на функции представленных персонажей, облегчило бы идентификацию этого мифа. На данном этапе наиболее вероятной представляется связь этого изображения со скифским мифом о двух братьях. Предположение М. М. Кубланова о связи этого ритуала с заупокойным культом также не противоречит моему толкованию: зафиксированная в мифе смерть одного из сыновей Таргитая должна была толковаться как первая смерть на земле, вследствие чего этот миф был тесно связан с погребальной обрядностью.
Сам же факт многократного воплощения в искусстве мотива гибели Колаксая (Пала) от руки братьев (брата) вполне объясним, если принять предложенную выше интерпретацию фактов его мифической биографии как символизирующих поворотные моменты солнечного годового цикла и, следовательно, входящих в комплекс представлений, тесно связанных с хозяйственной деятельностью скифов [86]86
В связи с высказанным предположением о наличии в скифской мифологии мотива убийства младшего из сыновей Таргитая его братьями следует специально остановиться на одном моменте. Некоторые исследователи обращают особое внимание на то обстоятельство, что в версии Г-I скифской легенды подчеркивается добровольный характер признания старшими братьями победы младшего [Петров, Макаревич 1963: 22; Петров 1968: 38; Хазанов 1975: 48]. Не противоречит ли этот факт предложенной реконструкции? Мотив добровольности, если он восходит к скифскому мифу, а не привнесен Геродотом, относится к социальной сфере: он подчеркивает божественное происхождение преобладания воинов-паралатов в скифском обществе. Это уже не столько мифология, сколько социально-политическая идеология, хотя и со ссылкой на богоданную природу этого установления. Мотив же убийства младшего брата, предлагаемый в моей реконструкции, относится к более глубинным уровням мифа – к космологической и в известной степени эсхатологической сфере. В условиях, когда отраженная в мифе модель реализуется в различных сферах, расхождение, подобное отмеченному, представляется вполне допустимым и не искажающим инвариантной схемы мифа.
[Закрыть].