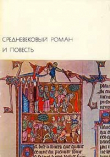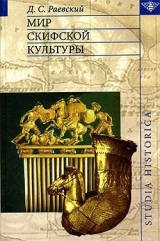
Текст книги "Мир скифской культуры"
Автор книги: Дмитрий Раевский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Дмитрий Раевский
Мир скифской культуры
Предисловие
В. Я. Петрухин, М. Н. Погребова
Скифский мир и скифский миф
В предлагаемом читателю томе избранных работ Д. С. Раевского (1941 – 2004), выдающегося отечественного археолога, историка и культуролога, помещены тексты двух книг по истории скифской культуры: «Очерки идеологии скифо-сакских племен» (1977) и «Модель мира скифской культуры» (1985). Эти книги, ставшие событием в отечественной и мировой науке, вызвавшие живой отклик ведущих культурологов – Жоржа Дюмезиля, Брюса Линкольна, Ивана Маразова и др., давно превратились в библиографическую редкость. Между тем историческая актуальность этих книг в нынешней ситуации возрастает, ибо актуальным остается обращение к истокам, к пониманию «предыстории» отечества и культурных ценностей, оставшихся от этого предысторического периода.
Культура скифского мира в самом широком смысле не была для Раевского «внешним» объектом «музейного» любования: автор «Модели мира скифской культуры» стремится раскрыть внутренние механизмы ее функционирования. В этом стремлении у Раевского есть самый знаменитый «соавтор» – отец истории Геродот. Для греческого историка интерес к варварскому миру означал преодоление известного античного стереотипа: ведь для Геродота деяния варваров были не менее достойны памяти потомков, чем деяния эллинов. Потребность в понимании «иной» варварской культуры воплощала «прорыв» во всемирную историю: мировосприятие переставало быть эгоцентричным, и понимание «иных» народов позволяло уяснить реальное место собственного народа во всеобщей истории.
«История» Геродота и, благодаря ей, скифская история стали восприниматься в преднаучную позднесредневековую эпоху историографии и в «романтический» период развития исторической науки как «предыстория» восточных славян: «эгоцентричный» взгляд (во многом не преодоленный до сих пор) усматривал в скифах прямых предков восточных славян (равно как в кельтах, сарматах, фракийцах и иллирийцах – предков славян на Балканах и в Центральной Европе). Можно заметить, что тот же «эгоцентричный» взгляд, подпитанный, во многом, рационалистскими и позитивистскими тенденциями в науке нового времени, был свойствен традиционному подходу к скифской культуре. Так, сцены на драгоценных сосудах, изготовленных по заказу скифских царей греческими мастерами, были абсолютно «понятны» для этого взгляда и получили наименование «сцен скифского быта», так как передавали, казалось бы, обычные занятия скифов – скотоводство, натягивание тетивы лука, помощь раненому товарищу и т. п. Вопрос о том, почему эти жанровые сцены изображались на драгоценных сосудах и других предметах царского «быта», помещенных отнюдь не в «бытовой», а в ритуальный контекст монументальных усыпальниц – царских курганов, казался не относящимся к содержанию самих «сцен».
Столь же «очевидными» по значению казались и мотивы скифского звериного стиля: правда, здесь предполагался «магический» перенос свойств животного на «носителя» звериных изображений – быстрота бегущего оленя, сила терзающего хищника и т. п. Подобный подход к проблеме содержания «звериного стиля» напоминает детские вопросы Красной Шапочки переодетому Волку.
Проблемы содержания скифской культуры были по-новому поставлены в работах Д. С. Раевского. Наметить их решение можно лишь в том случае, если не рассматривать изолированно отдельные мотивы и сюжеты, а подходить к памятникам скифской культуры, будь то сложное ритуальное сооружение, звериный стиль или «скифский рассказ» Геродота (передающий самоописание скифов) [1]1
Д. С. Раевский задумал книгу о Геродотовой Скифии, которую предполагал озаглавить цитатой из Геродота – «Так говорили сами скифы», но этот и многие другие замыслы ему не довелось осуществить Среди неосуществленного нельзя не вспомнить предполагавшийся коллективный труд по сравнительно-историческому анализу разновременных «варварских» обществ «Скифы, фракийцы и Русь» (в нем предполагалось участие ближайших сотрудников Д С Раевского – болгарского фраколога И. Маразова и русиста В. Петрухина)
[Закрыть], как к разным «кодам» единой культурной системы, имеющей единый смысл. Без этого единого смысла не только сами скифы не могли бы понять друг друга: их не поняли бы и эллины – ни Геродот, ни греческие мастера, выполнявшие заказы скифских царей. Этот смысл был явлен скифам (как и всяким носителям архаической культуры) в мифологии, которую и восстанавливает в своих работах Раевский [2]2
См, в частности, из последних книг Raevskiy D. Scythian mythology Sofia 1993
[Закрыть]. Археология перестает быть немой, она обретает язык в его работах.
Реконструкция «скифского мифа» имеет отнюдь не праздный интерес для современной культуры. Потребность в этом понимании именно «иного», которое не воспринималось бы как «чужое» и «чуждое», а, значит, ненужное и даже враждебное, как никогда актуальна для этой культуры. Отсюда – интерес европейской культуры XX в. к «третьему миру» и архаическому мифу, во многом сменивший традиционный с эпохи Возрождения интерес к античности: этот интерес был явлен и объяснен одним из пророков современной европейской культуры – Клодом Леви-Стросом. Для русской (и шире – восточнославянской) культуры, по словам Д. С. Лихачева, был свойствен интерес к «своей античности» – древней Киевской Руси; специфика этой древнерусской «античности», однако, и заключалась в том, что она была и остается «своей»; отношение к «чужому», «иному» – одна из самых сложных культурных проблем нынешней России. Между тем, у России была «иная» античность – античность в подлинном культурно-историческом смысле этого понятия. Эллины и скифы в Северном Причерноморье дали первый исторический образец понимания «иного» – культурного взаимопонимания, тот образец, который обогатил мировую культуру шедеврами скифского звериного стиля и греческой торевтики. В этом отношении античная эпоха и на юге Восточной Европы дает определенные основания для исторического оптимизма.
Исследования Д. С. Раевского отличает строгая и продуманная методика, что особенно важно, так как при обращении к вопросам семантики древнего искусства авторы нередко дают простор фантазии, приводящий к выводам, часто интересным, но по существу бездоказательным. В работах, посвященных скифской мифологии, Д. С. Раевский широко использовал и общие труды по первобытным религиям и фольклору, и письменные источники, и данные скифской материальной культуры, изученные со всей возможной полнотой. Обращаясь к применению этих разнородных материалов к изучаемому вопросу, автор применял общефилософский принцип соотношения общего, особенного и единичного. Под общим он понимал те общие черты в мифологии разных народов, которые необходимо учитывать, так как они вводят изучаемую культуру в контекст мировых систем, особенное, по его мнению, составляют черты, присущие только группе родственных или типологически близких культур, и наконец единичное объединяет элементы, присущие только изучаемой культуре, составляющие ее специфику. Как показал Д. С. Раевский, только сочетание этих подходов может привести к обоснованным выводам о мифологии бесписьменных народов. Большое внимание в своих исследованиях автор уделил именно особенному, то есть индоиранским корням скифской культуры. Ираноязычность скифов была обоснована многими исследователями, но для понимания специфики скифской культуры этот материал привлекался недостаточно, хотя были и исключения, как, например, работы Е. Е. Кузьминой. Д. С. Раевский подчеркивал то значение, которое имеет общеиранский и даже общеарийский мифологический пласт для реконструкции скифской мифологии. По его вполне обоснованному мнению, «степные иранцы» менее других ираноязычных народов подверглись влиянию инокультурной среды, поэтому именно у них можно ожидать сохранения ряда архаических черт, близких к общеиранским и общеарийским. Отсюда особое внимание, уделяемое автором Ригведе, Авесте и поздним иранским литературным памятникам, сохранившим мотивы раннеиранских мифов. Это позволило ему расшифровать целый ряд образов скифского изобразительного искусства и некоторых сведений античных авторов как элементов скифской мифологии. Опираясь на общеиранское и арийское наследие, автор смог убедительно истолковать в мифологическом ключе такие детали в донесенных античными авторами рассказах о скифах, которые исследователи, как правило, склонны были рассматривать как этнографические мотивы. Так, например, Д. С. Раевский продемонстрировал, что упоминание о плуге в первой генеалогической скифской легенде, рассказанной Геродотом, не может служить указанием на хозяйство племен, в среде которых возникла легенда, так как в данном случае плуг нужно рассматривать как общеиранский священный богоданный атрибут, представление о котором появилось значительно раньше перехода части скифов к кочевому образу жизни. Обращение к иранским литературным памятникам помогло автору объяснить особенности скифской изобразительной традиции в передаче лука сыну отцом, а не матерью, в чем многие исследователи видели вопиющее противоречие рассказу Геродота и соответственно толкованию изображений на сосудах, предложенному Д. С. Раевским. Изучение иранской и индоиранской традиций помогло истолковать значение таких образов скифского изобразительного искусства как водоплавающая птица и заяц, определить значение фигуры Таргитая в скифской модели мира, найти истоки представлений о четырехугольной конфигурации страны скифов, о Гестии / Табити и др.
Человек, широко эрудированный, Дмитрий Сергеевич с глубоким вниманием относился к трудам своих предшественников, учитывал те выводы, которые считал правильными, но в большинстве случаев шел дальше, развивая и продолжая их. Основываясь на обоснованных им особенностях скифской мифологической системы, автор смог достаточно убедительно восстановить и то, что, казалось, было навеки утрачено, а именно элементы скифского повествовательного фольклора. Они извлечены им из описаний Геродотом таких сугубо исторических событий как скифо-персидская война или гибель царя Скила, или из «этнографического» рассказа о процедуре погребения скифских царей. Как отмечал сам автор, работа эта может и должна быть продолжена, но поколениям последующих исследователей указан путь, несомненно приносящий плодотворные результаты.
Подчеркивая значение мифологии как инструмента познания внешнего мира в древности и, в частности в скифском обществе, Д. С. Раевский показал, что ее тщательный анализ позволяет осветить и некоторые аспекты социальной и идеологической идеологии скифов и даже отдельные эпизоды их истории. Так, при решении дискуссионного в настоящее время вопроса о соотношении скифов и киммерийцев, соображения, приведенные Д. С. Раевским, заслуживают, как представляется, самого пристального внимания.
Обращаясь к толкованию скифского изобразительного искусства как одного из источников для воссоздания мифологии автор особое внимание уделил образам животных – скифскому звериному стилю, одной из важнейших составляющих искусства этого народа. Д. С. Раевский исходил из того положения, что отдельно рассматриваемые эти изображения не могут быть источником информации о свойственной их создателям идеологии или, во всяком случае, представляют возможности для обоснования самых разных толкований. Расшифровке семантики памятников звериного стиля, по мнению Д. С. Раевского, должна предшествовать реконструкция мифологии, основанная на других, более внятных источниках, каковая реконструкция и была им блестяще проведена. Но и памятники звериного стиля привлекаются автором не как иллюстрации уже сформулированных положений. Он проводит их тщательное комплексное и независимое изучение, что и позволило обосновать тезис о прямой связи изображений животных в скифском искусстве с мифологической моделью мира у этого народа. Важным выводом из проведенного анализа стало утверждение автора, что изображение животного в скифском искусстве надо рассматривать не как конкретное воплощение того или иного божества, а лишь как его знак. Именно эта знаковая основа звериного стиля, зоологический код, принятый для обозначения достаточно сложных и отвлеченных понятий и составляет, согласно Д. С. Раевскому, сущность скифского звериного стиля. Как в публикуемых книгах, так и в последовавших за ними трудах исследователь специально останавливался на причинах избрания скифами для отображения мифологической картины мира именно зоологического кода, на времени и условиях его формирования. Этот вопрос находится в тесной связи с проблемой происхождения скифского звериного стиля, являющейся сейчас предметом острых дискуссий. Д. С. Раевский был последовательным сторонником гипотезы, согласно которой этот стиль является новообразованием, при создании которого использовались некоторые мотивы переднеазиатского искусства, но при полном их переосмыслении в контексте собственной мифологии и стилистической переработке. Зарождение звериного стиля относится, в соответствии с указанной гипотезой, к периоду переднеазиатских походов скифов, когда социальная эволюция скифского общества вызвала потребность в системе знаков для выражения мифологической картины мира, важнейшей для этого общества. В то же время Д. С. Раевский отмечал и значение тотемизма как гносеологической основы формирующегося скифского искусства.
В последние годы жизни Д. С. Раевский выдвинул новую и чрезвычайно интересную гипотезу о формировании стилистических особенностей изображений животных скифскими мастерами как о результате применения к изобразительному искусству приемов поэтики, ранее наработанных арийским миром в вербальном творчестве. Обоснование этой гипотезы изложено в опубликованных еще при жизни автора статьях и в готовящейся к печати коллективной монографии, посвященной значению общеарийского наследия в изучении культуры скифов. Вообще работам Д. С. Раевского в высшей степени присуще сочетание нового неожиданного взгляда на знакомые всем памятники тщательного, всестороннего их изучения.
Конечно, проблемами скифской мифологии занимались и занимаются многие исследователи. Среди современных авторов в первую очередь надо отметить труды Е. Е. Кузьминой [3]3
Напр.: Кузьмина Е. Е. Мифология и искусство скифов и бактрийцев, М, 2002
[Закрыть], Э. А. Грантовского и Г. М. Бонгард-Левина, С. С. Бессоновой, разработавших ряд чрезвычайно интересных проблем. Однако, как уже отмечалось, именно Д. С. Раевскому удалось восстановить целостную и непротиворечивую систему идеологических представлений скифов, в которую органично укладываются данные разнообразных и разноприродных источников, скрупулезно изученных им. Объединенные в данной монографии книги не только не потеряли своего значения, но остаются важнейшими трудами как по собственно скифской мифологии, так и по методике изучения идеологических представлений народов древности.
Два издания выдержало подготовленное Д. С. Раевским (совместно с В. Я. Петрухиным) пособие для студентов: «Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье» (М., 1998, 2004).
Литература о Д. С. Раевском
1 МИФ 7 на акад Дмитри Сергеевич Раевски София, 2001 (вступительные статьи В. Петрухина, М. Погребовой, И. Маразова)
2 Вестник древней Истории 2004 № 4 С 227
3 Российская археология 2004 № 4 С 187
4 «Восток» / Orient 2004 5 С 211 – 215
5 Ирано-Славика 2004 №3 – 4 С 82 – 86
Очерки идеологии скифо-сакских племен
Опыт реконструкции скифской мифологии
Как прекрасно, когда открывается единство целого комплекса явлений, которые при непосредственном восприятии кажутся совершенно независимыми друг от друга
Альберт Эйнштейн
Введение [4]4
Публикуется по: Раевский Д. С. Очерки идеологии скифо-сакских племен: Опыт реконструкции скифской мифологии. М.: Наука; Гл. ред. вост. лит., 1977.
[Закрыть]
Степной пояс Евразии в I тысячелетии до н. э. населяли, как известно, различные кочевые и оседлые племена, в материальной культуре которых прослеживается значительное сходство. В специальной литературе они фигурируют под условным названием: народы – носители культур «скифского типа». Письменные источники сохранили этнонимы некоторых из них, достаточно определенно локализуемые на карте: это скифы Северного Причерноморья, савроматы-сарматы низовий Дона, Волги и Урала, сако-массагетские племена Средней Азии. Древние наименования других народов этого региона точно не установлены, почему они и имеют в литературе условные археологические обозначения. Это носители тагарской культуры в Южной Сибири, пазырыкской на Алтае, тасмолинской в Северном Казахстане и т. д. Археологические исследования последних десятилетий существенно прояснили облик культуры населения степного евразийского пояса, в значительной степени выявили характер и уровень развития его экономики, в ряде случаев позволили установить его генетическую связь с носителями предшествующих культур бронзового века.
Существует, однако, аспект, в котором изучение всех названных народов делает еще самые первые шаги. Речь идет об исследовании свойственных им религиозно-мифологических представлений. Аспект этот весьма важен, так как на ранних этапах истории человечества в мифологии того или иного народа находит, как известно, специфическое отражение вся сумма свойственных этому народу представлений о природе и обществе, в ней проявляется реальное практическое знание о внешнем мире, суммируется свойственное древнему человеку понимание космического и социального порядка, понимание строения мира и своего места в этом мире. По определению К. Маркса, мифология – «бессознательно-художественная переработка природы (здесь под природой понимается все предметное, следовательно, включая и общество)» [Маркс, Введение: 737].
Однако реконструкция мифологического комплекса, свойственного тем народам, основную информацию о которых мы черпаем из археологического материала (а именно к ним принадлежат племена евразийских степей I тысячелетия до н. э.), – задача достаточно сложная. Если при исследовании экономики и этнической истории древних обществ мы имеем дело с непосредственным отражением в материальной культуре объективных исторических процессов, то в данном случае речь идет о реконструкции представлений, о проникновении в духовный мир человека путем изучения материальных остатков его деятельности. Решение этой задачи требует прежде всего отбора специфических источников и особых методов их интерпретации.
В каких же памятниках наиболее полно отразились религиозно-мифологические представления интересующих нас народов? Если оставить в стороне погребальные комплексы, достаточно широко исследованные на всем пространстве степного пояса, но отражающие в основном лишь одну, причем специфическую, сторону этих представлений – заупокойный культ, то наибольшее значение в интересующем нас плане имеют, бесспорно, произведения религиозного искусства. Среди них первое место как по количеству находок, так и по богатству заключенной в них информации занимают памятники так называемого звериного стиля. При наличии определенных локальных различий стиль этот как специфическое художественное и идеологическое явление представлен с большей или меньшей полнотой во всех частях евразийского степного пояса. Однородный характер мотивов и строгая каноничность композиций свидетельствуют об определенном единстве его символического языка по всему ареалу, о строго фиксированном значении каждого мотива, равно как и о его сакральном характере [см.: Артамонов 1968: 45]. Широкое распространение звериного стиля и его неоспоримые художественные достоинства уже в течение многих лет привлекают к нему внимание исследователей. Однако в обширной литературе, ему посвященной, попытки выяснения его семантики и реконструкции стоящих за ним представлений занимают весьма скромное место, уступая первенство проблемам формирования, хронологии, стилистического анализа [5]5
Это отразилось, в частности, в программе III Всесоюзной конференции по вопросам скифо-сарматской археологии (Москва, декабрь 1972 г.), специально посвященной звериному стилю евразийских степей. Семантика этого стиля затрагивалась на конференции лишь в нескольких докладах, да и то в незначительной степени.
[Закрыть]. В тех же случаях, когда авторы обращаются к интерпретации семантики звериного стиля, предлагаемые толкования весьма существенно разнятся между собой. Не претендуя на сколько-нибудь полное изложение историографии вопроса, приведу несколько примеров, чтобы продемонстрировать диапазон существующих трактовок.
Золтан Такац в статье, помещенной в фундаментальной «Энциклопедии мирового искусства», пишет: «Памятники искусства кочевников имеют магический и тотемистический характер, причем магия связана преимущественно с охотничьей деятельностью» [Takats 1961: 722]. Таким образом, он считает общество евразийских кочевников достаточно примитивным, базирующимся на охотничьем хозяйстве, а свойственную искусству этого общества зооморфную символику связывает исключительно с тотемизмом и промысловой магией.
Иначе трактует семантику звериного стиля (на материале скифских памятников Причерноморья) И. В. Яценко. Она также ограничивает ее преимущественно магическими воззрениями, но связывает их не с охотой, а с военным бытом, т. е. с более высоким социальным уровнем. По ее мнению, «магическое содержание звериного стиля своими корнями связано с древними тотемистическими представлениями» и состоит в том, что «изделия, украшавшие воина и его снаряжение, должны были придавать его обладателю силу, лов-кость, зоркость, т. е. все те качества, которые необходимы воину. Именно поэтому в скифском искусстве воспроизводились в основ-ном хищники, олени, козлы и орлы. В изображении подчеркивалось то, что убивало жертву (лапы, когти, рога, пасти, зубы), и то, что помогало выследить ее (глаза, уши, ноздри)» [Яценко 1971: 131 – 132; см. также: Ельницкий 1960: 54].
Е. Е. Кузьмина также обращает внимание на широкое распространение в скифском зверином стиле изображений не целых фигур животных, а отдельных их частей, но совершенно иначе трактует их смысл. Она видит в этом пережитки парциальной магии и полагает, что по своему значению изображение части животного тождественно изображению всей его фигуры. Сами же зооморфные образы Е. Е. Кузьмина трактует как изображения различных инкарнаций богов, т. е. не ограничивает религиозные представления скифов примитивной магией, а предполагает наличие у них развитого пантеона [Кузьмина 1972: 51 – 52]. Как изображения «зооморфных божеств» рассматривает образы звериного стиля и Н. Л. Членова. По ее мнению, «происхождение их восходит, по-видимому, к тотемам, но в рассматриваемую эпоху они, видимо, давно уже переросли в общеплеменные и межплеменные божества» [Членова 1967: 129]. Р. Гиршман считает, что скифам была свойственна «териоморфная концепция мира» [Ghirshman 1964: 329], но в то же время пишет о «магической или символической функции» образов животных, происхождение которых «связано с тотемами и анимистической идеологией» [там же: 304].
Приведенных примеров достаточно, чтобы увидеть, сколь широк диапазон толкований звериного стиля. Различия проявляются как в оценке уровня социально-экономического развития его носителей, так и в понимании значения его образов, в решении вопроса о степени сложности стоящих за ними религиозных представлений. Иными словами, если рассматривать памятники евразийского звериного стиля как определенный текст (в семиотическом значении этого термина), то расхождения между приведенными интерпретациями состоят и в понимании строя языка этого текста, и в приписывании ему различного содержания.
Причина столь существенных расхождений таится прежде всего в различном толковании характера знаков, входящих в знаковую систему звериного стиля. И. В. Яценко, например, в приведенном пассаже рассматривает изображения частей тела животных как знаки функций, присущих этим органам, и соответственно определенных физических свойств. При этом априорно предполагается, что в знаковой системе звериного стиля между предметом, выступающим в роли знака, и стоящим за ним означаемым должно непременно существовать зрительное сходство или реальная природная связь. Из аналогичной посылки исходит Е. Е. Кузьмина, полагая, что изображение части животного является знаком его целого изображения. Между тем такая посылка, хотя и допустима, вовсе не единственно возможна и даже не наиболее вероятна.
Семиотика знает типы знаков, существенно различные с точки зрения их отношения к означаемым предметам или явлениям. Между предметом, выбранным в качестве знака, и стоящим за ним означаемым может наблюдаться фактическое сходство (иконические знаки) или действительно существующая в природе связь (знаки-индексы). Но существует еще категория знаков-символов, лишенных такой реальной связи с означаемым. «Знак-символ является знаком объекта “на основании соглашения”… Связь между чувственно воспринимаемым означающим символа и мысленно постигаемым (переводимым) означаемым этого символа основана на согласованной, заученной, привычной ассоциации» [Якобсон 1972: 83]. Простейшим примером знака-символа может служить любая буква алфавита [6]6
«Знак может быть похож на обозначенный им предмет (как, например, египетские иероглифы-пиктограммы слов “солнце”, “человек”), но может быть и совершенно на него непохожим (как, например, буквы Б и В в кириллице, которые не имеют никакого сходства ни с соответствующими фонемами, ни со схемой положения органов речи)» [Нарский 1969: 42].
[Закрыть].
В чтении текстов звериного стиля И. В. Яценко или Е. Е. Кузьминой априорно предполагается употребление только знаков одного из двух первых типов, т. е. выбирается один из возможных кодов, причем этот выбор ничем, кроме гипотезы того или иного автора о значении композиций звериного стиля, не мотивирован. На основании произвольно избранного кода ведется затем чтение всего текста, т. е. толкуется смысл зооморфных композиций, реконструируется характер всей стоящей за ними системы представлений и т. д. [7]7
Простейший пример применения к одному и тому же тексту различных кодов являет чеховская «реникса» – чтение русского слова «чепуха» на основе латинского алфавита (А. П. Чехов, «Три сестры», акт IV). Здесь текст читается на основе не того кода, который использовался при его составлении, а иного, произвольно выбранного.
[Закрыть]
В принципе образы звериного стиля могут, конечно, отражать в корне различные религиозные концепции. Каждая из изложенных выше гипотез реконструирует теоретически мыслимую ситуацию. Слабость этих гипотез состоит не в их заведомой ошибочности, а в произвольности выбора, в том, что они исходят из произвольно избранного кода. Так, изображение того или иного органа животного в характерных для звериного стиля композициях в равной степени может являться знаком функции этого органа (И. В. Яценко), знаком образа самого животного (Е. Е. Кузьмина), но может и означать предмет или понятие, не имеющие ни малейшей связи или сходства с образом, выступающим в роли их знака. В качестве примера последнего понимания зооморфных мотивов можно привести характерное для ведической литературы представление о зооморфной символике космоса, когда различные части тела жертвенного животного и функции его организма символизируют различные части мироздания («Брихадараньяка-упанишада, I, 1») [8]8
«Утренняя заря – это поистине голова жертвенного коня, солнце – глаз, ветер – дыхание, рот – огонь Вайшванара, год – туловище жертвенного коня, небо – хребет, воздушное пространство – живот, земля – копыта, страны света – бока, промежуточные страны света – ребра, времена года – члены, месяцы и полумесяцы – суставы, дни и ночи – ноги, звезды – кости, облака – плоть, песок – пища в желудке, реки – жилы, горы – печень и легкие, растения и деревья – волосы, восходящее (солнце) – передняя часть, заходящее – задняя часть» («Брихадараньяка-упанишада», I, 1 – цит. по: [ДФ 1972: 138]).
[Закрыть].
Какое из толкований наиболее соответствует представлениям, нашедшим отражение в памятниках евразийского звериного стиля? Мы не сможем ответить на этот вопрос, опираясь в своей интерпретации лишь на сами эти памятники, без привлечения информации, внешней по отношению к исследуемой категории источников [см.: Топольский 1973]. Эта внешняя информация должна, с одной стороны, обосновать историческую правомочность той или иной интерпретации системы представлений, свойственной населению евразийских степей [9]9
Привлечение данных об уровне социально-экономического развития населения евразийских степей в интересующую нас эпоху обнаруживает, в частности, неправомочность толкования звериного стиля З. Такацем. Достаточно высокая степень развития производящего хозяйства у этих народов опровергает возможность толкования их религиозных представлений как «связанных преимущественно с охотничьей деятельностью».
[Закрыть], а с другой – послужить средством для выяснения кода, которым пользовались создатели памятников звериного стиля. Лишь выяснение этого кода может превратить такие памятники в поддающийся прочтению текст, в источник информации для дальнейшей реконструкции стоящих за ними представлений. Исходным же материалом для такой реконструкции они служить не могут, так как сами нуждаются в предварительном обосновании правомочности того или иного их прочтения. Иными словами, не звериный стиль на данном этапе может служить источником информации о свойственных его носителям представлениях, а реконструкция этих представлений позволит со временем расшифровать семантику его памятников.
Трудность, однако, состоит в том, что историческая ситуация, существовавшая в интересующий нас период в степном поясе, характер имеющихся источников предельно сужают круг данных, которые могут быть использованы для такой реконструкции. Отсутствие у народов этого региона собственной письменности, сочетающееся в большинстве случаев с крайней скудостью сведений о них в иноязычных источниках, редкость в искусстве большинства из них антропоморфных сюжетов, более доступных пониманию, чем зооморфные, – все эти особенности практически сводят на нет информацию о религиозных представлениях степных народов, сопоставимую с памятниками звериного стиля.
В этих условиях особое внимание должно быть обращено на Европейскую Скифию [10]10
Необходимо разъяснить употребление в данной работе этнических терминов «скифы» и «саки». Кроме специально оговоренных и обозначенных кавычками случаев, этноним «скифы» я вслед за Б. Н. Граковым и исследователями его школы употребляю для обозначения единых этнически и политически восточно-иранских племен, обитавших в степях Северного Причерноморья между Дунаем и Доном. Такое конкретное значение этого термина следует строго отличать от встречающегося в источниках его расширительного толкования, включающего в число скифов ряд других народов, как родственных населению припонтийских степей, так и иноэтничных, но близких им по культуре и образу жизни [Граков 1947]. Что касается термина «саки», то представляется вполне обоснованным мнение, что он в источниках также употреблялся в двух основных значениях – конкретном этническом и расширительном [Пьянков 1968: 14 – 16]. Однако вопрос о том, какое содержание вкладывалось в этот термин в обоих случаях, еще весьма далек от разрешения. Высказывавшиеся на этот счет мнения, в частности гипотеза И. В. Пьянкова, вызывают серьезные возражения и вступают в противоречие с источниками, о чем придет-ся говорить ниже. В литературе более распространено расширительное толкование этого этнонима, согласно которому в число саков включается население низовий Сырдарьи [Вишневская 1973], Памира [Литвинский 1972], Семиречья [Акишев, Кушаев 1963] и т. д. Именно в таком значении используется этот термин в данной работе, хотя следует оговорить условный его характер. Анализ материала будет в дальнейшем способствовать уточнению конкретного содержания этого этнонима. В том аспекте, который связан с тематикой данной работы, мне предстоит вернуться к этому вопросу ниже (см. с. 176 сл.).
[Закрыть]. Будучи неотъемлемой частью евразийского степного пояса и являясь одним из районов, где звериный стиль имел весьма широкое распространение, она в то же время обладала определенной спецификой. На протяжении столетий Скифия жила в теснейшем контакте с миром античных государств Черноморского побережья, вследствие чего жизнь скифов нашла в античных источниках более полное отражение, чем жизнь других народов – носителей культур «скифского типа». Интерес античного мира к аборигенам припонтийских степей отразился в большом количестве исторических, этнографических и географических сведений о Скифии и ее обитателях, сохраненных в произведениях греческой и римской литературы. Разумеется, эти сведения не могут дать полного представления о жизни причерноморских народов. Они предельно фрагментарны, подбор их в значительной степени случаен. Фрагментарность эта усугубляется тем, что большая часть написанного древними авторами о скифах утрачена. Однако при том, что о других обитателях степного пояса мы не имеем и столь кратких сведений, сохранившиеся данные приобретают характер важнейшего исторического источника. Сказанное в полной мере относится и к сведениям о скифской мифологии и религии. Они, естественно, не отражают всей системы религиозно-мифологических представлений, свойственной скифам, но в известной степени приподнимают ту плотную завесу, которой эти представления окружены.
В довольно обширном арсенале «скифских сюжетов» античной литературы можно выделить только два сколько-нибудь развернуто освещенных мифологических мотива. Это, во-первых, сохраненная различными авторами в нескольких вариантах так называемая легенда о происхождении скифов и, во-вторых, данные Геродота о скифском пантеоне. Оба фрагмента неоднократно служили предметом изучения. Однако представляется, что достигнутые в этом направлении результаты могут быть существенно дополнены, особенно если рассматривать названные пассажи в неразрывной связи с данными других источников, о которых речь пойдет ниже. При таком подходе выявляется семантическое единство этих сюжетов с другими, более отрывочными свидетельствами древних авторов, также касающимися скифской мифологии, но вне комплексного анализа представляющими весьма малую информативную ценность. Комплексный подход позволяет выявить в античной традиции о скифах и некоторые дополнительные сведения, которые на первый взгляд имеют характер бытовых или исторических штрихов, но при более внимательном изучении оказываются также связанными с мифологией. Наличие таких мифологических по происхождению, но реальных по внешнему обличию деталей в рассказах античных авторов о Скифии часто недооценивается. Между тем по вполне понятным причинам подобные мотивы должны быть весьма многочисленными. Так как мифология пронизывала все сферы общественного сознания скифского общества и являлась своего рода инструментом познания внешнего мира, многие детали этого мира воспринимались сквозь мифологическую призму и именно в таком деформированном виде описывались античным авторам их скифскими информаторами. В мифологические одежды облекались данные различного характера: социальные, этнографические, географические (о последних см., например: [Бонгард-Левин, Грантовский 1974: 31 – 32, 56 сл.]).