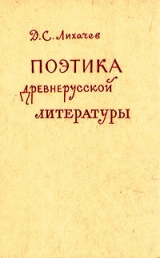
Текст книги "Поэтика древнерусской литературы"
Автор книги: Дмитрий Лихачев
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 32 страниц)
Автор передает случившееся с помощью рассказов действующих лиц. Иногда эти действующие лица сами подглядывают, прячутся в комнате – точно по поручению автора, так как собственной нужды у них в этом иногда и не бывает. Иногда автор указывает, что не мог разузнать подробностей, жалуется на отсутствие свидетелей, а то вдруг каким-то чудом узнаёт подробности ночного разговора губернатора Лемке с его супругой. «Мы не знаем, про что они говорили»,– пишет Достоевский, и это тоже характерно: эти уединенные разговоры для него все ж таки особенно важны и интересны.
И действительно, персонажи дают возможность взглянуть на явление с разных сторон. В голосах этих персонажей часто (гораздо чаще, чем у многих других авторов) звучит голос самого Достоевского. Воззрения Достоевского можно прочесть в словах Зосимы, Версилова, Ивана Карамазова, Ставрогина, Мышкина и др. Если это и полифонизм, то полифонизм лирического произведения – полифонизм, подчиненный выражению авторских чувств, мыслей и «мыслей-чувств» [1]. Его романы – «лирическая летопись».
{1}Под понятием «полифонизм» романов Достоевского имею в виду идеи, изложенные у М. М. Бахтина (см. его книгу: Проблемы поэтики Достоевского. Изд. 2-е. М., 1963).
В литературе о Достоевском неоднократно указывалось, что взгляды его героев нельзя отождествлять со взглядами самого Достоевского. И это верно. Однако нельзя не обратить внимания и на то, что никто из авторов не излагал так часто свои взгляды устами своих персонажей. И в этом отношении снова мы должны подчеркнуть, что у Достоевского нет «чистых» героев, как нет и «чистого автора».
Благодаря такому вторжению автора в речи, поступки, суждения действующих лиц сами фигуры автора и его повествователя выступают далеко не отчетливо. Да отчетливость их и не нужна. Они не «в фокусе», поскольку они все время движутся. Их изображения импрессионистически размыты их движением. Это художественный прием. Важны действия, события, действующие персонажи, а не повествователи. Читатель иногда даже не сразу узнает – кто они. Имя и отчество хроникера в «Бесах» (Антон Лаврентьевич) читатель узнаёт как бы случайно и может легко его забыть: оно не важно. Повествователи романов Достоевского часто условны, о них необходимо в какой-то мере забывать. Это почти так же, как в японском кукольном театре, где актеры в черном передвигают куклы на сцене на глазах у зрителей, но зрители не должны их замечать и не замечают. Играют куклы. Куклы могут иногда изобразить больше, чем живые актеры. Тех же, кто переставляет кукол, не следует принимать за действующих лиц. Автор и повествователи у Достоевского – это слуги просцениума, которые помогают читателю увидеть все происходящее с наилучших в каждом случае позиций. Потому-то они так и суетятся…
Достоевский – в погоне за временем, но не за «утраченным временем», как впоследствии у М. Пруста, которое было когда-то, прошло и теперь вспоминается, а за настоящим, за совершающимся. Он как летописец хочет зафиксировать мимолетное, чтобы закрепить его и выявить в нем вечное. То, о чем пишет Достоевский,– это еще не остывшее прошлое, прошлое, не переставшее быть настоящим.
Его летопись – «быстрая летопись», и хроникер его очень похож на репортера, поэтому-то он так не по-пименовски подвижен и не по-пименовски молод. Но все же связь с Пименом есть. Достоевский придает равное значение, как и летописец, значительному и незначительному, объединяет в своем изложении главное и второстепенное. И это позволяет ему в мелочах увидеть знаки вечности, предчувствия будущего и само это еще не родившееся будущее.
Достоевский – весь в поисках объективности и достоверности. Равное внимание к мелочам (деталям) и главному (общему) позволяет ему сохранять объективность. Изменение точек зрения позволяет утверждаться в сознании достоверности происходящего.
Одному случившееся представляется одним образом, другому – иначе, но многообразие суждений о случившемся позволяет все же считать, что случившееся было, что оно не мираж и что общее между разными точками зрения есть общее объективное. На фоне «немедленного» следования рассказчика за событиями все авторские отвлечения к будущему воспринимаются как.«пророчества», как предвидения, как удостоверения в вечной сущности совершающегося.
«Быстрая летопись» романов Достоевского – это современная форма литературы. Это вовсе не попытка архаизировать повествование, механически воскресить забытые формы художественного времени. Это иногда стенограмма. Характер стенограммы повлиял на стиль Достоевского, смешавшись с летописными композиционными приемами.
Сравните, например, замечания в скобках, которыми Достоевский сопровождает изложение речей на собраниях революционеров в «Бесах»: «(Послышался смех)», «(Смех опять)» (т. 7, 421), «(Общее шевеление и одобрение)», «(Опять шевеление, несколько гортанных звуков)», «(Восклицания: да, да! Общая поддержка)» (т. 7, 567) и т. д. Здесь передана даже неуклюжесть стенографического языка: «шевеление»! Стенограмма – современная форма летописи, документированной записи. Хроникер-летописец не случайно подчеркивает протокольную точность передаваемых им речей: «Я слово в слово привожу эту отрывистую и сбивчивую речь» (т. 7, 492) [1].
Достоевский вечно находится в погоне за событиями, так как ему, как летописцу, нужна достоверность. Проходит всего какой-то месяц, и правда исчезает. Суд над Иваном Карамазовым это показывает. Нельзя установить достоверность прошлого. А об отдаленном прошлом существуют уже только легенды.
И вместе с тем Достоевского тянуло к повествовательной манере прошлого, а следовательно, и к фантастическому времени средневековых жанров, когда надо было изложить чистую идею. Не случайно Иван Карамазов упрекает Алешу, что его «разбаловал современный реализм» и он «не может вместить ничего фантастического». Легенда о великом инквизиторе условно перенесена в XVI столетие, когда, по словам Ивана, «было в обычае сводить в произведениях на землю горние силы» (т. 9, 309). Характерно, что и записки старца Зосимы – попытка воскресить древние формы повествования. Не случайно образцом для их стиля послужили записки старца Парфения{2}. Написанные в XIX в., эти записки тем не менее следовали традициям древнерусской литературы – традициям жанра хождений во святую землю, представляя собой любопытную форму смешения различных языков и стилей, демонстрируя живучесть старых приемов изображения суетности всего временного и значительности вневременного. И все же Достоевский прибегал к этим древнерусским способам лишь в посторонних для его основной стилистической манеры вкраплениях.
{1} О стенографировании произведений Ф. М. Достоевского см.: Капелюш Б. Н. иПошеманская Ц. М. Стенографические записи А. Г. Достоевской // Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения. Т. 6. М.; Л., 1961. Однако влияние стенографирования на стиль произведений Достоевского не изучалось.
{2} Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой земле постриженика Святыя горы Афонския инока Парфения. Изд. 2-е. М., 1856.
В основном же Достоевский стремился в «суете сует» близких к современности нагромождений фактов найти признаки достоверной и «вечной» правды. Гидом в этих поисках Достоевский избирал воображаемого хроникера – летописца, неумелого писателя, который сам, не отличая иногда значительного от незначительного и случайно наталкиваясь на существенное, давал ему наиболее объективные показания.
Отметим теперь самое важное различие в отношении ко времени у летописцев и у Достоевского. Летописное время у первых было натуральным выражением их отношения к истории, к современности, к миру событий. Это было эпическое, коллективное сознание времени, сложившееся в жанре как таковом. У Достоевского летописное время – художественный способ изображения мира, он воссоздает его искусственно, как художник, изображает самое это летописное время, создавая образ хроникера, летописца. Летописное время у летописцев – их природа, природа их видения мира. Летописное время у Достоевского – это пейзаж, написанный большим художником. И при этом Достоевский не стремится воссоздать летописное время летописца,– он только использует достижения этого древнего способа в изложении события под углом зрения вечности. Он творчески перерабатывает этот способ, трансформирует его, делает его изумительно мобильным.
Художественные достижения древней литературы входят в новую не только отдельными сюжетами, темами и мотивами,– они входят по всему фронту литературы, имеющей тысячелетний опыт.
«ЛЕТОПИСНОЕ ВРЕМЯ» У САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА
Один из самых трудных вопросов – это вопрос о художественном времени в произведении, которое пародирует какой-либо жанр. Здесь неизбежны совмещения различных рядов времени: времени пародируемого произведения и времени авторского.
«История одного города» Салтыкова-Щедрина пародирует историческое сочинение, написанное на основании летописи с частичным использованием этой летописи. В нем перекрещиваются различные системы художественного времени: художественное время произведения, автором которого является Салтыков-Щедрин, художественное время пародируемого исторического сочинения, автором которого является вымышленный «издатель», и художественное время (если его только можно назвать художественным) той предполагаемой «Глуповской летописи», которая лежит в основе всего. Последние две системы художественного времени значительно искажены нарочитым их «непониманием» – непониманием чисто условным, которое является как бы сутью пародии, и создающиеся этим переходы из одного времени в другое дают возможность Салтыкову-Щедрину под видом прошлого писать о современности.
В основе «Истории одного города» лежит вымышленный «Глуповский летописец». Перед нами гротескное изложение содержания и переложения приемов средневекового летописца. Это подчеркнуто в самом названии; вот его полный вид: «История одного города. По подлинным документам издал М. Е. Салтыков (Щедрин)»[1].
{1}Щедрин Н. (Салтыков М. Е.). Поли. собр. соч. Т. 9. Л., 1934. С. 273. В дальнейшем цитаты приводятся по этому изданию с указанием страниц в скобках.
Произведение открывается археографическим описанием рукописи «Глуповского летописца»: «Летопись ведена преемственно четырьмя городовыми архивариусами и обнимает период времени с 1731 по 1825 год. В этом году, повидимому, даже для архивариусов литературная деятельность перестала быть доступною. Внешность «Летописца» имеет вид самый настоящий, т. е. такой, который не позволяет ни на минуту усомниться в его подлинности; листы его так же желты и испещрены каракулями, так же изъедены мышами и загажены мухами, как и листы любого памятника погодинского древлехранилища» (276).
Описание состава рукописи пародирует состав реальных летописей: «Летописи предшествует особый свод, или „опись», составленная, очевидно, последним летописцем; кроме того, в виде оправдательных документов, к ней приложено несколько детских тетрадок, заключающих в себе оригинальные упражнения на различные темы административно-теоретического содержания. Таковы, например, рассуждения: «Об административном всех градоначальников единомыслии», „О благовидной градоначальников наружности», „О спасительности усмирений (с картинками)», „Мысли при взыскании недоимок», „Превратное течение времени» и, наконец, довольно объемистая диссертация „О строгости"» (276).
М. Е. Салтыков-Щедрин был, очевидно, хорошо знаком с рукописями поздних летописей и хронографов, преимущественно XVII в. Он знал, что летописи представляли собой своды произведений различных летописцев, знал их баснословное начало, характер имеющихся в них отдельных статей, приложений и т. д. «Обращение к читателю», которым начинается «Глуповский летописец», во многом напоминает вводные статьи некоторых поздних летописей или хронографов третьей редакции и степенных книг. Однако только это обращение как бы сохраняет текст «Глуповского летописца». Сама же «История одного города» претендует быть только изложением «Глуповского летописца».
Вслед за несколькими строками, пародирующими риторическое начало «Слова о полку Игореве», «История одного города» переходит к баснословному началу Глупова, напоминающему историческое баснословие XVII в.
В летописи, как мы видели, время обозначается точными хронологическими вехами – годами от «сотворения мира»; более крупные хронологические вехи – смены князей. В степенных книгах историческое повествование делится по степеням исторической лестницы; каждая ступень этой лестницы – княжение или правление митрополита.
В соответствии с сатирическим замыслом «Истории одного города» это деление истории в «Глуповском летописце» подчеркнуто: история делится на главы по правителям. Один градоначальник сменяет другого, чем знаменуется переход от одного исторического периода к другому. Историческое движение настолько связано со сменами градоначальников, что когда Угрюм-Бурчеев «моментально исчез, словно растаял в воздухе», то и «история прекратила течение свое» (426). В «Истории одного города», как и в летописи, есть точные даты (градоначальник Брудастый прибыл в Глупов в августе 1762 г.) и ссылки на других градоначальников и на их порядковые номера по «Описи градоначальникам» (эта опись пародирует списки царей, князей и церковных иерархов, имеющиеся в летописи). Обыватели, например, «вспомнили даже беглого грека Ламврокакиса (по «описи» под № 5), вспомнили, как приехал в 1756 г. бригадир Баклан (по «описи» под № 6)» (291). Есть исторические сравнения (характерные для хронографов и встречающиеся в летописи): «Нечто подобное было, по словам старожилов, во времена тушинского царика, да еще при Бироне, когда гулящая девка, Танькакорявая, чуть-чуть не подвела всего города под экзекуцию» (292).
Имеются в глуповской летописи и характерные для летописания точные отметки «исторического» времени; ср. в главе V: «Был, по возмущении, уже день шестый» (310); «был, после начала возмущения, день седьмый» (312); «наконец, в два часа пополудни седьмого дня он (новый градоначальник.—Д. Л.) прибыл» (312) и пр.
Можно было бы привести и многие другие признаки знакомства Салтыкова-Щедрина с летописными способами изображения времени. Моя задача не состоит только в том, чтобы показать, что, пародируя «Глуповский летописец», Салтыков-Щедрин в какой-то мере воспроизвел и летописные особенности обозначения времени. Дело обстоит сложнее.
В главе о летописном времени мы видели, что, механически соединяя в единой хронологической сети под одним годом разнохарактерные и разнокалиберные события, не связанные между собой единой причинно-следственной зависимостью, летопись подчеркивала «суету сует мира сего». Это механическое соединение в годовой статье различных известий подчеркивало провиденциальную точку зрения летописца, его особую «философию истории», связанную с его церковными представлениями. Видя движение только в узком кругу событий, считавшихся достойными быть отмеченными в летописи (смены князей, их смерти и рождения, войны и заключения мира и т. п.), летописец как бы подчеркивал неизменность всего остального, «суетность» мировой истории (совсем иным, правда, было отношение к истории библейской, излагавшейся и иными способами) . Салтыков-Щедрин в «Истории одного города» воспользовался этим внешним приемом летописи, чтобы показать не «суетность истории», а бессмысленность действий градоначальников как единственных вершителей истории. То, что для старых русских летописей было традиционным приемом описания событий, у Салтыкова-Щедрина превращено в самую суть событий. Летописное изображение времени стало восприниматься как изображение самого существа исторического процесса и обессмысливало его. И в этом-то и состоит смысл пародирования летописи: летописная манера изображения давала неограниченные возможности для сатирического изображения действительности, для подчеркивания глупости и бессмысленности начальственных деяний.
В самом деле, летописное нанизывание сообщений переведено в «Истории одного города» в план бессмысленной смены событий. Если летопись соединением разнокалиберных и разнохарактерных событий показывала суету мира то М. Е. Салтыков-Щедрин, отрицая существование прагмагической связи между событиями, показывает тем же способом бессмысленность действий самих людей – «деятелей истории». То, что для древнерусского летописца было свидетельством особого течения времени, раскрывающего призрачность земного существования, земных тревог, для воображаемого «издателя» «Истории одного города» являлось лишь немотивированностью поступков самих глуповцев. То, что для летописца являлось природой исторического течения времени, для автора «Истории одного города» является природой самих глуповских градоначальников, чьи бесцельные, «глупые» поступки порождают хаос событий. Из метафизического плана летописи М. Е. Салтыков-Щедрин переводит тот же характер изложения в план реальный, причинно-следственный. Для летописца причинно-следственный ход исторических событий нарушается божественным вмешательством, для глуповского же летописца причинно-следственная связь событий нарушается бессмысленными начальственными распоряжениями.
Летопись обычно мотивирует те или иные решения князя, влагая в его уста «исторические речи», произнесенные им в момент принятия решения. Салтыков-Щедрин также вкладывает в уста градоначальников «исторические слова», но опять-таки, чтобы показать глупость их действий. Бессмысленность слов подчеркивает бессмысленность и немотивированность градоначальственных распоряжений и далее – бессмысленность самой истории, направляемой их властительными указаниями.
При этом слова градоначальников никак не мотивировали их поступка, а непосредственно вызывали событие. В результате логика отсутствовала не только в словах градоначальников, но и в порождаемых этими словами событиях. Слова начальства оказывались единственными двигателями истории. Они не вызывали и не могли вызывать возражений. Они были разительными, заставляли себе только подчиняться. Поскольку начальник не встречал возражений и ему не надо было аргументировать, эти начальственные распоряжения оказывались односложными, сводились к окрикам и восклицаниям. За словами административного лица, какими бы идиотскими они ни были, немедленно шло их «воплощение» в действительность.
Поэтому нередкое в летописи отсутствие прагматической связи событий в «Истории одного города» превращено в отсутствие элементарной человеческой логики. Мотивы есть, но они глупые, и город, в котором история совершает свое течение,– Глупов (впрочем, начальственно переименованный в Непреклонск; это переименование тоже важно, так как оно позволяет демонстрировать стремление начальников подчинить своим распоряжениям историю).
Немедленность воплощения в жизнь любых начальственных слов, не встречающих возражений, видна по сцене приглашения глуповцами к себе князя. Князь сидел посреди поляночки, попаливая в ружьецо и помахивая сабелькой. Это «сидение» князя как бы пародирует те иератические положения, в которых обычно изображался князь в летописи и на миниатюрах при приеме и отпуске послов. Глуповцы становятся пред ясные очи князя, и начинается, диалог, напоминающий не то диалоги летописи, не то диалоги сказки. Князь спрашивает, глуповцы отвечают и излагают ему свою просьбу: прийти к ним и «володеть» ими. Затем князь ставит им условия, и глуповцы на все отвечают «так», не в силах придумать возражения.
«Ладно. Володеть вами я желаю,– сказал князь,—а чтоб идти к вам жить – не пойду! Потому вы живете звериным обычаем: с беспробного золота пенки снимаете, снох портите! А вот посылаю к вам, заместо себя, самого этого новотора-вора: пущай он вами дома правит, а я отсель и им и вами помыкать буду! Понурили головотяпы головы и сказали: – Так! – И будете вы платить мне дани многие,– продолжал князь,– у кого овца ярку принесет, овцу на меня отпиши, а ярку себе оставь; у кого грош случится, тот разломи его на-четверо: одну часть мне отдай, другую мне же, третью опять мне, а четвертую себе оставь. Когда же пойду на войну – и вы идите! А до прочего вам ни до чего дела нет! – Так! – отвечали головотяпы. – И тех из вас, которым ни до чего дела нет, я буду миловать; прочих же всех – казнить. – Так! – отвечали головотяпы. – А как не умели вы жить на своей воле и сами, глупые, пожелали себе кабалы, то называться вам впредь не головотяпами, а глуповцами. – Так! – отвечали головотяпы. Затем приказал князь обнести послов водкою, да одарить по пирогу, да по платку алому, и, обложив данями многими, отпустил от себя с честию. Шли головотяпы домой и воздыхали. „Воздыхали не ослабляючи, вопияли сильно!» – свидетельствует летописец. „Вот она, княжеская правда какова!» – говорили они. И еще говорили: „такали мы, такали, да и протакали!"» (284).
Летопись, прочтенная глазами историка XIX в., превращена в цепь бессмысленных действий административных лиц. «Суетность» мира сего превращена в глупость не знающих себе препон администраторов.
В летописи – смена княжений, в истории Глупова – смена градоначальников. Феодальные представления трансформированы в представления чиновников. Пародирована и манера летописи влагать в уста исторических лиц их «исторические слова». Эти «исторические слова» начальства становятся как бы самой сутью истории.
Когда калязинец взбунтовал семендяевцев и заозерцев и, «убив их, сжег», тогда князь выпучил глаза и воскликнул: « – Несть глупости горшия, яко глупость! И прибых собственною персоною в Глупов и возопи: – Запорю! С этим словом начались исторические времена» (286).
История начинается с начальственного окрика и прекращает свое течение с исчезновением испарившегося в воздухе градоначальника.
В главе XII «Поклонение мамоне и покаяние» есть такое рассуждение о течении истории: «Человеческая жизнь – сновидение, говорят философы-спиритуалисты, и если б они были вполне логичны, то прибавили бы: и история – тоже сновидение. Разумеется, взятые абсолютно, оба эти сравнения одинаково нелепы, однако нельзя не сознаться, что в истории действительно встречаются по местам словно провалы, перед которыми мысль человеческая останавливается не без недоумения. Поток жизни как бы прекращает свое естественное течение и образует водоворот, который кружится на одном месте, брызжет и покрывается мутною накипью, сквозь которую невозможно различить ни ясных типических черт, ни даже сколько-нибудь обособившихся явлений. Сбивчивые и неосмысленные события бессвязно следуют одно за другим, и люди, по-видимому, не преследуют никаких других целей, кроме защиты нынешнего дня. Попеременно, они то трепещут, то торжествуют, и чем сильнее дает себя чувствовать унижение, тем жестче и мстительнее торжество. Источник, из которого вышла эта тревога, уже замутился; начала, во имя которых возникла борьба, стушевались; остается борьба для борьбы, искусство для искусства, изобретающее дыбу, хождение по спицам и т.д.» (375—376).
Как видим, особенности летописного изображения истории перенесены Салтыковым-Щедриным на самую историю, которую делают ретивые администраторы. «Сбивчивые и неосмысленные события бессвязно следуют одно за другим». Это не взгляд на всю историю – это только взгляд на те «провалы» в истории, которыми она обязана вмешательству чиновников. То, что летописцу казалось в истории доказательством величия божественного промысла, то у Салтыкова-Щедрина оказывается бессмысленностью административного рвения глуповских градоначальников. Начальственная борьба со стихией сама превращается в стихию. Люди заняты только «защитой нынешнего дня»; «начала, во имя которых возникла борьба, стушевались; остается борьба для борьбы, искусство для искусства».
М. Е. Салтыков-Щедрин не был первым в пародировании русских летописей. За несколько лет до него, в 1854 г., Густав Доре издал во Франции альбом «La sainte Rusi». Различие между Г. Доре и М. Е. Салтыковым-Щедриным заключалось в том, что Доре пародировал русскую историю, а М. Е. Салтыков-Щедрин – русскую летопись. Г. Доре стремился показать бессмысленность русской истории, М. Е. Салтыков-Щедрин создал гротеск из перевода летописной манеры изложения в современный план. У Доре – пародия на историю, у Салтыкова – сатира на современность. Это летопись, прочтенная глазами почти современника Салтыкова-Щедрина. Кто же этот «почти современник» Салтыкова-Щедрина и почему понадобилось читать летопись именно его глазами? В ответе на этот вопрос мы близко подойдем к самой сути художественного замысла Салтыкова-Щедрина.
Салтыков-Щедрин пародирует в «Истории одного города» не столько летопись, сколько русских историков, изучающих, комментирующих и издающих летопись.
Смещая времена, Салтыков-Щедрин пишет, что летописцы «Глуповского летописца» «единую имели опаску, дабы не попали наши тетрадки к г. Бартеневу и дабы не напечатал он их в своем „Архиве"» (279). Эта опаска их оправдалась: глуповскую летопись нашли и использовали в качестве исторического источника для «Истории Глупова». Цитированное уже выше предисловие «От издателя» пародирует археографические введения историков и литературоведов своего времени: М. П. Погодина, Н. И. Костомарова, А. Н. Пыпина. Не столько даже летописцев, сколько именно их выставляет Салтыков-Щедрин в карикатурном виде.
Выше указывалось, что Салтыков-Щедрин, как бы не понимая духа летописи, буквально понимает летописное изображение событий. Летописная манера описания событий становится под пером Салтыкова самой сутью истории. Ответственность за это «оглупление» летописи Салтыков-Щедрин возлагает на русских историков – своих современников. Он создает образ «издателя» глуповской летописи – ее пересказчика и комментатора. Образ этот чрезвычайно существен в «Истории одного города», позволяя понять многое в ее замысле. Ученые комментарии еще больше подчеркивают бессмысленность хода истории, управляемой начальственными окриками.
Так, например, воображаемый комментатор пишет, что рассказ о гибели статского советника Иванова существует в двух вариантах. «Один вариант говорит, что Иванов умер от испуга, получив слишком обширный сенатский указ, понять который он не надеялся. Другой вариант утверждает, что Иванов совсем не умер, а был уволен в отставку за то, что голова его, вследствие постепенного присыхания мозгов (от ненужности в их употреблении), перешла в зачаточное состояние. После этого он будто бы жил еще долгое время в собственном имении, где и удалось ему положить начало целой особи короткоголовых (микрокефалов) , которые существуют и доднесь. Какой из этих двух вариантов заслуживает большего доверия – решить трудно; но справедливость требует сказать, что атрофирование столь важного органа, как голова, едва ли могло совершиться в такое короткое время» (379).
Не буду останавливаться на других примерах пародирования ученых комментариев к публикуемому историческому источнику.
Возникает вопрос: воспользовался ли Салтыков-Щедрин для своей пародии только формой исторического комментария или его пародия шла глубже и касалась самого существа исторического исследования? Прямой ответ на этот вопрос мы находим в главе XII «Истории одного города».
Салтыков-Щедрин пародирует не только и не столько историческую манеру, сколько исторические теории своего времени. Его сатира высмеивает не «ученость», а учение историков. В главе XII «Поклонение мамоне и покаяние» Салтыков пишет: «Не забудем, что летописец преимущественно ведет речь о так называемой черни, которая и доселе считается стоящею как бы вне пределов истории. С одной стороны, его умственному взору представляется сила, подкравшаяся издалека и успевшая организоваться и окрепнуть, с другой – рассыпавшиеся по углам и всегда застигаемые врасплох людишки и сироты. Возможно ли какое-нибудь сомнение насчет характера отношений, которые имеют возникнуть из сопоставления стихий столь противоположных? Что сила, о которой идет речь, отнюдь не выдуманная – это доказывается тем, что представление об ней даже положило основание целой исторической школе[1]. Представители этой школы совершенно искренне проповедуют, что чем больше уничтожать обывателей, тем благополучнее они будут и тем блестящее будет сама история» (377).
Что же это за историческая школа, о которой идет речь у Салтыкова-Щедрина и к которой, очевидно, принадлежит его историк, от чьего имени ведется все повествование в «Истории одного города»?
В своей монографии «Сатира Салтыкова-Щедрина» А. С. Бушмин справедливо пишет: «В социологии „Истории одного города» есть особенность, вызывающая самые разноречивые суждения и споры исследователей. Она заключается в том, что государственный аппарат представлен в произведении как бы надклассовым органом насилия, подавляющим всех, хотя и в разной мере. Вследствие этого бюрократия, деспотизм немногих лиц выступает в виде чудовищной, страшной силы, пришедшей извне. Глуповское население оказалось расколотым на два крайних полюса, разделенных огромным пустым пространством: деспотическая бюрократия, с одной стороны, с другой – почти не дифференцированная, угнетенная и устрашенная произволом градоправителей масса. В произведении в очень слабой степени показаны те социальные слои, которые не за страх, а ради классовой выгоды поддерживали Бородавкиных и Угрюм-Бурчеевых»[2].
{1} Здесь и далее в цитатах разрядка моя.– Д. Л.
{2} Бушмин А. С. Сатира Салтыкова-Щедрина. М.; Л., 1959. С. 76—77.
Далее А. С. Бушмин пишет: «Здесь Щедрин как бы отказался от классовой трактовки самодержавия как государства помещиков. Напомним, что более ранние образы, представлявшие самодержавное государство в виде многослойной социальной пирамиды („Запутанное дело») или в виде господства целого класса помещиков Сидорычей над рабами Иванушками („Глупов и глуповцы»), принципиально вернее характеризовали классовую природу самодержавия, нежели Угрюм-Бурчеев и безмолвно лежащее перед ним ниц все остальное население города Глупова»[1].
Объясняя это отступление Салтыкова-Щедрина от своих же собственных позиций, А. С. Бушмин правильно пишет: «Задача заключалась не в том, чтобы показать выгоды, приносимые самодержавием эксплуатирующим классам, а те бедствия, которые оно причиняло порабощенным массам. Сатирик показывал, до каких уродливых форм может простираться монархический деспотизм в обстановке беспрекословного повиновения угнетенных масс». И далее: «Следовательно, „История одного города» рисует картину не социологии общества, а административно-политической системы самодержавия. Для уяснения социологических воззрений писателя надо обращаться к другим произведениям» [2].






