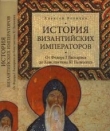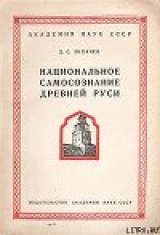
Текст книги "Национальное самосознание Древней Руси"
Автор книги: Дмитрий Лихачев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
5
Московские порядки были введены в Новгороде в 1478 г. после вторичного похода, которому Иван III придал характер защиты русских интересов от изменников – новгородских бояр. Этот поход Ивана III был обставлен с чрезвычайной пышностью. Ни один из московских походов ни в прошлом, ни впоследствии не сопровождался такой усиленной пропагандой, таким обилием всяческих посланий, как новгородские походы Ивана III. Идеологическое состязание Новгорода и Москвы достигло в 70-х – 80-х годах XV в. особенной напряженности. Везя в обозе своих войск летописи и книжника, умевшего «говорить по летописцам русским» (новгородца Стефана Бородатого),156 Иван III готовился к сложной идеологической борьбе с Новгородом. Наступая на Новгород, Иван III явно не опешил, принимал по дороге перебежчиков и затягивал переговоры, очевидно, выжидая, чтобы московские интересы сами взяли верх в Новгороде. К этому у него были веские основания: так называемая литовская партия, составлявшая крайнее меньшинство, орудовала в Новгороде путем подкупов и террора, которые становились недейственными при одном приближении громадного войска великого князя. Чем ближе подступала к Новгороду великая рать московская, тем больше перебегало к ней новгородцев, обещавших служить великому князю верой и правдой.
Присоединение Новгорода к Москве не сопровождалось стремлением к разрушению его культурных ценностей. Уничтожая новгородскую независимость, москвичи не считали себя завоевателями, точно так же, как и представители московской партии в Новгороде не рассматривали себя как врагов родного города. Уничтожение новгородской независимости понималось не как завоевание, а как воссоединение исконных русских земель под державой «боговенчанного» монарха «всея Руси». Сознание значительности одного из старейших русских городов постоянно ощущается в отношениях Москвы к Новгороду. Москва широко использовала новгородские летописи, приглашала к себе новгородских иконников и каменщиков, подчеркивала славу и величие великого Новгорода, исконную зависимость его от московских великих князей, усматривая новгородскую измену лишь в «последних летех». Постепенно Москва обстраивала новыми стенами Новгородский Детинец (кремль), возвратила в Новгород Софийскую казну, увезенную было Иваном III, перепланировала город, расширяя улицы, упорядочила городскую жизнь, наконец всячески пользовалась книжными традициями и богатствами Новгорода.
В первой половине XVI в. в Новгороде наблюдалось возрождение организованной работы над летописью. В 1520 г. при архиепископе Макарии – будущем участнике «избранной рады» Грозного – здесь была составлена особая редакция Хронографа. В 1539 г. был создан новый свод новгородской летописи.157 При Макарии же в Новгороде составлялось грандиозное собрание житий русских святых, так называемые макарьевские Четьи-Минеи в 12 обширных томах. Стремясь найти в новгородском прошлом опору для нового порядка, Москва поддерживала культ представителя московской демократической партии в Новгороде – Михаила Клопского. Политическое значение этого культа видно хотя бы из того, что впервые в истории: древнерусской книжности составление нового жития этого святого было поручено светскому лицу – московскому чиновнику, сыну боярскому и «храброму воину» Василию Тучкову, который значительно усилил московский антипосаднический дух жития.
В течение всего XVI и XVII вв. в Новгороде осуществлялся целый ряд общерусских культурных предприятий. Москва поддерживала книжность Новгорода, и сам Новгород в целом придерживался общерусской позиции; однако кое-какие отголоски идей боярско-литовской партии в церковной трансформации (новгородская церковная организация менее всего пострадала при разгроме Новгорода), как, например, идея совершенной самостоятельности новгородской церкви (легенда о белом клобуке), идея превосходства «священства» над «царством» и т. д., еще долго сказывались и в новгородской книжности и в новгородской жизни на протяжении всего XVI и XVII вв.
6
Идейное движение в Твери XV в. во многом аналогично идеологической борьбе Новгорода с Москвой. Так же, как и в Новгороде, в Твери происходит возрождение местных исторических традиций. Так же, как и Новгород, Тверь стремится создать свое местное патриотическое движение, противостоящее Москве, пытается найти опору своим сепаратистским устремлениям в своем прошлом. В Твери, как и в Новгороде, усиленно восстанавливаются старые, еще домонгольские постройки и возрождаются исторические предания эпохи национальной независимости. Однако в отличие от Новгорода, ограничивавшего круг своих исторических интересов местными преданиями, Тверь вслед за Москвой возрождает общерусские исторические традиции Киева. Тверские книжники втечение всего XV в. неоднократно обращаются к литературным произведениям Киевской Руси, переделывая их, редактируя их, переписывая и заимствуя из них для собственных сочинений отдельные образы и целые отрывки. Тверская литература обращается к патриотическому воодушевлению «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона, к широте исторической мысли «Повести временных лет», к оказаниям о князьях Борисе и Глебе, чей культ на протяжении многих веков связывается с политическими идеалами общерусского единства, к произведениям Кирилла Туровского и Киево-Печерскому патерику, пересоставленному в Твери в начале XV в. в новой, так называемой Арсеньевской редакции. Вместе с тем, тверская литература усваивает московские литературные произведения конпа XIV – начала XV вв. и опирается на достижения московской исторической литературы.
Вслед за Москвой, в Тверском княжестве – усиленно ведется летописная работа. В 1409 г. составляется свод, пропагандировавший идею единства «Тверской земли» и необходимости примирения тверских и кашинских князей – наследников тверского великого князя Михаила Александровича. В 1455 г. по приказанию тверского великого князя Бориса Александровича составляется «Летописец княжения тверского». Главное и преобладающее внимание уделено в нем тверским событиям и пропаганде идеи самодержавности тверского князя Михаила Александровича. Он – «от богосадного корени доброплодная отрасль», он – «храбрость показа многу и грады многы взем: покоривыися любовию, а непокоривыа мечем».
В своем политическом развитии Тверь значительно опережала Новгород. Политическая борьба тверских великих князей с сепаратистскими стремлениями кашинских князей воспитала в Твери мысль о политических преимуществах сильного единодержавного правления. Тверской свод 1455 г. весь проникнут мыслью о необходимости крепкой княжеской власти, о необходимости прекращения феодальных раздоров. И в этом отношении Тверь не только следовала за Москвою, но в некоторых своих идеях опережала ее. Так, раньше чем в Москве, в Твери создается теория самодержавной власти великого князя.
Пользуясь временной слабостью Москвы в годы междоусобной борьбы за московское великое княжение, Тверь стремится взять на себя роль защитницы общерусских интересов, а тверской князь пытается быть представителем в Западной Европе всей Русской земли, как ее глава. Эта идеология ярко отразилась в замечательном похвальном «Слове» инока Фомы тверскому князю Борису Александровичу.
Историческую обстановку создания «Слова» отчетливо обрисовал академик Н. П. Лихачев в своем труде «Инока Фомы слово похвальное» (1908, стр. IX–X): «В половине XV столетия еще продолжалось давнее соперничество Москвы с Тверью. Идея о царстве и царском наследии коснулась и Тверской области. Был как-раз необыкновенно благоприятный момент. Москва раздирается усобицами, законный князь то в плену, то изгнан, потом ослеплен. Только помощью Твери утверждается он на прародительском столе, заключив союзный и брачный договоры. Во главе княжества Тверского стоит деятельный и талантливый человек [Борис Александрович]. Временное процветание Твери оживляет заглохшую былую славу. Даже послы великой „Шавруковой“ орды идут в Тверь и минуют Москву. Из Византии же приходят печальные вести; после морального падения на нечестивом латинском соборе распространяются слухи о постепенном утеснении Царьграда агарянами [турками. 29 мая 1453 г. Царьград пал, православная вселенская монархия кончилась. Есть у латинян цари, сильные царства, но не может благодатное наследие царя Константина перейти к впавшим в ересь. Только на одной Руси сияет православие; кому же в Русской земле принадлежит наследие царства?.. Не князь московский, а боговенчанный царь Борис Александрович тверской настоящий наследник Византийской империи и „второй Константин“, благоверный православный самодержец…». Такова главная мысль «Слова».
«Слово» инока Фомы подчеркивает величие и славу «Тверской земли». Тверская земля – богоизбранная страна, «Новый Израиль»; ее князь – «второй Константин». Имя тверского князя Бориса Александровича славимо повсюду – «от Востока и до Запада и до самого царствующего града». Авторитет тверского князя стоит высоко среди европейских монархов. Иноземные цари возносят ему хвалу. Инок Фома восхваляет храбрость Бориса Александровича и «дерзость сынов Тферскых». Борис Александрович – государь и «защитник наш». Фома подчеркивает силу княжеской власти Бориса, его единодержавство и утверждает богоустановленный характер княжеской власти, что впоследствии настойчиво станут проводить московские книжники. Великий князь Борис Александрович называется в «Слове» царствующим самодержавным государем, что само по себе было решительной новостью в русской политической мысли того времени. Борис Александрович «царскым венцем увязася» и сравнивается с Августом, с Львом Премудрым, с царем Птоломеем Книголюбцем, с Константином Великим, с царем Феодосием.
Фома превозносит строительную деятельность Бориса Александровича, устройство им нового Тверского кремля и называет его «новым Ярославом» (Мудрым), что уже само по себе должно было говорить о стремлении Бориса Александровича сосредоточить в своих руках объединение Руси.
«Слово» Фомы недвусмысленно выражало идею единства Руси, идею необходимости сильной монархической власти, впервые по-новому названной «царской».
Сами по себе эти мысли «Слова» были глубоко прогрессивны; свидетельствуя о вполне созревшей повсюду мысли о необходимости создания единого национального государства. Но Москва имела большие исторические права на возглавление этого государства. Вскоре спор о том, кому стоять во главе объединенной Руси, был решен военной рукой Москвы. Тверской князь нарушил мирный договор с великим князем московским и вступил в переговоры с Литвой. В 1485 г. Иван III осадил Тверь, тверские бояре перешли на службу к Ивану III, тверской князь бежал в Литву, а тверичи целовали крест Ивану III.
VII
РОССИЯ И ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В XVI в.
С конца XV в. объединенное Русское государство становится лицом к лицу с Литвой, Польшей, Ливонией, Швецией, Турцией, Ираном. Москва завязывает непосредственные отношения с европейскими странами: Австрией, Венгрией, Венецией, Римом, Германией, Данией. Русское правительство вступает в различные союзы со странами Западной Европы; оно вызывает архитекторов, ремесленников, горноделов, оружейных мастеров, которые вместе с русскими участвуют в общем прсмышленном подъеме страны.
Деятельные сношения Русского государства с другими странами вызывают рост национального чувства, чувства гордости за свою родину. Тверской купец Афанасий Никитин, на 25 лет раньше западно-европейских путешественников проникший в Индию (1466–1472) и составивший о ней обстоятельные и умные записки, повидав многие страны, писал: «Да сохранит Бог землю Русскую! боже, сохрани ее! в сем мире нет подобной ей земли. Да устроится земля Русская».158 Русских путешественников и дипломатов, ездивших в Западную Европу в конце XV и XVI вв., всегда отличала крепкая уверенность в себе, в своем достоинстве представителей России. Русские дипломаты умело пользуются своею историческою ученостью и создают сложную теорию власти московских государей, высоко поднимавшую авторитет русского монарха над остальными европейскими королями и правителями. Это была творческая политическая идеология, направлявшая политику Русского государства по пути защиты национальных интересов, национальной культуры в сложной среде европейской цивилизации. Такова ведущая линия отношений России к Западной Европе в XVI в.
1
Не только Россия была заинтересована в конце XV–XVI вв. в деятельных сношениях с европейскими странами. Сами западно-европейские государства наперерыв стремятся к союзу с могущественной страной на Востоке Европы.
Необычайные военные успехи Турции во второй половине XV в. вселили ужас и смятение в среду европейских народов. В 1453 г. после двухмесячной ожесточенной осады пал Константинополь. В 1459 г. была завоевана Сербия и обращена в турецкий пашалык. В 1460 г. турки завоевали Афинское герцогство и вслед за ним всю Грецию. В 1462 г. они захватили Лесбос и Валахию, в 1463 г. – Боснию, в 1467 г. – Албанию, а затем Герцеговину. В 1476 г. турки опустошили Молдавию, а в 1479 г. заключили победоносный мир с Венецией и Неаполем.
Расцвет турецкого могущества на Востоке совпал с ростом силы и международного престижа молодого Русского государства. Иван III деятельно сносится с западно-европейскими государствами, и западные властители усиленно стремятся польстить самолюбию восточного государя обещаниями королевского титула и признанием за ним прав на константинопольское наследство. Западно-европейские государства всячески стремятся вселить Ивану III мысли о владычестве на Востоке, столкнуть Москву с Турцией и тем самым сделать Русское государство послушным орудием своей политики. Одно из первых мест в этих завязавшихся сношениях Западной Европы с Москвою принадлежало папе. Маня и соблазняя Ивана III византийским наследством, римская курия стремилась вовлечь Москву в общеевропейский союз для борьбы с исламом. Именно для этого и был задуман в Риме брак Ивана III с Софией Палеолог – племянницей последнего византийского императора Константина VIII. В пути византийскую принцессу сопровождал легат папы. В Риме надеялись приобрести в супруге царевны не только нового союзника против Турции, но и, возможно, нового члена католической церкви. Вскоре после брака Ивана III и Софии Палеолог сениория Венеции, всегда точная и осторожная в своих решениях, писала Ивану III, что Византия «за прекращением императорского рода в мужском колене должна принадлежать вашему высочеству в силу вашего благополучнейшего брака».159 Но Иван III не был склонен к войне с турками. В 1495 г. в Константинополе появились московские послы, чтобы обеспечить русским купцам беспрепятственную торговлю с Турцией.
Попытки соблазнить Москву константинопольским наследием и вовлечь Русское государство в войну с Турцией особенно усилились при Василии III. В 1519 г. магистр прусского ордена сообщал Василию III через своего посла Дитриха Шонберга о желании римского папы «наияснейшаго и непобедимейшаго царя всеа Русии короновать в христьянского царя»160 с тем только, чтобы Василий III принял участие в антитурецком союзе. В ходе переговоров Шонберг говорил о союзе против «християнского врага Турка, кой держит наследие царя всеа Русии».161 Однако московские бояре отвечали Шонбергу, что Василий «хочет вотчины своее земли Русские»,162 и не приняли во внимание «костянтинополскую отчину»,163 на которую указывал им Шонберг. Ни Иван III, ни Василий III, ни Иван IV не были склонны к войне с Турцией из-за византийского наследия. Властители Запада напрасно обольщали себя надеждой общего с Москвою крестового похода против ислама. В Москве иначе смотрели на константинопольское наследие и нисколько не заботились о земельных приобретениях в Турции. Грозный не дал ответа австрийскому императорскому посольству 1576 г. на предложение «цесарства греческого» и титула «всходного цесаря» (царя Востока); он не дал его, несмотря ка все свое ревнивое отношение к признанию своего царского титула на Западе.
Несмотря на состоявшийся брак Ивана III с Софией Палеолог, расчеты папской курии на то, что московские государи отныне будут считать себя наследниками византийских императоров, не оправдались. Московские государи ни разу не заявили своих прав на императорский титул, несмотря на то, что германский император Максимилиан I сам называл Василия III императором, и ни разу не обнаружили притязаний наследовать права Софии Палеолог на Византию. Пересматривая многочисленные доказательства прав, которые предъявляли московские великие князья на царский титул, мы нигде не найдем ссылок на получение этих прав через брак Ивана III с Софией Палеолог. Обращаясь к восточным патриархам за утверждением царского титула, Иван IV говорит о своем родстве с византийскими императорами, но ни разу не вспоминает своей бабки Софии Палеолог. Не упоминает о родстве московских великих князей с византийскими императорами через Софию Палеолог и официальная литература Москвы XVI в. – «Сказание о князех Владимирских», повести о Мономаховых регалиях и дипломатическая переписка Москвы.
Это молчание официальной литературы XVI в. о правах Московского престола, полученных через брак Ивана III с Софией, находит себе соответствие в той крайней нелюбви народа к Софии, о которой единогласно свидетельствуют летописи, Курбский, Берсень-Беклемишев и даже иностранец С. Герберштейн. В Москве склонны были видеть в Софии царственную сироту, нашедшую себе приют в могущественном государстве, а не могущественную наследницу держанных прав Империи. В Софийской II и Воскресенской летописях, после описания похода Ивана III на Угру, летописец поместил воззвание к потомкам хранить независимость своего отечества. Это воззвание заключалось явным намеком на отца Софии – Фому Палеолога и на его сыновей, один из которых (Андрей) дважды безрезультатно приезжал на Русь торговать правами византийских императоров: «О храбрии, мужественной сынове Русьстии! потщитеся сохранити свое отечество, Русьскую землю, от поганых; не пощадите своих голов, да не узрят очи ваши пленения, и грабленное святым церквем и домом вашим, и убиения чад ваших, ж поругания женам и дщерем вашим. Якоже пострадаша инии велиции славнии земли от Турков, еже Волгаре глаголю к рекомии Греци, и Трализонь, и Амория, и Арбанасы, и Хорваты, и Боша, и Манкуп, и Кафа и инии мнозии земли, иже не сташа мужественней пошбоша и отечьство свое изгубиша н землю и государьство, и скитаются по чюжим странам беднл во истинну и странни, и много плача и слез достойно, укоряема н повоошаеми и оплеваеми, яко не мужествензии… Тако ми бога видех своима очима грешнима великих государь, избегших от Турков со имением и скитающиеся яко странни и смерти у бога просящих яко мздовъздаяния от таковыя беды».164 Ясно, кажется, что «избегшие от турков» и «смерти у бога просящие» родственники византийских императоров не могли упрочить блеск русских государей и что не на родстве с ними основывалась величественная идеология Русского государства.
2
Идею «греческого наследия» внушали русскому правительству не только западные державы. Сами греки, часто приезжавшие на Русь после падения Константинополя, греческие церковные власти, обращавшиеся на Русь за материальной поддержкой, проводили в своих домогательствах ту же «греческую идею». Суть ее в общих чертах заключалась в том, что с гибелью императорской власти в Византии единственным защитником православия и греков остается московский великий князь, к которому и должны были перейти все права и обязанности императора второго Рима – Византии. Греки – турецкие послы всячески стремились расстроить мирные отношения русских с Турцией; так было при султане Селиме и Сулеймане Великолепном. Особенно известен был этой своей изменнической по отношению к Турции политикой турецкий посол, грек по происхождению, Скиндер. Русские требовали смены Скиндера, но греческая партия была сильна в Турции: Скиндер оставался на своем посту и сыграл исключительную роль в провале идеи союза, что подтвердилось после его смены в Москве в 1529 г.
Максим Грек систематически проводил идею освобождения Греции военной силой Русского государства. Он побуждал великого князя тем, что «бог грекам от отеческих престол наследника покажет»,165 т. е. тою же мыслью о правах московских князей на константинопольское наследство.
Не чужда была той же идеи и среда русского духовенства, издавна воспитанная в политических представлениях византинизма. Именно в этой среде, близкой к грекам, зрела с конца XV в. мистическая теория движущегося Рима. Эта теория, возникшая на почве византийской теории всемирной супрематии императора второго Рима (Византии), пыталась перенести на московских государей византийские представления об императорской власти и рассматривала великих князей московских как законных и единственных наследников императоров Вечного Рима.
Суть этой теории сводилась к следующему: в мире существует только одно христианское богоизбранное государство, которое не может пасть до скончания века – Вечный Рим. Но Рим этой теории – не неподвижный Рим, связанный с определенной территорией. Первый Рим пал, уклонившись в нечестие, потеряв чистоту христианской религии; второй Рим – Византия, примкнув в Флорентийской унии к первому, был завоеван турками. Отсюда родилась мысль, что Вечный Рим живет в каком-то новом государстве, оставшемся верным православию. И его искали то в Твери,166 то в Новгороде и, наконец, в Москве, необычайно быстрый рост которой совпал по времени с гибелью Византии. Естественно, что вся всемирно-исключительная роль, которая отводилась в Византии императору второго Рима как защитнику церкви и главе всех христиан, переходила теперь, с падением второго Рима, к главе третьего Рима – великому князю московскому. Эту теорию неоднократно внушали Василию III представители церкви. Дважды ее изложил в своих посланиях к Василию III старец Елеазарова монастыря Филофей, который, соответственно обычному титулу византийских, императоров «святой», называет Василия III167 «освященная глава»168 и применяет к нему другие обычные титулы византийского императора: «браздодержатель святых божиих церквей», «святыя православныя христианскыя веры содержатель» и др.
Видя в Василии III главу всех ромеев, Филофей пишет ему: «един ты во всей поднебесной христианом царь»;169 а в другом послании: «един [есть] православный русский царь во всей поднебесной». Еще резче идея всемирной власти великого князя московского выражена Максимом Греком. Василия III Максим Грек называет «благочестивейший царю не токмо Русии, но всея подсолнечный».170
Однако теория, предложенная Филофеем Василию III, была резко отлична от творческой политической теории, направлявшей меч великокняжеской власти. В противоположность наименованию московских великих князей «едиными государями во всей подсолнечной», официальная терминология точно и определенно называла их великими князьями (или царями) «всея Руси». «Блестящее марево всемирной власти», которое пытались открыть перед московскими государями в заманчивой дали сторонники теории «Москва – третий Рим», никогда не прельщало московское правительство, неуклонно стремившееся к единой близкой и конкретной цели воссоединения «всея Руси».171 Русские великие князья упорно настаивали на своих извечных правах на царство и не желали принимать свой царский авторитет из Византии, позорно утратившей свою независимость. Не по наследству, не по милости греков получили русские монархи царский титул. Русские князья «изначала государи на своей земле». Эти идеи проводятся во всех официальных документах XV–XVI вв. в дипломатической переписке, посланиях, завещаниях, официальных речах и соборных постановлениях.
Не случайно Иван Грозный говорил Поссевину: «Мы верим не в греков, а в Христа; мы получили христианскую веру при начале христианской церкви, когда Андрей, брат апостола Петра, пришел в эти страны, чтобы пройти в Рим, таким образом мы на Москве приняли христианскую веру, в то же самое время как вы в Италии, и с тех пор доселе соблюдали ее ненарушимою».172
Официальная литература московского правительства осталась чужда теории третьего Рима, как осталась она чужда и идее византийского наследства через Софию Палеолог. Мечта о Москве – третьем Риме никогда не была движущей силой московской дипломатии. Недаром Максим Грек упрекал русских в том, что они только «своих си ищут, а не яже вышняго».173
Особенно резкие различия в воззрениях греков и русских на значение царской власти сказались в придворных обрядах, выражавших несходные представления о власти обеих стран. Русские великие князья не назывались «святыми», они не принимали участия в богослужении в качестве духовных лиц, они допускали, чтобы во время обряда венчания на царство рядом с ними сидел митрополит, а впоследствии патриарх. Между тем, в Византии императору троекратно возглашалось «свят» во время обряда венчания, он занимал определенное место в богослужении, как духовное лицо, и в качестве такового благословлял народ и кадил в церкви. Он считался выше патриарха, стоявшего при нем во время обряда венчания. В византийском обряде не было обмена речами между иерархом и монархом. Между тем, в русском обряде венчания митрополит (а впоследствии патриарх) и государь обменивались речами, содержание которых знаменательно: после возглашения клиром многолетия венчанному государю митрополит (или патриарх) поучали царя «о полезных» – об обязанностях царя к Богу, к церкви, к царской власти и по отношению к народу.