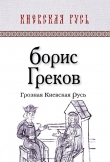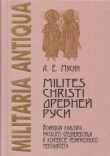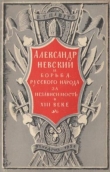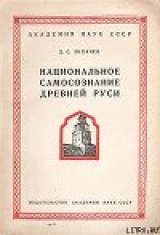
Текст книги "Национальное самосознание Древней Руси"
Автор книги: Дмитрий Лихачев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
За третьею, заключительною частью «Слова» следовала молитва к Владимиру, пронизанная тем же патриотическим подъемом, патриотическою мыслью. «И донелиже стоит мир, – обращался Иларион в ней к Богу, – не наводи на ны [т. е на русских] напасти искушениа, ни предай нас в рукы чуждиих [т. е. врагов], да не прозовется град твой [т. е. Киев] град, пленен, и стадо твое [т. е. русские] пришельцы в земли не своей».72
Итак, истинная цель «Слова» Илариона не в догматико-богословском противопоставлении Ветхого и Нового Заветов, как думали некоторые его исследователи.73 По выражению В. М. Истрина – это «ученый трактат в защиту Владимира».74 Иларион прославляет Русь и её «просветителя» Владимира.
Византийской теории вселенской церкви и вселенской империи Иларион противопоставил свое учение о равноправности всех народов, свою теорию всемирной истории, как постепенного и равного приобщения всех народов к культуре христианства.
Широкий универсализм характерен для произведения Илариона. История Руси и ее крещение изображены Иларионом как логическое следствие развития мировых событий. Чем больше сужает Иларион свою тему, постепенно переходя от общего к частному, тем выше становится его патриотическое одушевление.
Таким образом, все «Слово» Илариона от начала до конца представляет собой стройное и органическое развитие единой патриотической мысли. Впоследствии своим принятием сана митрополита без санкции Константинополя, единственно по выбору русских епископов, Иларион практически выступил против гегемонии Византии, доказывая, что русская церковь – церковь свободы, а не рабства, а Киев равноправен Константинополю.
4
А. А. Шахматов установил ту связь, которая существовала между началом русского летописания и построением Софии Киевской.75 Аналогичную связь можно установить между «Словом» Илариона и Софией. Архитектура эпохи Ярослава входит, как существенное звено, в единую цепь идеологической взаимосвязи культурных явлений начала XI в.
«Слово» Илариона составлено между 1037 и 1050 гг… М. Д. Приселков сужает эти хронологические вехи до 1037–1043 гг., считая, и, повидимому, правильно, что оптимистический характер «Слова» указывает на его составление до несчастного похода Владимира Ярославича в 1043 г.76
Трудно предположить, что «Слово» Илариона, значение которого равнялось значению настоящего государственного акта, государственной декларации, было произнесено не в новом, только что отстроенном Ярославом центре русской самостоятельной митрополии – Софии. «Слово», несомненно, предназначалось для произнесения во вновь отстроенном храме, пышности которого удивлялись современники. Против произнесения «Слова» в Десятинной церкви, как уже было отмечено исследователями, свидетельствует то место «Слова», где Иларион, говоря о Владимире, упоминает Десятинную церковь, в качестве посторонней: «Добр послух благоверью твоему [Владимира], о блажениче, святаа церкы, святыя богородица Мария… идеже мужьственное твое тело лежит».77 Присутствие Ярослава и жены его Ирины на проповеди Илариона, отмеченное в «Слове»,78 прямо указывает на Софию, как на место, где было произнесено «Слово» Илариона. Ведь именно София была придворной церковью, соединяясь лестницей с дворцом Ярослава.79 Именно здесь, в Софии, мог найти Иларион то «преизлиха» насытившееся «сладости книжной»80 общество, для которого, как он сам говорит в «Слове», он предназначал свою проповедь. Ведь именно Софию Ярослав сделал центром русской книжности, собрав в ней «письце мъногы» и «кънигы мъногы».81
Если «Слово» было действительно произнесено в Софии, тонам станут понятны все те восторженные отзывы о строительной деятельности Ярослава и о самой Софии, которые содержатся в «Слове». Иларион говорит о Софии, что подобного ей храма «дивна и славна»… «не обрящется в всем полунощи [севере] земном, от востока до запада».82
Можно и еще более уточнить место произнесения проповеди Илариона. «Известно, что в Византии царь и царица в своих придворных церквах слушали богослужение, стоя на хорах, царь на правой, а царица на левой стороне».83 Можно считать установленным, что на Руси этот обычай существовал до середины XII в. Здесь на хорах князья принимали причастие, здесь устраивались торжественные приемы, хранились книги и казна. Вот почему до тех пор, пока на Руси держался этот обычай, хоры в княжеских церквах отличались обширными размерами, были ярко освещены и расписаны фресками на соответствующие сюжеты. Очевидно, что именно здесь на хорах и было произнесено «Слово» Илариона, в присутствии Ярослава, Ирины и работавших здесь книжников.
Росписи Софии и, в частности, ее хоров, представляют собой любопытный комментарий к «Слову» Илариона.
К X и XI вв. росписи храмов выработались в сложную систему изображения мира, всемирной истории и «невидимой церкви». Весь храм представлялся как бы некоторым микрокосмосом, совмещавшим в себе все основные черты символического христианско-богословского строения мира. Это в особенности следует сказать и о храме Софии Киевской. Фрески и мозаики Софии воплощали в себе весь божественный план мира, всю мировую историю человеческого рода. Эта история человечества обычно давалась в средние века как история Ветхого и Нового Заветов. Противопоставление Ветхого и Нового Заветов – основная тема росписей Софии. Оно же – исходная тема и «Слова» Илариона. Следовательно, произнося свою проповедь, Иларион непосредственно исходил из темы окружающих изображений. Фрески и мозаики киевской Софии могли наглядно иллюстрировать проповедь Илариона. Росписи хоров представляют собой в этом отношении особенное удобство. Именно здесь на хорах были те сцены Ветхого Завета, персонажи которых подавали наибольший повод для размышлений Илариона: «встреча Авраамом трех странников», «гостеприимство Авраама», а также «жертвоприношение Исаака». Своими словами «яко человек иде на брак в Кана Галилеи, и яко бог воду в вино преложи»84 Иларион мог прямо указать два противостоящие друг другу изображения, символически поясняющие чудо на браке в Кане, претворение воды в вино, и рядом вечерю Христа с учениками по воскресении.
Для средневековой проповеди было типично исходить из такого символического толкования устройства церкви, ее названия в честь того или иного события, божества, святого; из символического толкования находящихся в ней изображений. В той же проповеди Илариона имеется символическое толкование основания церкви Благовещения на Киевских Золотых воротах в прямом отношении к будущей судьба Киева. Название церкви Благовещения на Золотых воротах, по мнению Илариона, символично. Подобно тому, как архангел Гавриил дал целование девице, т. е. деве Марии, – «будет и граду сему» (т. е. Киеву). К деве Марии архангел обратился со словами: «радуйся, обрадованная, Господь с тобою»; к городу же Киеву через эту церковь архангел также как бы обращается со словами: «радуйся, благоверный граде, Господь с тобой».85 Таким образом, Иларион символически и патриотически толкует название церкви Благовещения; так же символически толкует Иларион и росписи Софии, тема которых становится основным исходным моментом его «Слова». Благодаря этому вся проповедь Илариона сильно приобретала в доказательности.
5
В средние века отвлеченные понятия очень часто отождествлялись с их материальными воплощениями. Нередко самые отвлеченные идеи представлялась грубо натуралистическими. Средневековые миниатюристы и иконописцы изображали душу Марии в композиции Успения в виде спеленутого ребенка, ад – в виде морского чудовища, реку Иордан – в виде старца и т. д. Аналогичным образом смешивались отвлеченное понятие церкви и самое церковное здание – строение. «Натуралистическое» понимание понятия церкви как организации было широко распространено и на Западе и в самой Византии. Так, например, девятый член Символа веры: «Верую во едину святую, соборную и апостольскую церковь», очень часто иллюстрировался миниатюристами изображением церковного здания с епископом, совершающим внутри его евхаристию. Такое «натуралистическое» понимание церкви, как организации, мы встречаем и у Даниила Заточника, изменившего сообразно этому своему представлению даже текст Писания: «Послушайте, жены, апостола Павла глаголяща: крест [вм. правильного «Христос»] есть глава церкви, а муж жене своей».86
Втечение многих веков русские, говоря о Иерусалимской церкви, как о патриархии, имели в виду храм Воскресения в Иерусалиме. Так, например, митрополит Феодосий писал в своем послании 1464 г.: «Сион всем церквам глава, мати суще всему православию».87
Аналогичным образом на Руси: постоянно отождествлялась константинопольская патриархия с константинопольским храмом Софий. Именно поэтому в захвате Константинополя турками и в последующем обращении храма Софии в мечеть русские увидели падение греческой церкви, падание константинопольской патриархии и перестали признавать константинопольского патриарха, а признали Иерусалимскую церковь [т. е. храм-Воскресения] главой всех православных церквей.88
Такое же точно натуралистическое смешение понятия церкви, как организации, с храмом было свойственно и эпохе Ярослава. Сам Иларион отождествлял эти два термина. В своем «Исповедании» Иларион говорит: «К кафоликии и апостольской церкви притекаю, с верою вхожду, с верою молюся, с верою исхожду».89
Вот почему и в летописи сказано о Ярославе: «заложи же и цркъвь святыя София, митрополию».90
Итак, строя храм Софии в Киеве, Ярослав «строил» русскую митрополию, русскую самостоятельную церковь. Называя вновь строящийся храм тем же именем, что и главный храм греческой церкви, Ярослав как бы бросал ей тем самым вызов, претендуя на равенство русской церкви греческой. Самые размеры и великолепие убранства Софии становились прямыми «натуралистическими» свидетельствами силы и могущества, русской церкви, ее прав на самостоятельное существование. Отсюда ясно, какое важное политическое значение имело построение киевской Софии – русской «митрополии», а вслед за ней и Софии Новгородской.
Торжественное монументальное зодчество времени Ярослава, четкая делимость архитектурного целого, общая жизнерадостность внутреннего убранства, обилие света, продуманная система изобразительных композиций, тесно увязанных с общими архитектурными формами, – все это было живым, «натуралистическим» воплощением идей эпохи, широких и дальновидных, надежд лучших людей того временя на блестящее будущее русского народа. Отождествление русской церкви с храмом Софии Киевской вело к обязательному подчинению всей архитектуры вновь отстраивавшегося храма – патрональной святыни Русской земли – идее независимости русского народа, идее равноправности русского народа народу греческому.
Вот почему, исходя в своем патриотическом «Слове» из самой системы росписей Софийского собора, изображавших всемирную историю в ее средневековом истолковании, как историю Ветхого и Нового Заветов, Иларион вооружал свою проповедь чрезвычайно существенною для средневекового сознания силою доказательности. Начиная свою проповедь с темы росписей Софии, Иларион имел в виду не только ораторский эффект, не только придание своей речи наглядности, не только иллюстрирование ее имеющимися тут же изображениями, а убеждение слушателей теми реальными, материальными, «каменными» аргументами, которые имели особенное значение для склонного к «натурализму» средневекового мышления. Кроме того, Иларион вводил тем самым традиционную тематику мозаичных и фресковых изображений Киевской Софии в общую идеологию своей эпохи, заставляя «работать» изобразительное искусство Софии на пользу Руси и русского государства.
Итак, русская литература эпохи Ярослава, русская историческая мысль, русская архитектура, русское изобразительное искусство этого периода были подчинены общей задаче: утвердить равноправие русского народа среди других народов мира.
6
Первая русская летопись и «Слово» Илариона явились блестящим выражением того народно-патриотического подъема, который охватил Киевское государство в связи с общими культурными успехами Руси. Оптимистический характер культуры этого периода позволил даже говорить об особом характере древнерусского христианства, якобы чуждого аскетизма, жизнерадостного и жизнеутверждающего. Академик Н. К. Никольский писал, что «при Владимире и при сыне его Ярославе русское христианство было проникнуто светлым и возвышенным оптимизмом мировой религии».91 М. Д. Приселков выступил с гипотезой, где объяснил происхождение этого жизнерадостного христианства (струя которого прослеживалась им и за пределами княжения Ярослава) особым характером болгарского христианства X–XI вв., передавшегося на Русь через Охридскую епископию.92 Этим оптимистическим характером отличались Древнейший Киевский летописный свод и «Слово» Илариона. Тою же верою в будущее русского народа были продиктованы и грандиозное строительство эпохи Ярослава и ее великолепное изобразительное искусство. Общие черты византийской архитектуры этой эпохи – четкая делимость архитектурных масс, обширные внутренние пространства, обилие света, конструктивная ясность целого, роскошь внутреннего убранства, тесная увязка мозаики и фресок с архитектурными формами – пришлись, как нельзя более кстати, к жизнерадостному духу, русской культуры времени Ярослава.
Эта культура впоследствии вошла, как определяющая и важнейшая часть, во всю культуру Древней Руси: свод Ярослава лег в основу всего последующего русского летописания, определив его содержание и стиль; «Слово» Илариона получило широкую популярность и отразилось не только во многих: произведениях древнерусской письменности, но и в письменности славянской. «Слово» Илариона и, в особенности, две последние, наиболее патриотические части его отразились в похвале Владимиру в Прологе (XII–XIII в.), в Ипатьевской летописи (похвала Владимиру Васильковичу и Мстиславу Васильковичу), в житии Леонтия Ростовского (XIV–XV в.), в произведениях Епифания Премудрого (в житии Стефана Пермского) и др. «Слово» Илариона созвучно даже народному творчеству. Та часть «Слова», где Иларион обращался к Владимиру с призывом встать из гроба и взглянуть на оставленный им народ, на своих наследников, на процветание своего дела, близка к излюбленной схеме народных плачей о царях (о Грозном, о Петре). Наконец, за русскими пределами «Слово» Илариона отразилось в произведениях хиландарского сербского монаха Доментиана (XIII в.) – в двух его житиях: Симеона и Саввы.93 Молитва Илариона, заканчивавшая собою «Слово», повторялась во все наиболее критические моменты древнерусской жизни. Строки ее, посвященные мольбе за сохранение независимости Русской земли, произносились в наиболее грозные годины вражеских нашествий.
Архитектура эпохи княжения Ярослава так же, как и книжность, была обращена к будущему Русской земли. Грандиозные соборы Ярослава в Киеве, в Новгороде и в Чернигове были задуманы как палладиумы этих городов. София Киевская соперничала с Софией Константинопольской. Замысел этой Софии был также проникнут идеей равноправности Руси Византии, как и вся политика эпохи Ярослава, основанная на стремлении создать свои собственные, независимые от Империи центры книжности, искусства, церковности. Не случайно, думается, София в Киеве, церковь Спаса в Чернигове, София в Новгороде остались самыми крупными и роскошными церковными постройками в этих городах на всем протяжении русской истории до самого XIX в. София Новгородская никогда не была превзойдена в Новгороде, ни в своих размерах, ни в пышности своего внутреннего убранства, ни в торжественно-монументальных формах своей архитектуры.
Знаменательно, что вся культура эпохи Ярослава, все стороны культурной деятельности первых лет XI в. проходят под знаком тесного взаимопроникновения архитектуры, живописи, политики, книжности.
7
При Ярославе высоко вырос международный авторитет Киевского государства. Русь выступает на страницах западноевропейских исторических документов не как отсталая, варварская страна, а как равноправное государство. Об этом же свидетельствуют обширные политические связи Киевской Руси со всеми европейскими государствами. Сам князь Ярослав Мудрый был связан со всеми дворами Европы. Он был женат на Ингигерде, дочери шведского короля Олафа. Старшая дочь его была замужем за французским королем Генрихом I и была одно время регентом Франции при своем малолетнем сыне Филиппе I. Вместе со своим несовершеннолетним сыном она подписывала французские государственные документы. Средняя дочь Анастасия была 'замужем за венгерским королем Андреем I. Сын Ярослава Всеволод был женат на греческой царевне Анне; он был высоко образован и владел пятью иностранными языками. Сын Изяслав был женат на сестре польского короля Казимира. Упорно добивался руки дочери Ярослава Елизаветы знаменитый викинг Гаральд Строгий, впоследствии норвежский король, подвиги которого гремели по всей Европе.
Внешний облик Киева, его замечательное искусство, развитие ремесел, обширная мировая торговля соответствовали при. Ярославе международному авторитету Киевского государства, его обширным связям со странами Востока и Запада.
III
ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУСИ В ГОДЫ КНЯЖЕНИЯ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА
Одно из самых значительных явлений русской средневековой культуры – летописание. Политически острая летопись постоянно служила ориентиром в политической жизни городов, княжеств, областей. В летописи скрещивались вое важнейшие идейные течения Руси, в нее вносились наиболее важные документы (договоры, завещания князей, послания) и лучшие исторические литературные произведения.
Возникнув во второй четверти XI в., при Ярославе Мудром, летописание сразу же достигает высоких ступеней развития. Древнейший Киевский свод Ярослава Мудрого и последующие Киево-Печерокие своды 1073 и 1093 гг. были, насколько возможно о них судить по сохранившимся в позднейших летописях фрагментам, произведениями государственного размаха и огромной идейной силы.
1
Попытка Ярослава создать вокруг Софии Киевской прочный оплот русского просвещения не удалась. Вслед за русским митрополитом Иларионом, Константинополь снова присылает митрополита – грека. Центр русского просвещения передвигается со второй половины XI в. в Киево-Печерский монастырь, где получали образование первые русские епископы и попы и где книжность и литература нашли себе до поры до времени надежное пристанище.
Первая переработка Древнейшего Киевского свода была произведена около 1073 г. монахом Киево-Печерского монастыря Никоном, книжная деятельность которого оказалась особо отмеченной впоследствии в житии Феодосия. Никон был в свое время (в конце 1060-х годов) сослан в Тмутаракань. Отсюда в своде ряд тмутараканских известий и преданий: о поединке черкеса-касога Редеди с Мстиславом (эпизод этот упомянут в «Слове о полку Игореве»), о хозарской дани и др. Использование фольклора Причерноморья привело к переработке рассказа Древнейшего свода о крещении Руси. Никон ввел в свод так называемую «Корсунскую легенду», рассказывавшую о крещении Владимира не в Киеве, а в Корсуни (Херсонесе), в Крыму, в результате победы, одержанной им над греками.94
Настроение торжества по поводу водворения нового порядка и христианства, которое охватывало целиком Древнейший свод, сменяется у Никона в новых политических обстоятельствах второй половины XI в, тревогой за судьбу родины, раздираемой феодальными междоусобиями.
Свои политические устремления Никон осторожно выразил, поместив в свод завещание Ярослава Мудрого (произведение, возможно, написанное не Ярославом). В нем Ярослав просит своих сыновей быть «в любви межю собой» и не погубить «землю отець своих и дед своих, иже налезоша трудомь своимь великымъ».95
Свод Никона был подвергнут основательной переработке в 1093 г. В атом своде окончательно оформилась центральная часть летописи в том ее виде, в каком она вошла впоследствии в «Повесть временных лет». Это и позволило исследователям летописания назвать свод 1093 г. «Начальным».
Начальный свод проникнут тем же настроением тревоги за судьбу родины, что и предшествующий ему свод Никона. Междоусобия князей приняли к этому времени такой характер, что летописцу приходилось не только призывать к прекращению распрей, но обосновывать и само единство княжеского рода. О этой целью в свод внесена легенда о призвании трех братьев-варягов. Легенда эта заимствована, повидимому, из новгородской летописи, где живы были еще предания о приглашении наемных дружин варягов. Предания эти оказались трансформированы под воздействием эпических мотивов, сильно распространенных и на Западе и на Востоке, о трех братьях – основателях городов, и под влиянием ходячих средневековых легенд о происхождении правящей династии из иноземных государств.
Замечательною особенностью Печерского Начального свода 1095 г. было использование для его составления Новгородской летописи. Киевское летописание становилось, таким образом, общерусским, не только по идее, но и по исполнению.
В обстановке упадка Киевского государства Начальный свод вступил на путь идеализации старых времен и старых князей, которые как бы противопоставлялись и ставились в пример новым. Ратную доблесть и неутомимость в походах больше всего ценит летописец в первых русских князьях. На основании старых дружинных песен летописец вставил в свой свод известную характеристику Святослава – описал его суровый образ жизни, предприимчивость, подвижность и рыцарское прямодушие, с которым он предупреждал о. себе врагов, ввел его энергичные обращения к дружине перед битвами и т. д.
Побуждая князей к активной политике против степи, летописец в полных трагизма и скорби словах повествует о хищных набегах половцев, разорявших Русскую землю, толпами уводивших в рабство население сел! и городов. Печальные, с осунувшимися лицами, с ногами в путах, гонимые «незнаемою страною»,96 мучимые жаждою и голодом пленники со слезами говорили друг другу: «аз бех сего города», «аз сея вси» (села).
Летописец Начального свода принадлежал к тем «смысленным мужам», которые видели несчастье Русской земли в распрях князей, головой пробивавших себе дорогу к Киевскому столу, и не раз обращались к князьям с призывом: «почто вы распря имате межи собою, а погании [язычники – степные народы] губять Землю Русьскую».97