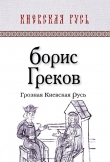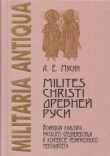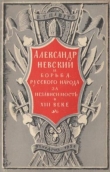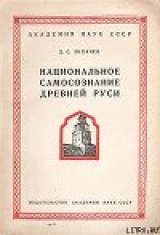
Текст книги "Национальное самосознание Древней Руси"
Автор книги: Дмитрий Лихачев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
2
Бесспорно одна из лучших русских летописей – «Повесть временных лет», составленная в 1110–1118 гг.
В предшествующий созданию «Повести» период, на рубеже XI и XII вв., Киевская Русь испытывает на себе наиболее тяжкие удары кочевников, ставшие жесточайшим народным бедствием. Степные кочевники – половцы – делают отчаянную попытку прорвать оборонительную линию земляных валов, которыми Русь огородила с юга и юго-востока свои степные границы, и осесть в пределах Киевского государства. В 1096 г. половецкий хан Боняк чуть не ворвался в Киев, ограбил и разорил Печерский монастырь, когда монахи спали по кельям. Теснимая с севера половцами и печенегами, а с моря турецким флотом с Чахой во главе, союзная Киеву Византия была бессильна предотвратить грозившую ей самой опасность.
В этот тяжелый период русской истории в Киевской Руси консолидируются силы, стремящиеся к решительному нажиму на степь. Подъем этот (совпадает с освободительным движением в Испании против господства мавров и с общим движением в Европе на Восток в отпор наступающим туркам, прервавшим европейскую торговлю с Азией. Русь, составлявшая левый фланг европейской обороны против напора кочевых и полукочевых народов, полукольцом охвативших Европу, объединяется под властью Владимира Мономаха и переходит от пассивной обороны к активному наступлению на степь. Степные походы Мономаха сбивают волну половецких набегов и спасают самую Византию от гибели.
Именно в это время составляется замечательный памятник русского летописания – «Повесть временных лет», вся проникнутая единой мыслью о Русской земле, о ее защите, о необходимости единения перед лицом внешней опасности.
«Повесть временных лет» одновременно завершает целый период киевского летописания и вместе с тем является основой всех последующих летописаний, начало которых она, обычно, составляет.
История создания величайшего памятника русского летописания – «Повести временных лет» – чрезвычайно сложна и запутана. Здесь сказалась работа целых поколений русских книжников, сказались сложные искания исторической мысли, сложное мировоззрение, в котором боролись аскетические монашеские настроения с реальными запросами русской жизни. Многочисленные литературные источники устные и книжные, русские и иноземные, язык «Повести», то просторечный, близкий к разговорному, то книжный, пересыпанный славянизмами и грецизмами, легли в основу этого грандиозного творения. В создании «Повести» принимали участие две литературные школы – Киево-Печерская и Выдубецкая, по-разному понимавшие свои задачи, но удачно сложившие свои силы в произведении, отличающемся убедительной законченностью, цельностью архитектоники.
В 1110 г. монах Печерского монастыря Нестор переработал Начальный свод 1095 г. К новому своду Нестор привлек византийский исторический материал – хронику Георгия Амартола и его продолжателя, затем компилятивный «Хронограф по великому изложению» и др.
Нестор связал русскую историю с мировой, придал ей центральное значение. Программа летописца и его задачи точно сформулированы в самом названии «Повести»: «Се повести временных лет, откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуда Русская земля стала есть». Показать Русскую землю в ряду других европейских стран, доказать, что русский народ не без роду и племени, что он имеет свою историю, которой вправе гордиться, – такова замечательная по своему времени цель составителя «Повести». «Повесть временных лет» должна была напомнить князьям о славе и величии родины, о мудрой политике их предшественников и об исконном единстве Русской земли. Задача эта выполнена летописцем с необыкновенным тактом и художественным чутьем. Широкий замысел сообщил спокойствие и неторопливость рассказу летописца, целеустремленность и твердость его суждениям, художественное единство и монументальность всему произведению в целом.
Начало «Повести временных лет» посвящено событиям всемирной истории, предшествующим сложению Киевского государства. Летописец вводит Русь на мировую историческую арену, сообщая самые разнообразные сведения – географические, этнографические, культурно-исторические. Неторопливо раскрывает летописец ту историческую обстановку, в которой родилось Русское государство, рассказывает сперва о народах мира, затем о древнейших судьбах славянского племени и «словенского» языка. Просто и наглядно дает летописец географическое описание Руси, путей, связывающих ее с другими странами, с замечательной последовательностью начиная свое описание с водораздела рек Днепра, Западной Двины, Волги. Далее летописец описывает древнейший быт русских племен, рассматривая их как единый народ, и не забывает при этом упомянуть о соседящих с ними мере, черемисах, муроме и мордве.
Летописец обращает внимание на происхождение русского языка, как на главный признак русской народности. Он выступает первым в русской истории и в истории славянства вообще защитником идеи общеславянского единства: «бе бо един язык Словеньск; а Словеньск язык и Русьскыи един есть…, аще и поляне зъвахуся, но Словеньска речь бе; полями же прозъвашася, зане в поли седяху, а язык Словеньск бысть им един».98
Чтобы придать особую значительность христианскому просвещению на Руси, составитель «Повести» включил в нее легенду о путешествии апостола Андрея через Русскую землю. Андрей благословил Киевские горы, а в Новгороде посмеялся банному обычаю: «како ся мыють и хвощются [хлещутся] младыми прутьями» и обливаются «квасом уснияным».99 «И того ся добьють, егда влезуть ли живи и облеются водою студеною и тако оживуть. И то творять мовение себе, – прибавляет Андрей, – а не мучение».100 В этом сочетании торжественного с комическим проявился подлинный художественный Темперамент летописца, не боящегося заставить апостола произносить каламбуры.
Собственно русскую историю летописец дополнил договорами русских с греками, взятыми им из княжеского архива, включил легенду о сожжении Ольгой Искоростеня, о белгородском киселе и др.
Обильно отразились в «Повести» произведения устного народного творчества. С русскими былинами роднит «Повесть» главным образом основная, общая им тема – оборона Русской земли от восточных кочевников. Так же, как и русские былины, летописец воспевает богатырство, силу, доблесть и подвиги русских воинов. Поединщики-богатыри по-былинному решают в летописи исход войны единоборством перед войсками. Один из редких подвигов былинного характера отразился в летописном рассказе о поединке юноши-кожемяки с печенежским богатырем перед лицом двух войск – русского и печенежского.
Летопись рассказывает, как русские, вызванные на единоборство, тщетно искали поединпщка, который смог бы противостать печенежскому богатырю, как затем начал «тужить» князь Владимир и как, наконец, объявился некий старый муж я сказал Владимиру: «Князь, есть у меня один сын – меньшой – дома; с четырьмя вышел я сюда, а тот дома остался. Из детства никто еще не мог его победить: однажды я его журил, а он мял кожу, так в сердцах он разорвал ее руками». Услышав это, князь Владимир обрадовался и послал за младшим сыном старика, кожемякой. Приведенный к князю, неказистый на вид, юноша просит предварительно испытать его и привести ему большого и сильного быка. Быка привели, раздразнили его горячим железом и пустили бежать. Когда бык бежал мимо, юноша-кожемяка схватил быка рукой за бок и вырвал ему кусок кожи с мясом. Видя это, Владимир разрешил юноше бороться с печенежским богатырем.
На следующее утро печенеги выпустили своего превеликого и страшного богатыря, а русские – своего. Увидел его печенежин и посмеялся, потому что русский богатырь был мал ростом. Полки размерили место для поединка, и богатыри сошлись. Юноша-кожемяка так сильно сжал печенежина руками, что удавил его и бросил его на землю. Раздался крик в полках, и устрашенные печенеги бежали. Обрадованный Владимир заложил на месте поединка город, а скромного кожемяку сделал «великим мужем».101
В этом рассказе «Повести» впервые отразилась мысль, ставшая затем излюбленным мотивом русской литературы вплоть до наших дней, о скромности настоящего героизма, о силе народного духа в незаметных внешне героях (Пушкин, Лермонтов, Л. Толстой, Достоевский и др.). Невысокий ростом ремесленник, пятый сын своего отца, которого даже не берут в поход, а оставляют дома, побеждает превеликого и страшного богатыря-печенежина, против которого не решался выйти никто из профессионалов-воинов.
Спустя короткий срок, в 1116 г., потребовалась новая переработка летописи. Причина, побудившая к этой переработке, заключалась в том, что «Повесть», торжественная и патетичная вначале, не давала ответов на вопросы современной ей политики в известиях, касавшихся княжения Владимира Мономаха.
На этот раз летописание было перенесено по воле Мономаха в Выдубецкий Михайловский монастырь, державшийся политической ориентации Мономаха. Сторонник Мономаха – игумен Сильвестр – особенно придирчиво переработал последние летописные статьи с 1093 г. по 1110 г., идеализировал Мономаха за его походы на половцев, за властную политику, за ум, за смелость и заботу об общенародных интересах.
Сильвестр не скупится приводить программные речи Мономаха, в которых последний призывал к единству Руси, к твердому отпору наступающей степи: «Почто губим Русьскую Землю, сами на ся котору деюще, а Половци землю нашу несуть розно и ради суть, иже межю нами рати; да ноне отселе имемся в едино сердце и блюдем Рускые земли».102 C сочувствием передает Сильвестр возражения Мономаха дружине, не хотевшей итти в поход на степь, чтобы не губить по весенней распутице лошадей смердов: «дивно ми, дружино, – говорит им Мономах, – оже лошадий жалуете, ею же кто ореть [пашет]; а сего чему не промыслите, оже то начнеть орати [пахать] смерд, и приехав половчин ударить и [его] стрелою, а лошадь его поиметь, а в село его ехав иметь жену его и дети его, и все его именье. То лошади жаль, а самого не жаль ли».103
С тою же целью возвеличения общенародных устремлений Мономаха введен в «Повесть» драматичный рассказ попа Василия об ослеплении в междоусобной борьбе с родичами князя Василька Теребовльского. Множество бытовых подробностей и реалий делает этот рассказ одним из самых живых в летописи киевского периода. С потрясающей силой развертывает рассказ Василия картину феодальных раздоров. Подробно и не торопясь повествует поп Василий, как заманили Василька на именины, как постепенно оставили ею одного в комнате, как схватили и везли затем на телеге в Белгород, где бросили в «истобку [избу] малу». Оглядевшись Василько догадался, что хотят с ним сделать, стал кричать и плакать. Вошли конюхи, разостлали ковер и хотели повалить на него Василька. Василько отчаянно отбивался. Конюхи позвали подмогу. Василька схватили и связали, а затем сняли с печи доску, положили ему на грудь и сели по концам. Но Василько и тут сопротивлялся так отчаянно, что сняли с печи и вторую доску и придавили ею «яко персем троскотати [трещать]». Кончив точить, нож, овчарь Святополка подошел и ударил им в глаз Василька, но сначала промахнулся и перерезал ему лицо: «И есть рана та Василька и ныне».104 «По семь же вверте ему ножь в зеницю и изя зеницю, по сем в другое око въврьте ножь и изя другую зеницю».105 Ослепленного, едва живого Василька снова взвалили на телегу я повезли во Владимир Волынский. Трогателен путевой эпизод с окровавленной сорочкой Василька, которую ослепители, остановясь для обеда в Воздвиженске, дали постирать попадье.
«Сего не бывало есть в Русьскей земьли ни при дедех наших, ни при отцих наших, сякого зла»,106 – сказал ужаснувшийся при известии об ослеплении Василька Владимир Мономах и послан за Давидом и Олегом Святославичами сказать: «поидета к Городцю, да поправим сего зла, еже ся створи се в Русьскей земьли и в нас, в братьи, оже ввержен в ны ножь: да аще сего не правим, то болшее зло встанеть в нас, и начнетъ брат брата закалати, и погыбнетъ земля Руская, и врази наши, половци, пришедше возмуть земьлю Русьскую».107
Сознание необходимости единения перед лицом внешней опасности, возмущение моральной низостью современных летописцу русских князей, их раздорами, составляют основную мысль летописи в описании феодального разброда конца XI в. Не было «сякого зла» в Русской земле, не такие были русские князья в прежние времена, не разоряли они населения поборами, обороняли Русскую землю, советовались во всем со своей дружиной, в ладьях на холстинных парусах ходили на самую Византию, гнушались золотом и паволоками, любя одно оружие. «Отци ваши и деди ваши трудом великим и храбрьством, побарающе по Русьской земли, ины земли приискываху, а вы хочете погубити землю Русьскую»,108 – в этом обращении к русским князьям в 1097 г. ключ к историческим воззрениям на события своего времени составителя «Повести временных лет». Есть и сейчас князья, подобные древнему Святославу – это Владимир Мономах; его держитесь, как бы хочет сказать выдубецкий летописец.
Своим призывом на борьбу со степью, к прекращению междоусобий и к сплочению вокруг Владимира Мономаха выдубецкий летописец внес последний штрих в «Повесть временных лет», сделав ее цельным и законченным произведением, отразившим глубокое понимание национальных задач и точно отвечавшим политическим запросам своего времени.
Впоследствии, когда составлялись новые летописи, «Повесть временных лет» всегда переписывалась в их начале. «Повесть» как бы служила политическим введением к разного рода городским, княжеским, митрополичьим летописям и идеи ее (идеи защиты родины) резко отражались в последующем летописании. В тяжкие годы татаро-монгольского ига бесчисленные списки «Повести временных лет», открывавшие собою местные, городские и княжеские летописи, напоминали русскому народу о временах его независимости, о былом могуществе его родины, о необходимости объединения для борьбы о грозным степным врагом. Призывы «Повести» к борьбе со степными кочевниками – половцами – воспринимались в те годы как призывы к борьбе с татарами и сыграли значительную роль в пропаганде идеи свержения татаро-монгольского ига на Руси.
Такова была замечательная русская летопись, созданная по повелению Владимира Мономаха.
3
Богатое разнообразными литературными фактами время Владимира ярче всего характеризуется произведениями самого Мономаха– талантливого и начитанного писателя.
Сохранившееся в единственном списке Лаврентьевской летописи 1377 г. «Поучение» Мономаха (в испорченном состоянии) распадается на два произведения: «грамотицу» Мономаха к своим детям («поучение» в собственном смысле этого слова)и послание Мономаха к князю Олегу Святославичу черниговскому, в котором он оплакивает своего сына Изяслава, убитого в 1096 г. под Муромом в сражении с войсками этого Олега, и просит отпустить захваченную им сноху – вдову Изяслава.
Идеологическое содержание «Поучения» Мономаха не ограничивается призывом сыновей и всех, «кто прочтет» его «Поучение», к единению, к прекращению междоусобий, к соблюдению общенациональных интересов. Идея борьбы с братоубийственными междоусобиями заключена была еще в завещании Ярослава I: «имейте в себе любовь, понеже вы есте братья единого отца |и матере». Мономах дает в автобиографической части своего «Поучения» образ мужественного, деятельного, смелого, неутомимого правителя, горячего печаловника о Русской земле, который «ночь и день, на зною и на зиме, не дал себе упокоя». Мономах приглашает заботиться о смерде, о челяди, о «хрестьяных душах» и «убогих вдовицах», призывает к строгому соблюдению крестных целований, осуждает междоусобия и особенно пользование военной помощью чужеземцев, поляков и половцев, которых наводили князья на Русскую землю для решения своих династических споров. «Не вдавайте сильным погубити человека», – пишет Мономах в «Поучении» и, вместе с тем, приглашает не лениться в учении, не лениться в дому своем и на молитве, не лениться «на войне и на ловех».
«На войну вышед, не ленитеся, не зрите на воеводы; ни питью, ни еденью не лагодите [не предавайтесь], ни спанью; и стороже сами наряживайте, и ночь, отвсюду нарядивше около вои, тоже лязите, а рано встанете; а оружья не снимайте с себе вборзе, не разглядавше ленощами, внезапу бо человек погыбает».109 Таков своеобразный воинский устав Мономаха.
Политическая программа Мономаха находит себе объяснение в событиях его времени. Мономах в общенародных интересах энергично стремился к смягчению феодальной эксплоатации, достигшей в конце XI в. чрезвычайно жестких форм, к установлению на Руси твердой и единой великокняжеской власти и к активному наступлению на степь.
Свой образ князя-патриота Мономах дополнил личным примером. Мономах описывает в «Поучении» свои «пути» и «ловы», т. е. военные и охотничьи подвиги, всюду, наряду с христианским идеалом воздержания от греха, молитвой, уважением к старшим и духовным лицам, проповедуя идею деятельной, жизни, неустанного труда на пользу родины, отваги и энергичной защиты интересов своего народа. «А из Чернигова до Киева нестишь [около 100 раз] ездих ко отцю, днем есмь переездил до вечерни; а всех путий [походов] 80 и 3 великих, а прока [прочих] не испомню меньших. И миров есм створил с половечьскыми князи без единого 20… А се тружахъся ловы дея… конь диких своима рукама связал есмь в пущах 10 и 20… Тура мя 2 метала на розех и с конем, олень мя один бол… вепрь ми на бедре мечь оттял… лютый зверь скочил ко мне на бедры и конь со мною поверже…».110
Реальным изображением княжеского поведения – походов, сражений, охот, заключений договоров, каждодневного, неустанного соблюдения народных интересов и т. д. – Мономах дополнил свои патриотические наставления, дал нарочитый образец для подражания.
Мономах не стремился составить в своем поучении законченную автобиографию или законченный автопортрет, а передавал лишь цепь примеров из своей жизни, которые он считал поучительными и в которых постоянно акцентируется им общественно-идейная сторона. В этом уменье выбрать из своей жизни то, что представляло не личный, а гражданский, общенациональный интерес, заключается замечательное своеобразие автобиографии Мономаха, резко противоположной эгоцентрической автобиографий протопопа Аввакума или автобиографическим отрывкам в переписке Курбского с Грозным – двум другим автобиографическим произведениям в древней русской литературе. Образ Мономаха выступает в «Поучении» как бы помимо его воли, чем достигает особенной художественной убедительности. «Поучение» Мономаха давало жизненный идеал князя-патриота, администратора, хозяина, воина, отвечало на конкретные запросы русской жизни. Можно предполагать, что «Поучение» имело значительный резонанс в русской действительности. Не случайно Владимир Мономах был впоследствии идеализирован русской летописью.
4
Времени Мономаха принадлежит первое из дошедших описаний паломничеств – «Хождение» Даниила, также отразившее патриотические идеи эпохи. Средневековые паломничества в «святую землю» имели существенное познавательное значение, способствовали международному обмену культурными ценностями, приучали к терпимости и, вместе с тем, развивали в паломниках здоровое национальное чувство.
Замечательною чертою Даниила является отсутствие в нем каких бы то ни было узко местных тенденций. Всюду, куда он ни попадает, он чувствует себя представителем всей Русской земли в целом. Он называет себя «русские земли игуменом», у гроба Господня ставит «кандило» «от всея русьскые земли», отличается терпимостью к чуждым верованиям (латинству и магометанству) и умеет всюду внушить к себе уважение, не вмешиваясь в распри сарацин и крестоносцев. Даниил свел – знакомство со «старейшиной срацинъским» и иерусалимским королем Балдуином I, Фландрским (1110–1118) и побывал там, куда не пускали других.
Наши представления о литературе времени Мономаха далеко неполны, но и то, что мы знаем, свидетельствует о тех широких и разнообразных путях, на которые вступила в это время культура Киевского государства, черпавшая свои идейные силы в защите общенародных интересов, в идее единения перед лицом внешней опасности.
В литературе этою периода нет той стройности и торжественности, которая была в литературных произведениях времени Ярослава, но она ближе к русской жизни, она разнообразнее, как разнообразнее были и запросы эпохи, она неспокойна и тревожна, как тревожны были события того времени.