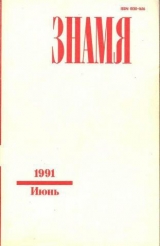
Текст книги "Полжизни"
Автор книги: Дмитрий Витковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Прошла осень, потемнели ночи, заиграло сияниями прозрачное северное небо. И снова перемена. В числе прочих специалистов – сапожников, слесарей, плотников – меня отправляют на материк. Строить канал.
Прощайте, легендарные Соловки!
Снова маленький черный пароходик скользит по белесой, на этот раз хмурой, холодной, со стальными оттенками поверхности Белого моря.
Снова Кемперпункт.
Большая часть этапа, не задерживаясь, отправляется дальше, но меня и нескольких других заключенных, неизвестно по какому признаку отобранных, оставляют.
Кемский порт не справляется с отправкой грузов. И вот я в бригаде портовых грузчиков. Стоит середина зимы. Обувь (еще московская) почти сносилась. Новой не дают. Дощатый настил в порту от морских брызг и от волн, бьющих в щели снизу, всегда покрыт водой или пропитанным ею снегом. Ноги всегда мокры. Холодно. Скользко.
Мы грузим на пароходы тяжелые намокшие мешки с солью, с какими-то удобрениями. Двое стоят на месте и подкидывают мешки на спины. Хватаешь мешок за ушки и бежишь, скользишь по мокрому настилу. Все делаешь быстро, чтобы не задерживать следующих.
«Давай, давай!»
Складываешь мешок, расправляешь спину и по палубе, по сходням – вниз.
«Давай, давай!»
Погрузили мешки с солью, надо грузить уголь. Опять двое стоят и насыпают уголь в мешок подкидывают его на спину.
«Давай, давай!»
Мешок опорожняется в угольную яму, поднимается черная пыль. Застилает глаза.
«Давай, давай!»
На бушлате попеременно белыми и черными слоями откладывается соль и уголь.
Потом перевозим на тачках какие-то ящики, тюки, опять мешки.
Ребята все рослые, грязные, мокрые, злые. Мат висит в воздухе сам по себе. Чуть запнешься, мат фонтаном взметается вверх.
Приварок не соответствует работе, и я быстро сдаю в весе.
Так продолжалось месяца два. Жили мы в общем бараке, где мои грузчики были самой сильной и культурной частью населения. Теперь мне, моей кепке и моим вещам не нужны покровители. Кому придет в голову связаться с дьяволом из бригады грузчиков?
Вечерами в бараке дрались, делили краденое, пили какими-то таинственными путями добытую водку, играли в карты, проигрывали свое, чужое, пайки, обеды, обмундирование, самих себя. Вновь прибывающие боялись нас и нашего барака, как чумы, и никогда к нам не заглядывали.
Беломорканал
Прошло и это. Поезд мчит нас по унылым снежным просторам в серой тьме полярной ночи. Потом мы идем все в той же тьме какой-то снежной бесконечной пустыней, казалось, без края и конца.
И вот мы в огромных полотняных палатках. Внутри такой же мороз и холод, как и снаружи. Только нет снега. Нелепые трехэтажные железные печурки дымят, дрова не горят, никакие попытки заснуть, даже в одежде, ни к чему не приводят.
Мы на Беломорканале.
Следующим утром – утро было только по часам, на самом деле была какая-то сумеречная, наполненная падающим снегом неясность – нас построили и быстро распределили, кого куда: этих – в мастерские, этих – в канцелярии, а меня и еще одного – на канал, в забой, прокладывать трассу.
Бригадир, в котором под лагерным бушлатом и ушанкой ясно проглядывало лицо духовного звания, выдал лопаты, поставил на участок.
Грунт попался очень удачный – почти сухой песок, только сверху схваченный коркой мерзлоты.
От холода мы так лихо заработали лопатами, что наш батя, подходя временами, только покрякивал от удовольствия. И уже когда мы кончали норму, вдруг сказал, как полагается, окая:
– Землю ты кидаешь, сынок, славно! А по личику (он так и говорит – «личико») вроде не землекоп. Грамотный?
– Грамотный.
– И специальность есть?
– Есть и специальность.
– ?
– Инженер-технолог.
Батя взмахивает обеими руками, недоуменно и сокрушенно охает и куда-то мчится.
А через полчаса немного смущенный зав. УРБ объясняет, что неграмотные писари в списке против моей фамилии в графе специальность вместо инженер написали что-то неясное, похожее на изувер. В УРБ решили, что за этим определением скрывается какой-нибудь сектант. Отсюда и все прочее.
Но я не в претензии.
А еще через полчаса высокий, похожий на Петра Великого начальник пункта по прозвищу Боцман определил мою дальнейшую судьбу.
– Вы будете прорабом восемнадцатого шлюза.
– Но я химик, а там нужно знание земляных, скальных и плотницких работ.
– Никаких но! Нужна только голова и умение обращаться с нашими людьми.
– Но у меня центральный запрет.
– Плевал я на ваши запреты, центральные и нецентральные!..
Мне назначают помощника. Это – упитанный, самодовольный, вполне «вредительского» вида инженер-строитель. Он брезгливо относится к уркам и вежлив необычайно. Он не скажет: «Убери доску!» но: «Будьте, пожалуйста, любезны убрать вот эту доску».
Шпана ненавидит его смертельно. Чем-то он антипатичен и мне, и дело у нас явно не идет. К счастью, его скоро переводят и назначают на участок нового помощника, техника-машиностроителя Гришу Костюкова. Он молод, коренаст, с голубыми глазами, по натуре своей очень весел, но на шлюзе ходит временами совсем мрачный. Немудрено. Ему «пришили» участие в несуществующей вредительской организации, дали десять лет, оторвали от молодой жены. Меня он покоряет доверчивостью. На второй же день, едва познакомившись, он, прямо смотря мне в глаза, заявляет:
– Не ожидай от меня энтузиазма. Я не канарейка, чтобы чирикать в клетке. – И, помолчав, добавляет:
– И провались они вместе со своим шлюзом!
Он знает, конечно, как развито в лагерях стукачество, подслушивание, взаимное предательство. Лучший способ выслужиться – утопить другого. И схватить новый срок в лагерях легче, чем где бы то ни было. Я очень ценю его откровенность.
Несмотря на отсутствие энтузиазма, работает Гриша очень хорошо. Он ровен и требователен со всеми одинаково, не дает спуску шпане, никому не позволяет быть с собой запанибрата. Когда я смотрю на Гришу, у меня часто возникает вопрос: «А почему, собственно, для нас так несомненна моральная необходимость работать в заключении?» И думаю: «Вероятно, потому же, почему она несомненна вне лагерных проволок, на воле».
Потом у меня появляются помощники по скальным и плотницким работам, пожилые, понимающие что к чему и, в общем, хорошие люди.
Десятников частью присылает начальство, частью мы подбираем сами. С присланными иногда бывает плохо. Либо это откровенные соглядатаи, либо проштрафившиеся лагерные придурки. Но попадают и неплохие хлопцы.
Лучше всех те, которых мы с Гришей выбираем из рабочих. Это обычно – раскулаченные, молодые, молчаливые. На них вполне можно положиться и, что удивительнее всего, они «вполне на уровне задачи», несмотря на все несправедливости и обиды.
Особенно хорош донской казак с длинными «вусами» – Еременко. «Вусы» совсем ни к чему на его румяном круглом лице. Он расторопен, все замечает и очень бережлив. Мы скоро назначаем его завхозом и поручаем все шлюзовое хозяйство: лопаты, тачки, ломы, кирки, буры, доски.
Полная противоположность – Ваня Крутликов. Молодой, всего двадцати лет, живой, веселый, все время с кем-нибудь задирается, никому не дает спуску, глаза озорные. Провести его на «туфте» не под силу самому опытному уркагану. За это ему грозят намять бока.
Старшего десятника у нас не было, но однажды, обходя участок, я услышал, как рослый, чернявый парень со спокойными карими глазами громко, но беззлобно поносил десятника за плохо устроенные катальные дорожки. Я тут же предложил ему стать десятником самому.
– Та ни, не хочу! – равнодушно ответил парень и тут же добавил:
– Не можу хлопцев эксплуатировать!
– А ты не думаешь, что хороший начальник может помочь хлопцам пережить их беду?
Довод оказался убедительным, и он согласился. Десятник из него вышел редкостный. С любой точки участка он видел все, что делается на остальных точках. Он был очень сообразителен, тверд, спокоен и, редкостное явление, «николы не матерився».
– Бо у мене мати в Бога вируе!
Шпана пробовала выступать против его авторитета и напустила на него одного из самых наглых и развинченных паханов. Тот попытался взять Степана «на горло» и поднял яростный матерный хай, требуя каких-то нелепых льгот. Степан спокойно слушал, держа руки в карманах, потом вдруг сунул блатяге кулак под самый нос:
– Ось бач яка у мене е штуковина!
Шпаненок сник под смех своих же сторонников, а Степан мягко повернул его за плечи и отправил на место.
Бригадиров мы обычно не назначали. Бригады сами выбирают своих вожаков. Но некоторых приходится смещать и назначать нам. Это лучше всех делают десятники.
Мне очень пригодился соловецкий опыт. Месяцы, проведенные там, вовсе не пропали даром. Я научился входить в любой барак, кто бы там ни жил, могу вмешаться в любую группу и в любой разговор как совсем «свой» человек. Я научился блатному жаргону, могу спокойно стоять против рисующегося и играющего «перышком» блатяги и крыть его так, что он рта не разинет. Научился никого не бояться, а главное, научился не смотреть на людей с высоты величия честного человека, совершенно искренне не чувствую к ним ни тени пренебрежения: они – мои товарищи и друзья, с которыми я вместе «ишачил», вместе жил и вместе ел.
Техники не было никакой. Даже обыкновенные автомашины были редкостью. Все делалось вручную, иногда с помощью лошадей: вручную копали и вывозили на тачках землю, вручную бурили скалу и вывозили камни. Основой всей работы был «ребячий пар», как говорили заключенные. Работали без конвоя. Бригадиры выводили рабочих за проволоку, часовые у ворот их просчитывали и дальше, до возвращения, заключенные не видели конвоиров (с конвоем выходили только чем-либо проштрафившиеся заключенные). Но бежать было трудно, и все это знали. Вокруг рабочей зоны в лесу бродили с собаками охранники и миновать их было почти невозможно. Да и куда бежать?
Рабочие на треть состояли из раскулаченных крестьян; остальные – блатные. С первыми все просто. Им надо только точно указать, что делать, они должны убедиться, что это можно сделать. И дальше с ними забот мало.
А вот с блатными! Этот не хочет работать в бригаде и требует себе отдельного замера; этот будет работать, но не здесь, а несколько подальше, вне трассы канала. Там его работа никому не нужна? Тем хуже для тебя. Этот не может работать, потому что слаб от голода.
– Проиграл приварок в карты?
– Почему только приварок? И пайку за три дня!
– На, ешь мой хлеб! И завтра получишь. Будешь работать?
– Может, буду.
А этот с презрительной миной заявляет, что груженая тачка слишком тяжелая. И нахально поигрывая томными глазами, добавляет:
– Пустую тачку возить могу… если будешь выписывать норму!
– Буду! Вози пустую!
Парень, обалдевший от неожиданности, не хочет сдаваться и возит пустую тачку. Но уже через полчаса зло кричит:
– Прораб! Ты долго с меня насмешки будешь строить?!
И начинает работать.
И вообще с блатягами надо быть всегда настороже. Это народ неровный, порывистый, живущий по вдохновенью, «огоньки».
Иной как будто уже втянулся в работу, все идет хорошо, и вдруг сорвался. Глаза шалые, матерится, «не хочу больше ишачить».
Иногда на целую бригаду «находит», и все мы бьемся и ничего не можем с ними поделать.
Но с теми, кто работает, держи ухо востро. Иначе они так тебя обведут на туфте, что потом не распутаешься. Но здесь помогает соловецкая школа.
Зато утешают плотники. Это люди положительные, артельные, веселые. У них почти нет лагерных повадок, они не матерятся; подобраны, опрятны, от них всегда пахнет сосновыми стружками, и в бараках у них лучше, чище, спокойнее.
На шлюзе есть мастерская, где несколько человек насаживают и отбивают лопаты, ремонтируют тачки и прочий инструмент. Несколько кузнецов закаляют и заправляют буры. Здесь не так, как у плотников. Всегда шум, споры, ругань. Народ тут разный. Всегда толпятся бригадиры, приносят старые инструменты, требуют новых. Хороший инструмент – половина успеха! Те требуют, эти не поспевают, все ругаются. Выручает хозяйственный талант Еременко. Он видит, где хорошо, где плохо, и заставляет переделать заново, что плохо выполнено.
Но постепенно, несмотря ни на что, работа налаживается. Слой за слоем снимается грунт. Все меньше отказывающихся работать.
Странно, что даже в неволе, даже в обиде налаженный ритмичный труд, как всякое ритмичное движение, завлекает, поднимает настроение.
Вот местами уже обнажилась скала, и пора приниматься за скальные работы. Мы с трудом уговариваем часть землекопов перейти на бурение, обещаем льготы и блага. И вот бригада собрана. Сидят новые бурильщики, тюкают молотками, обивают себе руки, злятся, ругаются, ничего не выходит. Часть сдается и возвращается на землю, а часть продолжает работу.
Наконец приходят подрывники во главе с заключенным сапером. Заряжают первые шпуры, гремят первые взрывы, намечая скальный забой.
И сразу возникают новые заботы, новые тяготы. Бурки взрываются динамитом. Нередко, случается, что часть заряда отказывает и остается в не до конца взорванной скважине. Заключенный, особенно блатной, любит риск. Несмотря ни на какие запреты, чтобы выиграть часть нормы, он сует бур в остаток скважины, стучит молотком и… бум! – гремит неожиданный взрыв. А виновник иногда без глаз, иногда с поврежденными руками, иногда совсем без жизни лежит рядом на скале. Помимо того, что жаль человека, начинаются допросы, выяснения. Прораб должен все знать и все предусмотреть. Он за все отвечает.
Больше всех работают десятники. Они выходят на трассу рано утром, раньше рабочих. Проводят весь день в тяжелой работе, а потом, когда все уже уйдут, сидят в маленькой конторке, подсчитывают каждому рабочему выработку, выписывают в ведомости проценты. Некоторым это очень трудно. Многие плохо считают. Возвращаются они поздно, с одной мечтой – поесть и поспать. И тут на них набрасывается писарская орава из УРБ. Они въедаются в каждую букву, каждую цифру. Днем им делать нечего, им не с чего уставать. И они будят бедных десятников, стаскивают с нар, орут, грозят. А потом десятников в бога и в душу матерят работяги, которым мерещится обсчет и обмер.
Немного мешают воспитатели и временами сильно мешает начальство. Воспитатели – это те, кто нас исправляет, перевоспитывает. Лагеря, по понятиям того времени, не наказывают, а исправляют. Лагерники делятся по официальной классификации на социально чуждых – это мы, интеллигенты, контрики, вредители, – и социально близких – это убийцы, воры, грабители. Они – временно заблудшие представители трудового населения, их нужно только немного выправить, и они снова станут такими, как надо.
И вот социально близким поручают (в лагере все делают сами лагерники) воспитание своих же блатяг и перевоспитание социально чуждых. Обычно воспитатели уединяются на чердаке какого-нибудь барака, играют в карты, по мере удачи выпивают и развлекаются иными блатными удовольствиями. Но иногда их заставляют выходить на производство «поднимать настроение». И если после этого работяги начинают коситься на прорабами подозревают его во всех видах обмана, то, может быть, это результат воспитания.
В конце месяца воспитатели пишут характеристики воспитуемых. Как-то мне удалось прочесть эти памятники письменности за два месяца начала 1932 года. Мой «социально близкий» не отличался ни фантазией, ни трудолюбием. За оба месяца характеристика моя была одна и та же: «Филон. Малограмотен. Повышением уровня не займается».
Впрочем, некоторые воспитатели приносили пользу и одергивали наиболее бушевавших блатяг.
* * *
Часто по окончании дневной смены, пользуясь правом не присутствовать на поверках, я оставался на участке. В бараках душно и томят клопы, а здесь свежо; вокруг – ночь не ночь, а какой-то тусклый, призрачный свет.
Вошла в ритм работы ночная смена. Все начальство и всякие лагерные придурки ушли. Хорошо! На самом краю зоны, рядом с болотом, у тощего полуполярного леса я велел построить помещение – дощатый домик для подрывников. Там они отогревали динамит, там вставляли капсюли, там вершили свои опасные дела. Когда я уставал, то шел в этот домик; спал на деревянной скамейке, а утром, вместе с зябликом, который где-то рядом свил свое гнездо (нашел же место, чудак), встречал зарю. Еду мне приносил кто-нибудь из ребят.
Так по нескольку дней я не возвращался в лагерь.
Туда ко мне захаживал прораб плотины Тросков. Он не имел никакого технического образования: просто «бывший офицер», но имел хорошую голову и знал людей, а главное, за каждого из них готов был драться с кем угодно и не давал в обиду. За это его любили, и работа на плотине шла хорошо. Внешне он был бесцветен и неразговорчив. Всех, кто пытался выслужиться перед ним доносами и кляузами, ставил на самую трудную работу.
С начальством бывало труднее. Начальство было двух родов – техническое и лагерное.
Почти все инженеры, попадавшие в лагеря, в частности на Беломорканал, оседали во всякого рода лагерных конструкторских отделах, ПТО и ПТЧ, и лишь временами наезжали к нам на периферию, в контролирующих и подталкивающих комиссиях. Среди них, как и везде, были разные люди, но, вероятно, все более или менее сознательно считали единственно разумным выходом из положения получше и поскорее построить этот канал. Особых беспокойств эти комиссии не причиняли.
Начальник местного ПТО – инженер Полежаев – суховатый, неразговорчивый человек, по положению требовал много, но гадостей не делал никогда.
С лагерным начальством было хуже. Не всякий начальник сразу усваивал простую мысль о необходимости беречь курицу, несущую золотые яйца орденов и повышений по службе. Лагерное начальство вдали от следственных дел могло и не быть в курсе всех зигзагов политики и зачастую искренне верило, что имеет дело с застарелыми вредителями и тяжелыми преступниками. А техническая неосведомленность мешала разобраться в деле.
Среди таких начальников особенно выделялся Волков. Первый раз я познакомился с ним тоскливой белой ночью, когда все мои товарищи и помощники уже давно спали, на шлюзе была только небольшая ночная смена, и я ходил в поисках душевного покоя вдоль опушки болотистого леса.
Вдруг вихрем на вороном коне налетел не очень молодой плотный военный с бешеным лицом, в котором я узнал нового начальника. Минуты три он носился вокруг, явно стараясь подмять меня конем, хватался за кобуру и истошным голосом вопил что-то, в чем среди мата я мог разобрать только одно слово: «застрелю». Понемногу он выкричался, и стало ясно, что моя вина заключается в том, что я шляюсь черт знает где, а рабочие в это время устроили перекур.
– На воле вредил и здесь тем же занимаешься!
Потом он еще несколько раз грозил расстрелять меня на месте по различным поводам, пока меня не осенило.
При первых признаках появления врага я мигом скидывал бушлат и гимнастерку, оставался в одной нижней рубахе, как все работяги, и тут же брался за тачку или начинал тюкать молотком по буру.
Ребята посмеивались вокруг, а взмыленные десятники носились в разных направлениях и ежеминутно докладывали:
– Товарища Верховского нет нигде! Товарищ Верховский, вероятно, ушел на пункт.
– Застрелю негодяя! – орал вояка, но уходил ни с чем, пока однажды в результате неожиданного и крутого вольта не столкнулся нос с носом со мной. Глаза его вспыхнули кострами.
– А!.. – Но тут же комизм положения дошел до его сознания. Он понял урок, расхохотался, вынул пачку хороших папирос.
– Бери, Верховский! Всю пачку бери! И брось свою вонючую махорку! Я тебе еще пришлю!
Вообще же начальники пунктов и отделений были бесцветны, часто менялись и только поначалу докучали своим вмешательством в работу.
Наезжало также высокое начальство из Медвежки и ГУЛага. Обычно это были разъевшиеся, надменно-пренебрежительные и невыразительные чиновники в форме ГПУ. Среди них резко выделялся Успенский. Рассказывали, что, будучи красноармейцем, он убил своего отца-священника, получил за этот «подвиг» небольшой символический срок; в Соловках сразу попал в охрану, чем-то услужил и очень быстро пошел в гору. По окончании срока остался в лагерях вольнонаемным и к нашему времени ходил уже в высших лагерных «генеральских» чинах. Молодой, лет 30–35, не старше, с гладким лицом сытого, самодовольного уркагана, он принадлежал к тому типу начальников, которые требовали, чтобы мы не только работали, но и «чирикали». За ним постоянно увивался длинный хвост свиты из всевозможных придурков, заключенных и незаключенных. О нас он судил по лихости отдаваемого рапорта. Местное начальство заранее суетилось, предупреждало и обучало.
– Товарищ Успенский любит хороший рапорт. Приготовьтесь!
Я встретил его молча, без рапорта, даже не приложив руку к фуражке, и поплатился за это десятью сутками карцера с выводом на работу.
Потом, особенно в Туломе, он часто приезжал к нам. Знал по фамилии и в лицо всех прорабов, любил сыпать мелкими наградами. Меня никогда не замечал, а я при его появлении уходил на противоположный конец участка.
Но больше всего мешали заключенные, изображавшие лагерную «общественность». Пародируя то, что делалось на воле, они придирались к каждому слову, выискивали, шпионили, выслеживали, доносили. На собраниях выступали с разоблачающими речами, требуя перевыполнения планов и выявления всяческих вредителей и виновников.
В результате в лагере очень легко было получить дополнительный срок. И многие его получали.
На меня три раза заводили новые дела, и только удача в работе не давала им ходу.
Здесь же я пережил натиск, знакомый в то время многим заключенным и незаключенным гражданам нашей страны.
Однажды меня вызвал в свой мрачный кабинет начальник особого отдела Яковлев.
Он начал со всяческих комплиментов мне как человеку и работнику, говорил, что давно меня отметил и за мной наблюдает и, выражаясь лагерным языком, «фаловал» меня в этом стиле не менее часа, а затем предложил стать сексотом.
– Вы будете давать совсем незначительные сведения. Так, какая-нибудь характеристика, или техническая экспертиза.
Я хорошо понимал, что это будут за экспертизы, и знал, что солнце навсегда погаснет для меня, если я сдамся.
Началась долгая и мучительная борьба.
От уговоров и обещаний всяческих благ, и в частности сокращения срока, Яковлев перешел к вымогательству и угрозам:
– Вот вы и обнаружили свое истинное лицо контрреволюционера – не хотите помочь Советской власти.
Грозил затеять новое дело: «Материалов у нас вполне достаточно, и вы никогда не выйдете из лагерей, так и сгниете здесь».
Он вызывал меня каждый день, иногда по нескольку раз, во всякое время дня и ночи, не давал спать, заставлял сидеть то в коридоре, то в сарае, служившем чем-то вроде карцера, по нескольку часов, кричал, вызывал к себе на помощь каких-то двух здоровенных заплечных дел мастеров, и втроем, с матом, криком, угрозами они вытягивали из меня душу.
Наконец мне все это надоело настолько, что я пригрозил Яковлеву пойти к начальнику отделения, заявить обо всем и уйти на общие работы. Должно быть, это было сделано достаточно решительно, и от меня отстали.
Летом к Троскову на десять дней приехала из Белоруссии веселая красивая жена с маленькой дочкой. Мы выселили подрывников из их домика и здесь у самого леса, как на даче, стала мелькать женская косынка, и девочка возилась с кукольным хозяйством, а вечером нас угощали бульбой с салом и домашним чаем.
Идет работа. Заметно идет. Не всегда ровно, не всегда хорошо, бывают срывы, но все же идет.
Углубились котлованы. Насквозь пролегла щель в скале на месте будущего шлюза. Уже плотники рубят на стапелях деревянные палы. Уже завозится клепка для деревянных затворов. Уже плотина протянулась через всю низину рядом со шлюзом.
И ребята вроде сыты и довольны.
Но кончилось лето, короткая северная осень, и пришла зима, суровая, вьюжная, морозная. Земля, лишенная толстого мохового покрова, сразу промерзла и превратилась в схватившуюся, как бетон, смесь супеси, гальки и валунов. Хоть бей ломом, хоть грызи зубами, больше сотки в день не выгрызешь. А норма – 2 кубометра в день. И к тому же дует пронизывающий морозный ветер, а обутки прохудились, и ноги кажут наружу пальцы. И бушлатики жидковаты. И в ослабевающих мускулах совсем нет никакого греющего запаса.
Ребята сразу приуныли. Выполнившим меньше 50 процентов нормы полагалось триста граммов хлеба и почти никакого приварка, а тут и 10 процентов не выполнить.
С каждым днем увеличивалось количество невыходов на работу по слабости. А кто раз не вышел, тому уже трудно, почти невозможно встать завтра. Оставалось лежать, пока какой-нибудь лагерный придурок не увидит и не гаркнет:
– Чего лежишь? На работу!
А там на трассе холод и пронизывающий ветер сразу уносят остаток сил. И все равно ничего не сделаешь, незачем зря рыпаться. Так хорошо сесть в глубине котлована, в затишке, прислонившись к забою, или лучше спиной друг к другу, или полуспрятавшись под опрокинутой тачкой…
А ночью, во тьме, когда все уже уйдут и не останется больше живых на трассе, приедут широкие сани, запряженные лошадьми, и увезут навалом всех, кто не смог уйти.
Некоторые в последние минуты вдруг встают и как будто в поисках последней справедливости, последней ласки куда-то идут.
Вот медленно, едва переставляя ноги, идет высокий парень. Конечно же, я знаю его. Летом он работал на моем участке, а потом куда-то был переведен. Был крепкий, красивый парень. А теперь?
– Куда ты идешь, Саша?
Он не останавливается. Он знает, что если остановится, то дальше идти не сможет. Даже не поворачивает головы, для этого тоже нужна сила.
– К лекпому!
Мы медленно двигаемся. Я поддерживаю его. Лекпункт рядом.
Знакомый лекпом растерянно разводит руками, шепчет:
– Что я могу сделать? Он обессилен, у него пониженная температура, а у меня строгий приказ обслуживать только тех, у кого температура повышенная. Посмотрите на его кожу – она как сетка. Посмотрите на его лицо – он через несколько минут умрет. Мы можем только дать ему умереть спокойно.
Мы кладем его на топчан, покрытый одеялом, подкладываем под голову подушку.
Тепло, не надо идти. Он блаженно и глубоко вздыхает и закрывает глаза…
Сколько их было на всем канале? Десять тысяч? Двадцать? Сорок? Кто-нибудь знает.
Именно в это время с Украины прибыл этап раскулаченных. Еще не получив обмундирования, не привыкшие к холоду, они вышли на канал, видимо, сразу поняли все и не пытались бороться…
Потом даже не искали виновных…
В это же время на канале за каждую погибшую лошадь виновных отдавали под суд.
В это же время особенно много писали и говорили, что только в нашей стране проявляется отеческая забота о судьбах каждого отдельного человека.
На моем участке тоже стало тяжко. Большая часть рабочих была занята на скале. Бурить и взрывать скалу что летом, что зимой, – . все одно. Их страшил только холод. Ну что же, надо только поживее работать. Но несколько сот человек работало на «мягких грунтах» и им грозила та же участь, что и украинцам.
Мы советуемся с Гришей, вызываем лагерного топографа.
– Слушай, Саша! Мы несколько неожиданно раньше времени уперлись в скалу. Бери нивелир, составь акт! Смотри – это все скала!
Саша потирает небритый подбородок, хмыкает.
– В орлянку играете, ребята. Ставку знаете?
– Знаем!
– А у меня, брат, школа. Я в Соловках учился у великого мастера туфты. Не бойсь, как говорят ребята. Тащи нивелир!
И все-таки было очень трудно. Руки мерзли, тачки не катились. Порода, даже взорванная, тут же смерзалась снова, и брать ее нужно ломами и кирками. Выработки падали, как и на других участках. А хлеб получали строго по выработке. «Дай кубы, получай хлеб!» Падали силы. Уже случалось, что и у нас кое-кто не выходил на работу. Я всех знал в лицо и не нуждался в докладах.
Мы опять думаем, думаем и наконец решаем.
План очень прост и очень уголовен. На нашем участке немногим больше семисот человек. Если каждый выработает норму, на всех будет выписано семьсот килограммов хлеба. Сто процентов – килограмм. А если двести человек выполнит 120 процентов нормы, то хлеба будет 500 + 240 = 740 кило.
Я издаю негласный приказ: всем способным работать – выполнять по 120 процентов нормы. Десятникам и бригадирам без этого не отпускать с работы. А выписывать по сто процентов. И за этот счет снизить нормы тем, кто послабее, и выписывать им тоже по 100 процентов. И каждый день, по усмотрению бригадиров, одному человеку из бригады разрешать не выходить на работу, отдыхать, – а норму выписывать.
По лагерному кодексу недодача хлеба заключенному, обворовывание заключенного – очень тяжкое преступление, и нам, мне, если все обнаружится, грозит тяжелое наказание.
Костюков, десятники, бригадиры все без колебаний поддерживают меня. Работягам об этом не говорят, и некоторые обижаются, грозятся. Но они знают, что эти самые бригадиры и десятники до сих пор их не обманывали, и больших скандалов не затевают. А нам того и надо.
Труднее справиться с морозами и вьюгой…
С утра, только работяги стали на места, подул и завыл ветер, мело сухим, мелким, колючим снегом. Не только работать, стоять с трудом можно.
Из лагеря звонок: «С работы не снимать, выполнять задание».
Проходит немного времени, и я вижу, как с соседних участков рабочие, сначала по одному, потом группами, потом всей массой уходят с работы.
А из лагеря опять: «С работы не снимать».
Но ведь это катастрофа! За самовольный уход им будет выписан штрафной паек, а при их состоянии это для половины – конец!
Надо во что бы то ни стало дождаться, пока начальство осознает положение и составит акт «на непогоду». Тогда обеспечен килограмм хлеба.
Все десятники на местах. Гриша Костюков, несмотря на отсутствие энтузиазма, весь день ходит от группы к группе, ободряет, улыбается. Мы следим, следим все время, чтобы не было обмороженных. По одному, по два подходят дрожащие, синие, насквозь про холодавшие люди.
– Товарищ прораб, отпусти!
– Не отпущу! Бригадир, чего смотришь!
Уходят, ворча, чертыхаясь, матерясь.
И вот – бронебойный снаряд!
Жалкий, согнувшийся, засопливевший подходит Вася Шелопыгин. В обычное время у него круглые, голубые детские глаза, веснушчатое, привлекательное лицо. Ему всего 18 лет. Где-то под Курском о нем скучает мать. Я питаю к нему слабость и вопреки своим правилам немного ему блатую: работу даю полегче, отпускаю пораньше. Ребята это видят, но не в претензии – его все любят.
– Товарищ прораб, не могу больше, отпусти!
Я вижу, как изо всех щелей, из всех укрытий на меня смотрят и ждут. И если я сейчас сблатую!..
– Не могу, Вася, иди на место.
Он начинает плакать. Дрожит.
– Прораб, отец родной, отпусти!.. – Хватает за руки: – Брат, брат, отпусти!..
– Не могу, Вася, возьми себя в руки, иди!
– Ну так подавись ты своим шлюзом, гад проклятый! Продажный!








