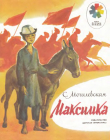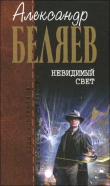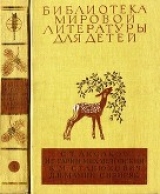
Текст книги "Библиотека мировой литературы для детей, т. 15"
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
Соавторы: Сергей Аксаков,Константин Станюкович,Николай Гарин-Михайловский
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 47 страниц)
Что же сломило Тему? Чего не хватает еще ему, чтобы сохранить себя чистым и незапятнанным? Что предстоит ему еще развить и укрепить в себе? Что же придает человеку нравственную стойкость и гражданское мужество?
Решение этих вопросов составляет важнейший этап в процессе нравственного самоопределения каждого человека. Поисками ответов на эти вопросы и определяется замысел повести «Детство Темы» (1892). Гарин-Михайловский говорил: «…в моей беллетристике выдуманных образов совсем нет: все взято прямо из жизни». Прямо из жизни, большею частью из жизни самого автора, «взята» и повесть.
Николай Георгиевич родился в 1852 году, в семье генерала в отставке, человека исключительно сурового, признававшего только один метод воспитания – строгость и наказания, вплоть до жестоких телесных. И от этих наказаний не могла защитить сына даже мать, нежно, беззаветно его любящая. Унизительной, оскорбительной для его самолюбия и гордости была и обстановка в Ришельевской гимназии в Одессе: царская гимназия подавляла в человеке личность, все ее свободные проявления, чтобы выработать из него надежного чиновника-исполнителя.
Чувство собственного достоинства, развиваемое и укрепляемое в будущем писателе его матерью, толкает его на протест и против тирании отца, и против рутинной системы воспитания и образования, царившей как в гимназии, так и в высших учебных заведениях. Именно этим объясняется его бегство с юридического факультета. Но с другой стороны, в этом протесте больше стихийной, эмоциональной, чем осознанной, идейной неудовлетворенности существующим положением. И хотя Николай Георгиевич хорошо был знаком с сочинениями Чернышевского, Добролюбова, Писарева, включая и запрещенные, общественные и нравственные идеалы демократической литературы не оказали на него заметного влияния.
«Полевение» Н. Г. Михайловского происходит во второй половине 80-х годов, чему способствовало прежде всего его приобщение к жизни трудовых низов. В 1878 году он окончил Институт путей сообщения и стал инженером-изыскателем. Михайловский принимал участие в строительстве крупнейших железных дорог, в том числе и Сибирской, сразу же завоевав репутацию инженера талантливого, а главное – честного и справедливого. Он видел в своей работе служение родине и народу. Профессия изыскателя – а он прошел пешком многие сотни верст по губерниям Казанской, Вятской, Костромской, Ярославской и другим – щедро питала будущего писателя впечатлениями и наблюдениями над жизнью русского общества, и особенно над жизнью крестьян.
В начале 80-х годов Гарин-Михайловский увлекается народническими учениями о русской деревне, в которой будто бы все еще существуют общинные – для народников они равнозначны социалистическим! – «устои» жизни. И он принимает участие в «хождении в народ», оседает на землю: покупает в самарской глуши имение Гундуровка, надеясь помочь крестьянам преодолеть засилие кулаков, наладить доходное земледелие. Крестьяне же не понимают и не принимают реформатора, а кулаки несколько раз поджигают его имение.
Народнические иллюзии Н. Г. Михайловского были разбиты при первом же столкновении с реальной русской деревней, в которой под хищническим напором кулаков рушились последние шаткие «устои». Написанные им на основе дневников очерки высоко оценил Чехов: «Раньше ничего подобного не было в литературе в этом роде по тону, и, пожалуй, искренности… Так верно, что хоть отбавляй… Я пропагандирую его „Несколько лет в деревне“». И эта оценка не случайна: в очерках Н. Г. Михайловского Чехов услышал близкие ему «мотивы», которые он чуть позднее выразит в повестях «Мужики», «По делам службы», в рассказе «Новая дача».
Здесь же, в самарской глуши, Михайловский приступил к работе над повестью «Детство Темы». Первый, неоконченный ее вариант начинающий автор прочитал навестившему его Станюковичу, и тот горячо ее одобрил. В 1892 году она была опубликована в журнале под псевдонимом Гарин (от имени сына писателя Гари – Георгия).
К детству обращают писателя не одни воспоминания об этой счастливой и безмятежной поре человеческой жизни. К тому же у его автобиографического героя этой безмятежности нет и в детстве. Знаменательно и название первой главы – «Несчастный день» – и ее начало: «Маленький восьмилетний Тема стоял над сломанным цветком и с ужасом вдумывался в безвыходность своего положения». Тема, нечаянно сломавший любимый цветок отца, представляет себе жестокое возмездие: у отца «нехорошее лицо», а в складке его синих штанов – «желтенький узенький ремешок». И «бесконечно сильно почувствует мальчик, что самый близкий ему человек может быть страшным и чужим, что к человеку, которого он должен и хотел бы только любить до обожания, он может питать и ненависть, и страх, и животный ужас…» А в довершение всего, заигравшись и расшалившись, Тема сломал и лозы отца, нагрубил своей бонне, украл для своего товарища по играм Иоськи сахар из сахарницы. Наступает тяжелая развязка: отец, не вдаваясь в причины проступков Темы, жестоко его наказывает. Когда мать врывается в кабинет, чтобы прекратить истязание сына, она видит, как с дивана «слезает в это время растрепанный, жалкий, огаженный звереныш и дико, с инстинктом зверя, о котором на минуту забыли, пробирается к выходу».
Как резко отличается атмосфера в доме Карташевых от той, в которой рос Сережа Багров! Гарин-Михайловский, конечно же, преувеличивал силу и характер наказания, заострял переживания Темы. Но тем самым отчетливее и явственнее обозначалось авторское «задание»: Гарин-Михайловский стремится не только запечатлеть, но и переосмыслить свой богатый жизненный опыт, сделать его поучительным не только для одного себя лично.
В окружающей Тему среде опаснее всего – нетерпимое отношение к чувству человеческого достоинства, к поведению, руководимому понятиями чести и справедливости. Жестокость отца – это не вспышка гнева, это принцип усвоенной и отстаиваемой им системы. Той же системы придерживаются и в гимназии. Ее директор отрицает за гимназистами право рассуждать о начальниках, отвергает «правила какого-то товарищества» и считает своей священной обязанностью «сплотить всю эту разрозненную массу (учащихся. – В.Б.) в нечто такое, с чем, говоря о практической стороне дела, можно было бы совладать». «С момента его поступления ребенок, – разъясняет директор Аглаиде Васильевне Карташевой, – должен понимать и знать, что вся власть над ним в сфере его занятий переходит к его новым руководителям. Если это сознание будет глубоко сидеть в нем – это даст ему возможность благополучно сделать свою карьеру».
Такая система, показывает Гарин-Михайловский, губительна, а для слабых натур – гибельна. Но не менее, чем ее «прямое» давление, разрушительно для человеческой личности приспособление к системе, компромисс, а тем более примирение с господствующими принципами и правилами. Именно к подобным компромиссам часто склоняет Тему и его мать, как правило, невольно, бессознательно, из одной лишь горячей любви к сыну, из желания ему счастья, благополучия, какой бы высокой ценой они ни оплачивались.
Образ Аглаиды Васильевны противоречив, двойствен. Она – союзник автора, пока борется против насилия над личностью ребенка, пока обличает бездушную систему воспитания, убивающую в человеке волю, вытравливающую из человека его неповторимое «я». Но автор солидарен с ней только до строго определенной границы.
В повести есть такой эпизод. К дому Карташевых примыкал наемный двор, где ютилась «городская голытьба». «Мысль о наемном дворе давно уже приходила в голову матери Темы, Аглаиде Васильевне. Нередко, сидя в беседке за книгой, она невольно обращала внимание на эту ватагу вечно возбужденных веселых ребятишек. Наблюдая в бинокль (!) за их играми, за их неутомимой беготней, она часто думала о Теме». И наконец она разрешает сыну посещать наемный двор, играть с «голытьбой» – но не больше! Как только Тему его более развитые товарищи по гимназии захотели приобщить к чтению передовой литературы, она бьет тревогу! Аглаида Васильевна категорически против новых увлечений Темы, так как глубоко убеждена, что учения Чернышевского, Добролюбова, Писарева ошибочны и вредны!
Вместе с писателем мы с интересом и горячим сочувствием следим за неравной борьбой маленького Темы против жестоких воспитательных принципов отца, против казенно-рутинной системы обучения и общепринятых и общепризнанных нравов, привычек окружающих. Правдивый, искренний, добрый Тема сопротивляется губительному воздействию насилия, равнодушия, лицемерной морали.
И все же Тема чаще падает, чем побеждает. Чего недостает ему? И – шире – что придает человеку нравственную стойкость и мужество, которые помогают ему преодолеть влияние среды? Гарин-Михайловский, опубликовав повесть, продолжает биографию своего героя: он пишет повести «Гимназисты» (1893), «Студенты» (1895), «Инженеры» (осталась незаконченной, опубликована посмертно в 1907 г.). Так возникает тетралогия, самое известное в творческом наследии писателя произведение.
Если в повести «Детство Темы» герой – жертва обстоятельств, то в последующих повестях тетралогии Артемий Карташев предстает человеком, не способным, а иногда и не желающим встать выше обстоятельств. И тональность повествования заметно изменяется: сочувствие уступает место критике.
Биографию и жизненную судьбу Артемия Карташева Гарин-Михайловский осмысляет исторически. Он выявляет в ней типичное для поколения, пережившего эпоху «безвременья» 80-х годов. Правительство на убийство народовольцами в 1881 году царя ответило казнями и репрессиями.
В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла.
А. Блок
Правительству удалось сбить волну революционного демократического движения. Интеллигенцию в массе своей охватывают кризисные настроения, из которых некоторые ее «отряды» хотели найти выход в легальных, разрешенных правительством – поскольку они не угрожали существующему строю – формах общественной деятельности. Эта эпоха и породила героев, хорошо известных читателю по чеховским произведениям: это интеллигентные люди, либо не успевшие обрести, либо утерявшие «общую идею», этого «бога живого человека» (Чехов) и потому превратившиеся в обывателей. Одним из таких героев предстает в последних частях тетралогии Артемий Карташев.
Человека создает сопротивление косной среде, но не стихийное, не инстинктивное, а осознанное, основанное на прочных, передовых убеждениях. А такие убеждения вырабатываются упорным трудом, напряжением всех внутренних сил, активной работой мысли. Только тогда, проникая в самую сердцевину личности, они делают ее стойкой против разрушительных для нее влияний. Для Артемия Карташева такая работа оказалась непосильной. Гарин-Михайловский с грустной иронией пишет о том, как попытка Артемия Карташева приобщиться к передовой литературе оказалась не более как очередным, преходящим увлечением. Почитав с вечера Писарева, он уже утром чувствует себя «другим человеком»: будто он сменил одно платье на другое!
И неминуемо происходит то, что и должно было произойти: гимназиста, а потом студента Карташева берет в плен пошлость жизни. Он даже и на свою мать привыкает смотреть «как на подготовительную для себя школу по части надувания более опытных своих учителей». А в итоге он оказывается в той «многочисленной партии» людей, которые «ничего не читали, ничем не интересовались, ни о чем не помышляли, кроме ближайших интересов дня. Они ходили в гимназию, лениво учили уроки и в свободное от занятий время скучали и томились».
Праздным, ленивым шалопаем остается он и в институте. «Корабль без якоря. Работа без устоев. Кучка возится, строит, а пришла волна мрака, и… и все к черту, колесо белки. Нет фундамента образования достаточного, чтобы противостоять напору этой волны» – так передает один из друзей Карташева драму их жизни.
Безыдейность делает. Карташева пошлым обывателем, по-мещански эгоистичным. Правда, став инженером, он отдается с увлечением проектированию и строительству железных дорог, проявляя при этом и сочувствие к честным труженикам, и открытую неприязнь к нечистоплотным дельцам. Конечно же, Гарин-Михайловский рассказал в «Инженерах» о многих эпизодах из своей собственной жизни, связанной с его любимой профессией. К ней он и вернулся, когда крестьяне подожгли его имение, почти разорив владельца. В то же время образ инженера Артемия Николаевича Карташева особенно далек от автобиографичности.
После кратковременного увлечения народничеством Гарин– Михайловский убеждается в несостоятельности его доктрин и возлагает надежды на марксистское учение о путях и средствах преобразования жизни. Он участвует в организации первой в России марксистской газеты «Самарский вестник», сближается с революционерами. В 1901 году Гарин-Михайловский вместе с Горьким, Маминым-Сибиряком и другими писателями ставит свою подпись под протестом против избиения полицией студенческой демонстрации. Еще теснее его связь с революционным движением в годы первой русской революции. «Вся моя логика и все мои симпатии принадлежат социал-демократическому движению», – заявляет он в одной из своих статей. «Я думаю, – писал о нем Горький, хорошо его знавший, – что он считал себя марксистом, потому что был инженером. Его привлекала активность учения Маркса… Марксов план реорганизации мира восхищал его своей широтой, будущее он представлял себе как грандиозную коллективную работу, исполняемую всей массой человечества, освобожденного от крепких пут классовой государственности».
В другом, можно сказать, прямо противоположном направлении развивается его литературный герой – Карташев. Он приезжает со своего участка железной дороги в Петербург женихом богатой невесты, дочери бывшего посланника. Попав в кружок влиятельных и преуспевающих воротил, он завидует сделанной ими карьере. У него не вызывает никакого протеста наставление, какое дает ему одна из дам этого кружка: «Лучше быть таким, как Гартвинг, и вы, кажется, такой же: не задумываться и брать, что дает жизнь. И все будут вас любить, и вам будет легко, и с вами будет легко». В Карташеве во весь голос заговорили сословные предрассудки. Мальчику Теме могло казаться естественным, что его семью обслуживает дворня, что прислуга обращается к нему, восьмилетнему мальчику, на Вы, что бонна, которую он оскорбил, не смеет назвать его «глупым мальчиком»: он – сын генерала. Но Карташев остался верен на всю жизнь и такому завету отца-генерала: «Если ты когда-нибудь пойдешь против царя, я прокляну тебя из гроба…» И Артемий Карташев не стал человеком гражданского долга и высокого патриотического сознания, в чем он и сам признается в одной из финальных сцен.
Гарин-Михайловский, рассказывает Горький, умер «на ходу»: выступил на заседании с горячей речью, вышел в соседнюю комнату, прилег на диван – «и паралич сердца оборвал жизнь этого талантливого, неистощимо бодрого человека». Последняя повесть тетралогии «Инженеры» осталась не дописанной. Но Горький, подготавливая ее к печати, имел все основания завершить тетралогию такой сценой.
Карташев вернулся в Петербург вместе с Маней, своей сестрой. Маня доверительно сообщает брату, что она решила порвать с прежней жизнью, с семьей и вступить в партию народовольцев для революционной борьбы с царем и всем самодержавным режимом: «Она стояла чистая и светлая перед ним. Помимо его воли все существо его проникалось уважением к ней, каким-то особым уважением к существу высшему, чем он, способному на то, о чем он и подумать не мог бы. Через нее и ко всей ее партии было то же бессознательное чувство».
* * *
Константин Михайлович Станюкович, один из популярнейших авторов морских рассказов, вырос у моря. В море, на фрегатах и корветах, прошла его юность.
Станюкович родился в 1843 году в семье командира севастопольского порта и военного губернатора города. Одиннадцатилетним мальчиком он становится свидетелем героической обороны Севастополя и даже принимает в ней посильное участие: заготавливает корпию и доставляет ее на перевязочные пункты. В 1856 году его, «севастопольского мальчика», награждают бронзовой медалью в память той войны. Три года учится он в морском кадетском корпусе, откуда в октябре 1860 года, за полгода до выпускных экзаменов, его отправляют по настоянию отца в кругосветное путешествие. Так отец, влиятельный адмирал, самовластно пресек попытку сына, увлеченного идеями Белинского и Добролюбова, перейти в университет. Об этом писатель расскажет впоследствии в повести «Грозный адмирал».
Во время плавания на корвете «Калевала» Станюкович побывал в Гамбурге, Лондоне, на острове Ява. Затем, произведенный в мичманы, он плавает на различных судах в китайских морях и Тихом океане. Долгое время он «состоит» при адмирале А. А. Попове, командующем Тихоокеанской флотилией, помогая ему в его письменных работах. Сестра просит брата быть «повнимательней» к адмиралу. Станюкович отвечает: «Где буду дальше и опять не знаю, но желал бы не с адмиралом. Как ты ни пиши, что выгодно или невыгодно, я, по счастью, нахожусь в таких летах, когда благородство и независимость стоят по одним уже влечениям выше всяких выгод по службе». В 1863 году адмирал направляет Станюковича с ответственнейшим поручением в Петербург. Он возвращается в Россию через Китай и Сибирь. Его назначают в Петербургский флотский экипаж, но в 1864 году Станюкович увольняется с морской службы, чтобы стать профессиональным писателем.
Первые литературные результаты пятилетнего и практически беспрерывного плавания Станюковича по морям и океанам – это очерки морского быта, написанные им в 1863—64 годах. Они – «От Бреста до Мадеры», «Жизнь в тропиках», «В Индийском океане» и другие – составили первую книгу писателя.
Станюкович уже в первых своих «морских» произведениях предстал наблюдательным маринистом, улавливающим и «лицо» того или иного океана, и нрав морской стихии. Там же выказалось и его блестящее знание морской службы – и будничной, и парадной, но всегда привлекательной. И все же нужно было пройти еще двум десятилетиям, чтобы наблюдения и впечатления отстоялись и выкристаллизовались в творческой памяти, чтобы они высветились обобщающим, социальным и гуманным смыслом, чтобы пришло осознание своей темы, своего природного дарования и призвания и свершилось творческое самоопределение писателя. Все это время писатель жил интенсивной литературной и гражданской жизнью.
Оставив флотскую службу, Станюкович становится сотрудником петербургских газет. Но материальные затруднения (отец лишил его поддержки) вынуждают его служить – вначале в управлении железной дороги, затем в течение трех лет в Обществе взаимного поземельного кредита. С 1877 года Станюкович становится постоянным сотрудником прогрессивного журнала «Дело», затем его соредактором, а с 1883 года – издателем.
Публикуемые Станюковичем в «Деле» статьи и фельетоны, от которых веяло духом протеста, ставят писателя в ряд известных русских публицистов. Он привлекает к сотрудничеству в журнале даже эмигрантов-революционеров, с которыми встречался в Париже и Женеве во время своих выездов за границу. Так, например, он заказал перевод романа Джованьоли «Спартак» С. М. Степняку-Кравчинскому (тому самому, который в 1878 году убил шефа жандармов) и опубликовал его в «Деле» (1871). Цензуре предписывается проявлять к журналу «самого неблагонадежного направления» и «вредного характера» особое внимание и строгость, департамент полиции аттестует редактора «личностью противоправительственного направления», а в 1884 году следует распоряжение управляющего департаментом Плеве о его аресте. Станюковича заключают в Петропавловскую крепость и в мае 1885 года высылают на три года в Сибирь.
Литературной деятельности Станюкович не прекращает и в ссылке. В «Сибирской газете» регулярно появляются его фельетоны и очерки, составившие целый цикл «Сибирские картинки». Здесь же он печатает сатирические стихи и роман «Не столь отдаленные места». Здесь же, в глухой Сибири, вспыхивает с новой силой и, не затухая уже, разгорается любовь к морю. И конечно же, только к влюбленному в морские просторы, в бороздящие их клипера и шхуны, могли прийти такие сочные краски, такие живописные картины, какие появляются в его повести 1886 года «Василий Иванович».
В 1888 году в Петербурге выходят в свет «Морские рассказы» Станюковича, к писателю приходит настоящий успех, хотя и до этого он не был безвестным автором. «За морские рассказы общие похвалы, печатные и личные», – сообщает он жене с радостью и гордостью. Он пишет рассказы «Штормуем!», «В шторм», «Между своими». Рождаются новые замыслы: «У меня будет целый ряд маленьких рассказов, которые составят потом новую книжку». В 1891 году выходит сборник «Моряки», появляются повести «Маленькие моряки», «В море», «Беспокойный адмирал», рассказы «Вдали от берегов», «Пропавший матрос», «Куцый», «Нянька»…
Станюковича считают, и по праву, создателем своего рода энциклопедии жизни и службы на военных кораблях. Из его морских рассказов и повестей мы узнаем, каким бывает океан в шторм и после шторма, как выглядят корабли после схватки с разъяренной стихией, какие маневры совершают при встречном и попутном ветре, при входе на рейд и снимаясь с якоря. Станюкович знакомит читателя с распорядком морской службы, с «производственными» заботами и уставными обязанностями офицеров и моряков; он вводит его и в кают-компанию, и в каюту адмирала, и на капитанский мостик, и в матросский кубрик.
Доподлинное, незаемное знание службы и быта моряков писатель органически сплавляет с реалистическим изображением человеческих характеров – включая и характеры своих маленьких героев, которых жизнь сталкивает по тем или иным причинам с моряками. Повседневный быт, столь тягостный, когда корабль месяцами в открытом море, самые будничные заботы морской службы, нелегкой, а для бесправного матроса и принудительной, – все это составляет ту атмосферу, ту среду, в которой живут и действуют люди с такими же радостями и горестями, надеждами и сомнениями, какие переживаются и на суше. Психология этих людей, и сильных и не чуждых человеческих слабостей, составляет теперь для Станюковича главный предмет художественного исследования. А потому, каким бы развернутым ни было описание шторма или эпизода из будничной жизни, в эпицентре этого описания – внутреннее, душевное состояние его героев. Станюкович передает и страх всего экипажа перед смертельной угрозой, и бурную радость после того, как осталась позади опасность разбиться о рифы, и грусть расставания с родными и близкими перед уходом в кругосветное путешествие, и томительные волнения перед встречей с ними после возвращения. Дом манит этих «странников» и тем, что «там» не будет ни мокрых ночных вахт, ни штормов, наводящих трепет, ни отчаянных разносов капитана, ни внезапных окриков боцмана: «Пошел! Все наверх! Рифы брать!»
У Станюковича, автора морских рассказов, были в русской литературе предшественники. Но, как справедливо отмечал Леонид Соболев, в повестях Марлинского персонажи моряков слишком уж книжны, описания излишне красивы, романтически приподняты («Вид был восхитительный! Упавшие паруса образовали словно плавучую стену с огромными башнями… фрегат – идеал легкости, красоты и силы. Он так гордо бросал в облака свои стрелы… Ядра низались кругом красивыми бусами. Копья, топоры и все абордажные оружия развешаны были, как галантерейные вещи» – «Фрегат „Надежда“»), а из академически спокойного труда Гончарова «Фрегат „Паллада“», продолжает Соболев, «очень мало можно было узнать о матросах и офицерах». Описания Станюковича точны и строги, а главное – он видит и показывает в моряке любого ранга человека. Его первооткрывательство «состоит в том, что он во всей жизненной правде показал то особое и удивительное человеческое существо, которое именуется русским моряком – будь это матрос или адмирал».
Встречаются в произведениях Станюковича офицеры, которых влечет на капитанский мостик тщеславие, жажда власти («Блестящий капитан»). Есть среди них и карьеристы, искатели выгод. Но всех их заслоняет главный герой Станюковича, любимый и романтизируемый писателем. Для юных моряков, еще только приобщающихся к морской службе, вырабатывающих «морской» характер, да и для читателей он предстает положительным, достойным подражания героем. Это «рыцарь долга», это человек, беззаветно преданный морю и морской службе, стойкий в опасности, верный в дружбе, честный, добрый и справедливый.
У одних, как, например, у капитана Матвея Ивановича, эти качества на виду. У других благородные свойства характера, составляя его сокровенную суть, сочетаются с куда менее привлекательной «видимостью», с чертами подчас отталкивающими. В изображении реалиста характеры моряков предстают во всей своей сложности и противоречивости, что и делает их живыми, достоверными. Вот капитан Вершинин, ленивый, беспечный, гурман и жуир, то и дело перекладывающий заботы о корабле на своего помощника. Но корабль попадает в «трепку», и в течение двух смертельно опасных суток на мостике – хладнокровный, решительный, мужественный и находчивый человек.
Особенно показателен и колоритен в своей выразительности «беспокойный адмирал», герой одноименной повести 1894 года. Прототипом этого образа, встречавшегося уже в рассказах «Непонятный сигнал» и «Ужасный день», был адмирал А. А. Попов. Страстно влюбленный в парусный флот, он возглавил строительство броненосного флота, проявив при этом свойственную ему энергию и талант. «Беспокойный адмирал» властен, крайне вспыльчив, необуздан и неукротим в своем гневе. В то же время он честен, добр, справедлив. Он проявляет неслыханное по тем временам мужество, когда просит извинения у мичмана, ответившего ему оскорблением на оскорбление. Он почти заискивает перед капитаном, которого обозвал «бабой», когда тот, во время шторма, показывает себя настоящим капитаном. Он ободряет мичмана, удрученного тем, что по его вине шквал порвал паруса. Требовательный и властный, он заботится не об одной только морской выучке. Преданный флоту, делу, он «осмыслил службу», внес в нее «дух жизни», и при нем Тихоокеанская эскадра «оживилась, как оживляется добрый конь, почуявший опытного и смелого всадника».
Под стать «беспокойному адмиралу» в своей первостепенной сущности и старший офицер Василий Иванович, хотя, казалось бы, его, скромного, тихого, невзрачного, нельзя и рядом поставить с адмиралом. Тем более что он никогда никуда не просился и всегда старался быть «подалее от начальства, словно боясь, как бы его не заметили» («Василий Иванович»). Но именно этому незаметному, неброскому герою автор и доверяет сформулировать дорогой для него кодекс чести, столь же морской, сколь и общечеловеческий. Он так наставляет младшего офицера, совершившего неблаговидный поступок: «Имейте-с правила в жизни!.. Твердые правила, согласные с совестью… Без них можно, пожалуй, иметь успех-c… выиграть по службе, что ли, но нельзя жить в душевном мире с собой!., будьте правдивы и с собой и с людьми… Любите людей бескорыстно, если хотите, чтоб и вас любили!..»
С особой пристальностью всматривается Станюкович в характеры матросов.
Воспитанный на передовых идеях шестидесятых годов, идеях народности и гуманности, он с негодованием восстает против системы телесных наказаний. Унизительные для человеческого достоинства, они, показывает писатель, развращают и самих командиров, старших и младших. Эта система – та благоприятная почва, на которой произрастает жестокость. Жизнь матросов и без того невыносимо тяжела и полна опасностей. Но ни суровый распорядок военно-морской службы, ни каждодневная муштра, ни телесные наказания за малейшую провинность, ни постоянные зуботычины, иногда просто «для порядку», – ничто не в состоянии убить в них духа справедливости, сочувствия к чужому горю, любви к родине и чувства воинского долга. Стоило заболеть матросу Ивану Артемьеву («Между своими»), как его окружают трогательной заботой. Даже в грубом, сиплом голосе ругателя– боцмана слышится непривычная нежность, а увлекательный рассказчик Рябкин, стараясь облегчить последние дни больного, присочиняет ко всем историям счастливые развязки. В простом матросе Федосе Чижике («Нянька»), некрасивом, рябоватом, таится столько душевной щедрости, такой педагогический талант, что Шурка привязывается к нему на всю свою жизнь. Старый матрос, никогда не знавший ласки, платит своему доброму воспитаннику горячей, самоотверженной любовью, и это покоряет даже придирчивую, капризную «барыню». Не меньше любви и привязанности к спасенному негритенку, проявляет матрос Лучкин («Максимка»). Эти по сути отцовские заботы о мальчике облагораживают Лучкина, прекрасного марсового, но отчаянного пьяницу.
Матросы живут во власти предрассудков. Они не видят большого урона для своего человеческого достоинства и в зуботычинах, если они не «за здря». Они набожны, религиозны и свои надежды возлагают на «добрых» офицеров и на «тот свет», где господ настигнет возмездие за все причиняемые им, матросам, притеснения. Живет в них и стойкое, ничем не оправданное предубеждение против нравов и обычаев тех народов, с которыми они знакомятся во время плаваний. Так, они с осуждением отзываются о ванне: с их точки зрения, она зазнамо хуже русской бани. С иронической снисходительностью высказываются они о туземцах. А в то же время матросы сочувствуют борьбе против отмены рабства в Америке, их отличает веротерпимость, они чужды пренебрежения к иноверцам: «…только я полагаю, что у бога все равны… Всем хлебушка есть хочется… А то как же? Господь на земле всех терпит. Небось не разбирает».
За матросами автор оставляет последнее решающее слово в оценке служебных, а главное – человеческих и нравственных достоинств того или иного персонажа. Мичману нужно было столкнуться с «беспокойным адмиралом» в остром конфликте, чтобы прозреть его внутреннее «я». Матросам оно видно и со стороны: «Нечего говорить, заботлив он о матросе. Господ донимает, муштру им задает, а матроса жалеет. И прост, – видно, что не брезгует простым человеком». Боцман Никитин, при всей своей свирепой наружности, никогда не дрался, не обижал матросов, всегда выступая их «представителем и защитником», и они о нем говорят: «Правильный человек Егор Митрич» («Ужасный день»). А заботливого, доброго капитана они окрестили «голубем».
Последнее слово матросов всегда безошибочно, потому что основано оно на уважении к законам морской службы и морского товарищества, на глубоком проникновении в тайники человеческой души и психологии. Вот как, например, объясняет Чижик отказ «барыни», несправедливо его наказавшей, признать свою перед ним вину: «А может, и понимает, да не хочет показать виду перед простым человеком». А вот характер «свирепых» офицеров и адмиралов и для них остается загадочной тайной: «Не разобрать евойной души… когда в ей зверь, когда человек… Видно, такой бог уродил».