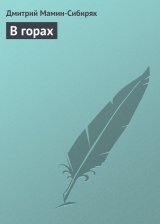
Текст книги "В горах.Очерк из уральской жизни"
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
I
…Мне пришлось сделать еще шагов двести, как до моего слуха явственно донеслись сдержанное, глухое ворчание и отрывистый, нерешительный лай; еще сто шагов – и лес точно расступился передо мною, открывая узкий и глубокий лог. На правой стороне его виднелся яркий огонь, который освещал небольшой палаустный[1]Note1
«Палаустными» на Урале называют такие балаганы, которые строятся наподобие детских домиков из двух карт. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)
[Закрыть] балаган, приткнувшийся к самой опушке леса; группа каких-то людей смотрела в мою сторону. Из высокой травы показалась острая морда лохматой собачонки; она лаяла на меня с тем особенным собачьим азартом, который проявляется у собак только в лесу. Не было сомнения, что я попал на стоянку каких-нибудь «старателей»,[2]Note2
Старателями в средней части Уральских гор называют тех приисковых рабочих, которые отыскивают золото или платину «от себя» и потом сдают ее арендатору прииска. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)
[Закрыть] заведенных в эту глушь жаждой легкой наживы и слепой верой в какое-то никому не известное счастье.
– Кто там, крещеный? – сердито окликнул меня мужской голос, когда между мной и балаганом оставалось всего шагов тридцать.
– Охотник… Сбился с дороги. Пустите переночевать, – отозвался я, защищаясь от нападавшей на меня собаки прикладом ружья.
– Какая ночью охота… – проворчал тот же мужской голос. – Тут, по лесу-то, много бродит вашего брата…
Сердитый бас, вероятно, прибавил бы еще что-нибудь не особенно лестное на мой счет, но его перебил мягкий женский голос, который с укором и певуче проговорил:
– Штой-то, Савва Евстигнеич, пристал ты… Разе не видишь – человек заплутался? Не гнать же его, на ночь глядя. Куфта, Куфта, цыц, проклятая! Милости просим… Садись к огню-то, так гость будешь!
Я подошел к самому огню, впереди которого стоял приземистый, широкоплечий старик в красной кумачной рубахе; серый чекмень свесился у него с одного плеча. Старик был без шапки; его большая седая борода резко выделялась на красном фоне рубахи. Прищурив один глаз, он зорко осматривал меня с ног до головы. Лохматая, длинная Куфта, не переставая рычать на меня, подошла к женщине, которая сидела у огня на обрубке дерева, покорно положила голову к ней на колени. Лица сидевшей женщины невозможно было рассмотреть, – оно было совсем закрыто сильно надвинутым на глаза платком.
– Здравствуйте! – проговорил я, вступая в полосу яркого света, падавшую от костра. – Пустите переночевать, – сбился с дороги…
– Мир, дорогой! – певуче ответила женщина, стараясь удержать одною рукой глухо ворчавшую на меня собаку. – Ишь ты, как напугал нас. Да перестань, Куфта!.. Мы думали, лесной бродит… Цыц, Куфта!.. Садись, так гость будешь…
Я хотел подойти к балагану, чтобы прислонить к нему ружье, и только теперь заметил небольшого, толстенького человечка, одетого в длиннополый кафтан и лежавшего на земле прямо животом; подперши коротенькими, пухлыми ручками большую круглую голову, этот человечек внимательно смотрел на меня. Я невольно остановился. Что-то знакомое мелькнуло в чертах этого круглого и румяного лица, едва тронутого жиденькой черноватою бородкой.
– Да это ты, Калин Калиныч? – нерешительно проговорил я наконец.
– А то как же-с?.. Я-с самый и есть, – растерянно и вместе радостно забормотал Калин Калиныч, вскакивая с земли и крепко сжимая мою руку своими маленькими, пухлыми ручками. – Да, я самый и есть-с…
– Да ты как попал сюда, Калин Калиныч?
– Я-с? Я-с… я-с… вот с Василисой Мироновной, – забормотал Калин Калиныч, почтительно указывая движением всего своего тела на сидевшую у огня женщину. – А вы на охоте изволили заблудиться?.. Место, оно точно, глуховато здесь и лесная обширность притом… Очень пространственно!
Калин Калиныч смиренно заморгал узкими глазками, улыбнулся какой-то виноватой, растерянной улыбкой и опустился опять на землю, пробормотав: «Да, здесь очень пространственно!»
– Я вам не помешаю? – спросил я, обращаясь ко всем.
– Известно, не помешаешь… Куда тебя деть-то, на ночь глядя, – отвечала Василиса Мироновна, не двигаясь с места. – Только ты, смотри, не заводи здесь табашного духу… Место здесь не такое. А ты чьих будешь?
Я назвал свою фамилию. Раскольница, Василиса Мироновна, известная всему Среднему Уралу, как раскольничий поп, посмотрела еще раз на меня и заговорила уже совсем ласково:
– Знаю, знаю! Слыхала… А в лесу-то как заплутался?
Я присел к огню и в коротких словах рассказал свою историю, то есть как я рано утром вышел на охоту с рудника Момынихи, хотел вернуться туда обратно к вечеру, а вместо того попал сюда.
– Одначе здоровый крюк сделал! – проговорила Василиса Мироновна, обращаясь к старику.
– Ему бы надо было обогнуть Черный Лог, а потом Писаный Камень… Тут ложок такой есть, так по нему до Момынихи рукой подать, – отвечал старик.
– А отсюда до Момынихи сколько верст будет? – спросил я старика.
– Да как тебе сказать, чтобы не соврать… Вишь, кто их, версты-то, в лесу будет считать, а по-моему, в двадцать верстов, пожалуй, и не укладешь.
– А как этот лог называется, где вы стараетесь?
– Да кто его знает, как он называется… – с видимой неохотой отвечал старик. – По логу-то, видишь, бежит речушка Балагуриха, так по ней, пожалуй, и зови его…
– А ты, поди, есть хочешь, сердешный? – ласково спросила Василиса Мироновна и, не дожидаясь моего ответа, подала мне большой ломоть ржаного хлеба и пучок луку. – На-ка, вот, закуси, а то натощак спать плохо будешь… Не взыщи на угощеньи, – наше дело тоже странное:[3]Note3
Странное – странническое. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)
[Закрыть] что было, все приели, а теперь один хлебушко остался. Вон Калин говорит: к чаю привык, так ему сухой-то хлеб и не глянется.
– Ах, уж можно сказать-с: слово скажут-с, как ножом обрежут! – умильно говорил Калин, крутя головой и закрывая глаза.
Охотники знают, как иногда бывает вкусен кусок черного хлеба; я с величайшим удовольствием съел ломоть, предложенный мне Василисой Мироновной, и запил его кислым квасом из бурачка Калина Калиныча. Когда я принялся благодарить за этот ужин, раскольница опустила глаза и скромно сказала:
– Не обессудь, родимый. Чем богаты, тем и рады, – не взыщи с нас. – Помолчав немного, она прибавила: – Ты, поди, совсем смотался со своей охотой: ступай в балаган, там уснешь с Гришуткой… Мальчик тут есть с нами, так он в балагане спит. Калин любит в балагане-то спать, – ну, да сегодня с нами уснет у огонька, а твое дело непривычное…
Мне было совестно отнимать место у Калина Калиныча, но пришлось помириться с этим, потому что Василиса Мироновна и слышать не хотела никаких отказов, а Калин Калиныч отворачивал от меня голову, корчил какую-то гримасу и делал руками такой жест, как будто отгонял от себя мух. Сон валил меня с ног, глаза давно слипались, и искушение было слишком сильно, чтобы продолжать отказываться дальше, – я согласился.
II
Простившись с новыми знакомыми, я отправился в балаган, где спал под овчинным тулупом Гришутка, мальчик лет тринадцати. Против Гришутки, у самой стены балагана, была устроена из травы постель Калина Калиныча. Я расположился на ней и протянул уставшие ноги с таким удовольствием, что, кажется, не променял бы своего уголка ни на какие блага в мире. Я надеялся уснуть мертвым сном, как только дотронусь до постели, но ошибся в своем расчете, потому что слишком устал, и сон, по меткому выражению русского человека, был переломлен. От нечего делать принялся я рассматривать балаган, в котором лежал. Сначала было трудно разглядеть что-нибудь, но мало-помалу глаз привык к темноте. Прежде всего выделились стены и крыша балагана; они были сделаны из свежей еловой коры, настланной на перекрещенные между собою жерди. Вверху жерди соединялись перекладинами. В одном месте концы жердей разошлись и образовали небольшой просвет: виднелся клочок синего неба с плывшей по нему звездочкой. В балагане от свежей еловой коры стоял острый смолистый запах. Извне ползла в балаган свежая струя ночного воздуха, пропитанная запахом травы и лесных цветов. Около балагана, в густой, покрытой росой траве, копошились какие-то насекомые, звонко трещал где-то кузнечик; со стороны леса время от времени доносился смутный и неясный шорох. Где-то далеко ходила спутанная лошадь; слышно было, как тяжело она прыгала и звонко била землю передними ногами.
В воздухе стояла торжественная тишина, и эти отрывистые и разрозненные звуки ночи не могли нарушать ее, точно они тонули в ней, как в воде. Из моего уголка была отлично видна вся площадка перед балаганом. Калин Калиныч лежал по-прежнему на земле, время от времени поворачивая к огню то один бок, то другой. Рядом с ним сидел старик; он поправлял горевшие дрова и прибавлял новых. Когда старик бросал в огонь несколько полен сразу, целый сноп искр взлетал кверху и обсыпал сидевших огненным дождем, причем Калин Калиныч закрывал лицо руками и улыбался, Одна Василиса Мироновна оставалась неподвижной, продолжая сидеть на обрубке дерева. Огонь отлично освещал всю ее фигуру и лицо, и я мог из своего уголка рассматривать знаменитую раскольницу, сколько хотел. Ей было лет за сорок. Это была высокая, коренастая женщина, смуглая и немного худощавая, но с могучею грудью и сильными руками. Лицо у ней было большое, с крупными, неправильными чертами, с большим, широким носом и толстыми губами, открывавшими два ряда ослепительно белых зубов. Всего лучше в этом лице были карие светлые глаза; они настойчиво и пытливо смотрели своим ласковым взглядом насквозь и придавали лицу какое-то особенное выражение самоуверенного спокойствия. Одета Василиса Мироновна была в синий кубовый сарафан с желтыми проймами и ситцевую розовую рубашку; на голове повязан по-раскольничьи темно-коричневый платок, сильно надвинутый на глаза и двумя концами спускавшийся по спине. Наружность Калина Калиныча была совершенно противоположного характера: низенький, толстый, немного сутуловатый, с короткой шеей, короткими ножками и непропорционально длинным туловищем, он точно был составлен из нескольких человек: у одного взяли руки, у другого – ноги, у третьего – туловище. Только голова у Калина Калиныча была своя собственная, потому что ни у кого другого такой головы и быть не могло: она была совершенно круглая, круглая, как шар, толстая и жирная, с подстриженными в скобу и сильно намазанными деревянным маслом волосами. Пара узеньких черных глазок смотрела из-под густых бровей с боязливо-напряженным, детски-вопросительным выражением. Ходил Калин Калиныч на своих кривых, маленьких ножках развалистым, бесхарактерным шагом, как закормленный селезень, имел странную способность постоянно потеть и постоянно утирал лицо бумажным платком, на котором было нарисовано сражение. Только когда Калин Калиныч улыбался, его лицо точно светлело каким-то внутренним светом.
– Говорят, к нам на Старый завод нового станового пришлют, – говорил старик, глядя на огонь.
– Врут! – резко ответила Василиса Мироновна. – Все врут. Теперь, почитай, третий год пошел, как говорят про нового станового, и все зря болтает народ. Да хоть и нового пришлют, так не легче: к новому еще привыкать надо, да приедет он голоден и холоден; пока набьет карман, не знаешь, с которой стороны к нему и подойти… А старый уж насосался, – ему и шевелиться-то теперь лень…
– А больно он смешон попервоначалу-то был, – улыбаясь, говорил старик.
– Кто это?
– Ну, Пальцев-то. Я тогда на Пристани жил, и пали до нас слухи, что новый становой назначен, а тут, как на грех, у нас на Пристани человека порешили… Оно, пожалуй, и не человека, а бабу-солдатку, – ну, да начальство не разбирает, и сейчас к нам станового. Приехал… Так и так, понятых, следствие, всякое прочее. Тогда на следствии баба одна, Анисьей звали, заперлась – и шабаш: «Знать не знаю, ведать не ведаю», – а сама все знала. И мы это знали и ждем, как Пальцев примет ее. Дело было в волости. Пальцев сидит за столом, по сторонам – казаки, сотские, все, как следовает. Привели Анисью… «Ну, ангел мой, – говорит Пальцев, – говори все, что знаешь по этому делу». Бабенка со страху заперлась во всем, конечно. Бился, бился с ней Пальцев, а потом и говорит: «Побеседуйте-ко с ней», – это он казакам своим, – ну те, известное дело, охулки на руку не положат, увели Анисью и всыпали ей, сколько влезет. Привели, ревет, а все запирается. «Нет, ангел мой, – говорит Пальцев, а сам смеется, – тебя, видно, посеребрить надо!» Мигнул казакам, – ну, те и посеребрили, всю спину спустили нагайками. Все рассказала баба-то после этого, а Пальцев опять смеется: «Давно бы так, говорит… А только ты, говорит, помни мое серебро и благодари бога, что не велел позолотить…»
– Пальцев крут, а сердце у него отходчивое, – говорила Василиса Мироновна.
– Да, как на него взглянется: один раз посмеется только, а другой – так посеребрит, что небо с овчинку покажется… Раз на раз не приходит… Зимой как-то я его вез на Старый завод (я тогда ямщину гонял), а он кричит: «Пошел, ангел мой!» Ну, коли, думаю, пошел, так уважу я тебя, а ехали мы на тройке, которую завсегда под станового ставил, – звери, а не лошади. Вышло под гору ехать, слышу, кричит Пальцев и в шею меня толкает… Пустил я коней, дух инда захватило, а когда оглянулся – Пальцева в кошевой как не бывало; его в нырке тряхнуло да прямо в сторону, в снег. Вижу, он там по снегу валандается, воротился, посадил опять в кошевую и думаю: «Быть, мол, мне у праздника: приедем на завод, так посеребрит…» Приехали, подкатил его к крыльцу, а сам сижу ни жив ни мертв. «Погоди, – говорит Пальцев, – мне с тобой, говорит, рассчитаться надо». Ну, думаю, пришел мой конец, – знаю, мол, какой у тебя расчет бывает. Сижу этак на облучке, пригорюнился, а Пальцев выходит на крыльцо и стакан водки из своих рук мне выносит. Чудной барин!.. «Я, говорит, вас всех насквозь вижу: ты, говорит, еще не подумал, а уж я, ангел мой, вперед знаю, что ты меня надуть хочешь».
Все немного помолчали. Старик подбросил в огонь дров и заговорил с кроткой улыбкой:
– Тут, в позапрошлом году, возил я в Махнево мирового… Вот где страсти набрался: думал, он меня совсем порешит…
– Это Федя-то Заверткин?
– Он самый. Был он у нас на Старом заводе в гостях у приказчика. Спросили лошадей, работники все в разгоне, – пришлось мне ехать самому. Подаю лошадей, а он и выйти сам не может, потому грузен свыше меры. Так его на руках и вынесли и свалили в кошевую. Поехали. Свернулся он калачиком на донышке и лежит. Ну, думаю, только привел бы господь живого до дому довезти, а от него винищем так и разит, точно с сороковой бочкой еду. Проехали этак верстов с десять, он и проснись… «Стой! – кричит. – Где едем?» – «Так и так, ваше благородие…» – «Ах ты, говорит, такой-сякой, да разе я, говорит, туда тебе велел ехать?» – «Никуда, говорю, вы мне не приказывали ехать, ваше благородие…» – «Так ты, говорит, со мной еще разговариваешь?» – а сам как запалит меня в загривок. У меня так и заскребло на сердце, – обидел он меня, – так бы вот его взял да перекусил пополам… А он догадался, вынял леворвет и говорит: «Вот где твоя смерть сидит, только пошевелись!..» Вот, думаю, какой мудреный барин попал, а сам говорю: «Зачем, говорю, ваше благородие, меня обидели?» – «Поворачивай назад в Махнево!» – кричит Заверткин. Нечего делать, повернул, а то, думаю, пристрелит с пьяных-то глаз, Приехали мы на завод, он прямо к одной солдатке – так, совсем бросовая бабенка, – посадил ее с собой в кошевую и цепь на себя надел, да с песнями по всему заводу и покатили… А что дорогой было, так, кажется, и пером этого не описать! Что этого вина выпили – страсть!.. Этак, на половине дороги, как мировой выскочит из кошевой – да плясать, да вприсядку, только цепь трясется. И мировой пляшет, и солдатка пляшет, а мне и смешно, и смеяться боюсь… Потом сел мировой в кошевую и давай солдатку поправлять с одной щеки на другую… И этого показалось мало: взял ее ногами в передок затолкал, так она, сердешная, там до самого заводу и пролежала… Ведь он у меня в те поры порешил тройку-то, – прибавил рассказчик.
– Как порешил?
– Загнал всех лошадей начисто.
– Заплатил?
– Какое заплатил! Я же две недели отсидел в темной… И с ямщины согнал.
– Этакой пес! – ворчала Василиса Мироновна. – Хуже станового будет…
– В тыщу раз хуже: становой што? Становой – человек все-таки с рассуждением, а это просто разбойник, – того гляди, убьет… Становой обнакновенно возьмет свое и острастку задаст, а таких безобразиев я не видывал.
– Оно точно, что Федор Иваныч большие безобразники, – вставил свое слово Калин Калиныч, хранивший все время молчание. – Как-то намеднись у старшины в гостях были, так они чуть мне вилкой глаз не выткнули… Ей-богу-с! И беспременно бы выткнули, если б я не исполнил все по-ихнему: налили мне полрюмки водки, наклали туда горчицы, перцу, карасину налили, – ведь выпил-с!
– Кто выпил?
– Да я выпил-с, – с невозмутимой улыбкой отвечал Калин Калиныч. – И после этого ничего худого со мной не было, только очинно вспотел-с… Так уж господь-батюшка пронес меня за родительские молитвы…
– Ишь ведь, гнус какой завелся! – сердито ворчала Василиса Мироновна.
– А вы это напрасно, Василиса Мироновна, – вступился Калин Калиныч. – Ей-богу-с, напрасно… Федор Иваныч точно что большие озорники и любят удивить, а душа у них добрая… Ей-богу, так-с!..
– Ах, Калин, Калин, – качая головой, строго говорила раскольница, – дожил ты до седого волоса, а все у тебя нет разума… Разе есть душа у пса?
– А вот и скажу, и всегда скажу! – с азартом протестовал Калин Калиныч. – Теперь возьмите хоть Аристарха Прохорыча: человек богатеющий, а нынче меня в воду с плота столкнул, так я совсем было захлебнулся, да спасибо кучер ихний меня вытащил… И ведь я бы не обиделся, как бы это делалось не с сердцов. Это он, Аристарх-то Прохорыч, с сердцов все делают, а Федор Иваныч – другое: он – от души, для смеху. Они и стул выдернут, и карасином напоят, и подколенника дадут, а я не обижаюсь… Ей-богу, не обижаюсь! Мне что? Лишь бы я кого не обидел, а там – бог с ними.
Василиса Мироновна молчала, а потом, повернув свое строгое лицо к Калину Калинычу, резко проговорила:
– Ну, а дочь у тебя где, Калин?
– Дочь?.. Дочь на месте… Учительшей служит, – не без робости проговорил Калин Калиныч, а потом неожиданно для всех прибавил: – А ведь я ее проклял-с… Ей-богу, проклял-с! Да ведь еще как: в самый прощеный день на масленой проклял-с… Стал пред образом и говорю: «Будь ты, Евмения, от меня проклята… Я тебе больше не отец, ты мне – не дочь!»
Василиса Мироновна только покачала головой, и старик тяжело вздохнул.
– А ведь она меня обидела как, – продолжал Калин Калиныч, садясь на землю и складывая ножки калачиком. – Сели мы в прощеный день обедать, она и давай меня донимать… «Ты, говорит, тятенька, хлеб только даром ешь». Ей-богу-с!.. «Какой в тебе, говорит, толк? Вон, говорит, у нас корова-пестрянка, так она хоть молоко дает; я, – про себя говорит, – жалованье из школы получаю, а ты, говорит, все равно, как сальный огарок: бросить жаль, а зажечь нечего». Как она мне это самое слово сказала, уж мне очень обидно это показалось, потому все-таки я ей родной отец, и она мне пpямo в глаза такие слова выговаривает… Слезы у меня на глазах, а она надо мной же хохочет. «Какой, говорит, ты мне отец? Ты бы мне хоть рост настоящий дал, так я бы, говорит, в актрисы пошла… Всякий урод, говорит, женится, наплодит уродов, – это она меня и себя уродами-то крестит, – а потом, говорит, и живи, как знаешь». А я ей и говорю: «Это, мол, Венушка, не от нас – и рост и детки, – от бога, мол, все это, а на бога приходить[4]Note4
Роптать. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)
[Закрыть] грешно!» Она посмотрела этак на меня да как захохочет… Ну, я ее и проклял, а она все хохочет. Уж в кого она такая уродилась, и ума не приложу, – во всей нашей прероде не было таких карахтеров.
– Нехорошо это, больно нехорошо, – говорила Василиса Мироновна, строго глядя на Калина Калиныча.
– И сам знаю, что нехорошо, да уж сердце у меня такое… Не могу удержаться, – точно там порвется! Ей-богу-с, себе не рад другой раз. Только оно у меня отходчиво, и даже совестно бывает после.
– А с дочерью-то помирился? – спрашивала раскольница.
– Помирился и проклятие снял-с… У Венушки сердце тоже доброе, – она вся в меня сердцем-то; только уж карахтер у ней – и в прероде нашей никого не было таких!..
Старик только покрутил головой и с каким-то отчаянием махнул рукой.
Все замолчали. Огонь горел яркими косматыми языками, жадно лизавшими холодный воздух; темная струя дыма столбом уходила вверх, откуда изредка падала одинокая светлая искорка и скоро потухла в покрытой росой траве. Василиса Мироновна сосредоточенно смотрела в огонь; старик дремал, завернувшись в чекмень; Калин Калиныч подкладывал в огонь дрова, но, очевидно, это было для него непривычным делом, потому что он несколько раз обжег себе руки, и искры фонтаном сыпались на него каждый раз, когда дрова падали в костер.
– А что Аристарх Прохорыч? – спрашивала раскольница, когда Калин Калиныч, как собачка, свернулся калачиком у огонька.
Калин Калиныч энергично махнул рукой и заговорил:
– У них, можно сказать, дрянь дело, потому теперь пошло оно в суд, а Евдоким Игнатьич говорят, что двадцать тысяч не пожалеют, только бы сделать неприятность Аристарху Прохорычу… Адвокатов наняли, свидетелей человек сорок вызвали. Беда!..
– И ты в свидетелях?
– И меня запутали, грех их бей!..
– Чего же ты показывать будешь?
– А так и скажу, что знать ничего не знаю, и кончено! Ведь я тогда точно что ездил с Аристархом Прохорычем в Москву, а все-таки про их дела ничего не могу сказать-с. Адвокат-то Аристарха Прохорыча намеднись приезжал ко мне, пытал меня, да с тем и уехал, с чем приехал.
– А ты слышал, что Евдоким-то Игнатьич твою дочь в свидетельницы выставил?
– Нет-с… Только этого не может быть, потому Венушка хоть и бывала у Аристарха Прохорыча, а ихних делов не знает.
Калин Калиныч, видимо, смутился, но потом успокоился, и прибавил:
– Это все их адвокат мутит…
– Адвокат адвокатом, только ихнее дело нечистое.
– А кто же, по-вашему, виноват?
– А по-моему – оба виноваты… Вор у вора дубинку украл, вот и завели суд. Это два слепца, которых привязали к одной жерди… Понял?








