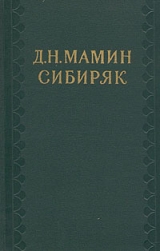
Текст книги "Том 3. Горное гнездо"
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)
XII
Пока совершался торжественный проезд Лаптева от церкви до господского дома, в этом последнем нервное напряжение достигло до последней степени. Раиса Павловна чувствовала, как у ней похолодели пальцы, а в висках стучала кровь. В своем шелковом кофейном платье, с высоко взбитыми волосами на голове, она походила на театральную королеву, которая готовится из-за кулис выйти на сцену с заученным монологом на губах. Аннинька, m-lle Эмма и Прасковья Семеновна выглядывали на улицу из-за оконных драпировок, а Раиса Павловна стояла у окна вместе с Лушей, одетой в свое единственное нарядное платье из чечунчи. «Галки» с лихорадочным нетерпением переживали все перипетии развертывавшейся пред их глазами комедии. Аннинька во всей этой суматохе видела только одного человека, и этот человек был, конечно, Гуго Братковский; m-lle Эмма волновалась по другой причине – она с сердитым лицом ждала того человека, которого ненавидела и презирала. Прасковья Семеновна смотрела вдоль Студеной улицы со слезами на глазах, точно сегодняшний день должен был окончательно разрешить ее долголетние ожидания. Теперь уж ждала не одна она, а все ждали – и Раиса Павловна, и m-lle Эмма, и Аннинька. Раиса Павловна внимательно наблюдала Лушу и любовалась ею. Разве эта девушка нуждалась в бархате, кружевах и остальной мишуре, когда природа наделила ее с такой несправедливой щедростью? В порыве чувства Раиса Павловна тихонько поцеловала Лушу в шею и сама покраснела за свою институтскую нежность, чувствуя, что Луше совсем не правятся проявления чувства в такой форме.
Волна оглушительных криков, когда поезд с барином двинулся от церкви, захлестнула и во второй этаж господского дома, где все встрепенулось, точно по Студеной улице ползло тысячеголовое чудовище. Луша смотрела на двигавшуюся но улице процессию с потемневшими глазами; на нее напало какое-то оцепенелое состояние, так что она не могла двинуть ни рукой, ни ногой. Вот и дормез, который катился по улице точно сам собой… Мелькнула шапочка Лаптева, его волнистые белокурые волосы; Прейн весело раскланялся с Раисой Павловной и, прищурившись, пристально взглянул на Лушу. Луше показалось, что и Лаптев тоже смотрит на нее, и она инстинктивно отскочила от окна в глубину комнаты.
– Приехал! приехал! – восторженно шептала Прасковья Семеновна, не утирая слез, катившихся у нее по щекам.
Пока Лаптев принимал хлеб-соль, к господскому дому подъезжала одна тройка за другой. Из экипажей выходил всевозможный человеческий сброд, ютившийся вокруг Лаптева: два собственных секретаря Евгения Константиныча, молодые люди, очень смахивавшие на сеттеров; корреспондент Перекрестов, попавший в свиту Лаптева в качестве представителя русской прессы, какой-то прогоревший сановник Летучий, фигурировавший в роли застольного забавника и складочного места скабрезных анекдотов, и т. д. Большинство составляло какие-то темные, потертые личности в отличных дорожных костюмах; кто они и что – вероятно, не открыть никаким химическим анализом, никаким самым тщательным микроскопическим исследованием. Эти господа смотрели свысока на всех, презрительно пожимали плечами и лениво перебрасывались шаблонными французскими фразами. Раиса Павловна достаточно насмотрелась на своем веку на эту человеческую мякину, которой обрастает всякое известное имя, особенно богатое, русское, барское имя, и поэтому пропускала этих бесцветных людей без внимания; она что-то отыскивала глазами и наконец, толкнув Лушу под руку, прошептала:
– Вот она,Луша…
– Кто?
– Да та каналья, которая едет с генералом в качестве его… ну, его метрессы.
Раиса Павловна в бинокль пристально рассматривала толстую, безобразную, небольшого роста даму, которая сидела в дорожной коляске генерала.
– Это какой-то орангутанг! – пропищала Аннинька, сдержанно хихикая. – Эммочка, голубчик! посмотри… Настоящая обезьяна в мешке!
– Жеваная котлетка… – коротко проговорила m-lle Эмма, лорнируя незнакомку. – Точно сейчас вынутый из банки со спиртом урод!
– Удивляюсь! – медленно протянула Раиса Павловна, поднимая кверху свои жирные плечи.
«Галки» тоже подняли свои плечи и удивились неприхотливому вкусу генерала Блинова. Суд был короток, и едва ли какой другой человеческий суд вынес бы такой строгий вердикт, как суд этих женщин.
Коляска генерала проследовала к генеральскому флигельку, где Нину Леонтьевну встретил пан Братковский, улыбавшийся и державший почтительно свою соломенную шляпу в руках.
– Настоящая чугунная болванка! – проговорила m-lle Эмма, когда Нина Леонтьевна вкатилась своей почти квадратной тушей в недра генеральского флигелька.
– Удивляюсь! – еще раз протянула Раиса Павловна и улыбнулась уничтожающей улыбкой, какая убивает репутацию человека, как удар гильотинного ножа.
– Видели? – сдержанным шепотом спрашивал Родион Антоныч, точно вынырнувший около Раисы Павловны из-под земли.
– Да, да… поздравляю с находкой!.. Это какое-то гороховое чучело… монстр! Удивляюсь!!. А что Евгений Константиныч?
– Изволят одеваться, Раиса Павловна. Просто чистая беда… Отец Аристарх давеча хотел сказать приветственное слово и со страху только бородкой трясет… Ей-богу!.. А народ что делает! Видели, как лесообъездчики катили дормез-то! Как быки, так и прут!
– Что вы тут толчетесь? – оборвала его болтовню Раиса Павловна. – Посмотрите, все ли готово в столовой.
– Смотрел, все смотрел. Готово все-с. Только Евгений Константиныч выйдут из уборной, сейчас я вам прибегу сказать.
– Хорошо, хорошо… Mademoiselle Эмма, у вас пуговка у лифа расстегнулась. Аннинька, поправьте галстучек… А ты куда, Луша?
– Я домой, Раиса Павловна.
Раиса Павловна торопливо поцеловала свою фаворитку и отпустила ее восвояси. Луша, пошатываясь, вышла из комнаты, прошла через веранду и в каком-то тумане побрела к своему нищенскому углу. Глаза у ней горели, грудь тяжело поднималась, в горле стояли слезы. Никогда еще девушка не чувствовала себя такой жалкой и ничтожной, как в этот момент, и от бессильной злобы в клочки рвала какую-то несчастную оборку на своем платье. А июньское солнце светило таким благодатным светом, обливая дрожавшим и переливавшимся золотом деревья, траву, цветы и ряды волн, плескавшихся о каменистый берег. Ничего этого не видела Луша, придавленная и уничтоженная своей нищетой.
Раиса Павловна тревожно поглядывала на часы, считая минуты, когда ей нужно будет идти в столовую в качестве хозяйки и вывести за собой «галок», как необходимый элемент, в видах оживления предстоящей трапезы. Прасковья Семеновна в счет не шла.
– Раиса Павловна! – прошептала Аннинька, показывая глазами на то окно, из которого можно было видеть генеральский флигелек.
Изумленным глазам Раисы Павловны представилась такая картина: Гуго Братковский вел Нину Леонтьевну под руку прямо к парадному крыльцу. «Это еще что за комедия?» – тревожно подумала Раиса Павловна, едва успев заметить, что «чугунная болванка» была одета с восточной пестротой.
– Прошли в господский дом… – как эхо повторила Аннинька мысли своей патронши. – Вероятно, это чучело ошиблось подъездом.
Когда через пять минут в комнату вбежал встревоженный и бледный Родион Антоныч, дело разъяснилось вполне, с самой беспощадной ясностью для всех действующих лиц.
– Раиса Павловна! Раиса Павловна! – задыхаясь, шептал верный слуга. – Она… та,которая приехала с генералом, теперь в столовой и… и…всем распоряжается. Да, своими глазами видел!
– Не может быть, вы ошиблись? – заметила Раиса Павловна, выпрямляясь во весь рост.
– Нет, Раиса Павловна… Я слышал, как онасказала генералу, что желает быть здесь полной хозяйкой и никому не позволит угощать Евгения Константиныча обедом. Генерал ее начал было усовещивать, что настоящая хозяйка здесь вы, а она так посмотрела на генерала, что тот только махнул рукой.
В голове у Раисы Павловны от этих слов все пошло кругом; она бессильно опустилась на ближайшее кресло и только проговорила одно слово: «Воды!» Удар был нанесен так верно и так неожиданно, что на несколько мгновений эта решительная и энергичная женщина совсем потерялась. Когда после нескольких глотков воды она немного пришла в себя, то едва могла сказать Родиону Антонычу:
– Передайте Прейну и Платону Васильичу, что я извиняюсь пред Евгением Копстантинычем, что не могу сегодня, по болезни, занять за столом свое место хозяйки дома…
«Галки» окружили Раису Павловну, как умирающую. Аннинька натирала ей виски одеколоном, m-lle Эмма в одной руке держала стакан с водой, а другой тыкала ей прямо в нос каким-то флаконом. У Родиона Антоныча захолонуло на душе от этой сцены; схватившись за голову, он выбежал из комнаты и рысцой отправился отыскивать Прейна и Платона Васильевича, чтобы в точности передать им последний завет Раисы Павловны, которая теперь в его глазах являлась чем-то вроде разбитой фарфоровой чашки.
В столовой, где был сервирован обед, Родион Антоныч увидел Нину Леонтьевну, окруженную обществом милых бесцветных людей, ходивших за ней хвостом. Тут же толклись корреспондент Перекрестов и прогоревший сановник Летучий, ходившие по столовой под ручку и уже давно нюхавшие воздух.
– Когда я был в Сингапуре, нас капитан угостил однажды китайской рыбой… – повествовал Перекрестов, жидкий и вихлястый молодой человек, с изношенной, нахальной физиономией, мочальной бороденкой и гнусавым, как у кастрата, голосом.
Летучий был не лучше, хотя и в другом роде. Это был седой приличный субъект, с слезившимися голыми глазами старого развратника и плотоядной улыбкой на сморщенных, точно выжатых губах; везде, где только можно, у него блестело массивное золото без пробы и фальшивая бриллиантовая булавка в галстуке. Говорил он хриповатым баском и постоянно потирал свои большие руки, затянутые в безукоризненно-свежие лайковые перчатки. Когда-то Летучий был сановником, попечениям которого был вверен целый край, по колесо фортуны повернулось, и он очутился в приживалках у Лаптева, которого утешал своими анекдотами «из детской жизни». Перекрестов, рядом с этим вымирающим типом помпадурства, являлся настоящим homo novus; в качестве представителя русской прессы он не только из конца в конец обрыскал свое отечество, но исколесил Европу и даже сделал несколько кругосветных путешествий. Его гений не знал меры и границ: в Америке на всемирной выставке он защищал интересы русской промышленности, в последнюю испанскую войну ездил к Дон-Карлосу с какими-то дипломатическими представлениями, в Англии «поднимал русский рубль», в Черногории являлся борцом за славянское дело, в Китае защищал русские интересы и т. д. Единственным плодом от этой кипучей деятельности остались только захватывающие воспоминания о том. что и как он, Перекрестов, ел в Яффе, в Сан-Франциско, в Шанхае, в Кадиксе, в Бостоне, в Каире, Биаррице, Ментоне, на острове Уайте и т. д. На Урал Перекрестов явился почти делегатом от горнопромышленных и биржевых тузов, чтобы «нащупать почву» и в течение двух недель «изучить русское горное дело», о котором он будет реферировать в разных ученых обществах, печатать трескучие фельетоны и входить с докладными записками в каждую официальную щель и в каждую промышленную дыру.
Среди этого сомнительного общества сомнительных людей Нина Леонтьевна являлась настоящим перлом. Небольшого роста, с расплывшимся бюстом, с короткими жирными руками и мясистым круглым лицом, она была безобразна, как ведьма, но в этом лице сохранились два голубых крошечных глаза, смотревших насквозь умным, веселым взглядом, и характерная саркастическая улыбка, открывавшая два ряда фальшивых зубов. В каком-то невозможном голубом платье, с огненными и оранжевыми бантами, она походила на аляповатую детскую игрушку, которой только для проформы проковыряли иголкой глаза и рот, а руки и все остальное набили наклей.
– Послушай, Нина, сейчас Прейн передал мне, что Раиса Павловна хочет сказаться больной, – говорил нерешительно генерал, покручивая усы. – Это выйдет очень неловко… Горемыкина – хозяйка в этом доме, и не пригласить ее просто неделикатно.
– Ты ошибаешься, – с тонкой улыбкой ответила Нина Леонтьевна, – предоставь это, пожалуйста, мне… Необходимо сразу показать ей, где ее настоящее место. К чему разводить эти никому не нужные нежности? Я такая же хозяйка здесь, и ты можешь выбирать между мной и ей…
– Ты забываешь, Нина, как к этому отнесется Прейн.
– О, это не ваша забота, Мирон Геннадич… Не лучше ли вам позаботиться о том, что Евгению Константиновичу пора показаться к народу, который просто неистовствует на улице.
Действительно, под окнами господского дома время от времени точно закипала волна буруна, и в воздухе дыбом поднимался тысячеголосый крик. Генерал только пожал плечами и направился в уборную. Теперь в приемных комнатах оставалась только приехавшая с Лаптевым челядь да избранники в лице заводских управителей. Вершинин, Майзель, Буйко, Дымцевич, Сарматов, доктор Кормилицын, Платон Васильевич и еще несколько человек заслуженных стариков сбились в одну плотную кучу и терпеливо выжидали, когда наконец покажется Евгений Константиныч. «Малый двор» чувствовал себя не совсем хорошо пред лицом «большого двора», хотя Прейн успел со всеми поздороваться и всякому сказать бойкое приветливое слово. Генерал пока познакомился только с Платоном Васильичем и Майзелем, он не обладал счастливым даром скоро сходиться с людьми.
Отыскав Платона Васильевича и отведя его в сторону, он вполголоса расспрашивал о Прозорове и время от времени сосредоточенно покачивал своей большой головой, остриженной под гребенку. Горемыкин был во фраке и постоянно поправлял свой белый галстук, который все сбивался у него на сторону.
– Жаль, очень жаль… – говорил генерал, посматривая на двери уборной. – А какой был талантливый человек! Вы думаете, что его уже невозможно спасти?
– Трудно, ваше превосходительство…
– Так, так… Необходимо будет увезти его отсюда, – вслух думал генерал. – У него, кажется, была дочь, если не ошибаюсь?
– Да, теперь совсем взрослая девушка… и очень красивая. Виталий Кузьмич вообще ведет странный образ жизни и едва ли удержится на каком-нибудь другом месте.
Родион Антоныч, не теряя из виду управительского кружка, зорко следил за всеми, особенно за Братковским, который все время сидел в комнате, где была Нина Леонтьевна, и только иногда показывался в зале, чтобы быть на виду у генерала на всякий случай. «Тонкая бестия эта шляхта, – думал про себя Родион Аптопыч, утирая вспотевшее лицо платком и со страхом поглядывая на сердитого генерала. – Ох, всех подтянет, всех… Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его!..» Когда генерал поворачивался в сторону Родиона Антоныча, он слегка наклонялся вперед и начинал улыбаться блудливой, жалкой улыбкой. Но главное внимание Родиона Антоныча было занято улицей, где гудела десятитысячная толпа и время от времени нестройными вспышками поднималось «ура»; он постоянно подбегал к окошку и зорко вглядывался в море голов, отыскивая кого-то глазами. Швейцару и лесообъездчикам строго-настрого было заказано не пускать близко к подъезду всяких «сумнительиых» мужиков, которые могли принести за пазухой какую-нибудь «бумагу к барину», но все-таки осторожность не была лишней. Рабье сердце Родиона Антоныча было теперь преисполнено блаженным трепетом: барин был в двух шагах – он сейчас выйдет. У верного слуги даже щипало в горле от неиспытанного счастья лицезреть барина, который в течение двадцати лет являлся какнм-то полумифическим существом.
Ожидание продолжалось уже целый час, а барин все не показывался. Прейн несколько раз наведывался в его комнату и успел уже переодеться два раза. Генералу тоже надоело ждать, и он тоже отправился в уборную, где и застал такую картину. Чарльз, вытянутый и важный, почтительно стоял у дверей, а сам Лаптев заставлял великолепного бланжевого пойнтера Брунгильду подавать поноску. Умная собака, стоившая несколько тысяч, сходила за брошенным платком раз десять, а затем, видимо, смутилась и, помахивая тонким хвостом, вопросительным умным взглядом смотрела на m-r Чарльза.
– Господи, что же это такое? – взмолился генерал, останавливаясь перед Лаптевым. – Евгений Константиныч! вас ждут целый час тысячи людей, а вы возитесь здесь с собакой! Это… это… Одним словом, я решительно ие понимаю вас.
– Посмотрите, генерал, какая упрямая эта Брунгильда, – весело ответил Лаптев, – а я еще упрямее и непременно заставлю ее сделать по-своему. Вы сами увидите… Brunehaut, apporte!.. [13]13
Брунгильда, принеси!.. (фр.).
[Закрыть]
XIII
Когда Родион Антоныч сообщил о болезни Раисы Павловны, Прейн только поднял высоко брови и равнодушно проговорил:
– Ага!
– Она извиняется, что не может выйти к обеду, – продолжал Родион Антоныч, склоняя голову на один бок.
– Ага!
– Раиса Павловна просила передать свои извинения Евгению Константинычу.
– Ага!
У бедного Ришелье защемило на душе от этого «ага», которое черт его знает что значило.
За обедом о Раисе Павловне тоже не было сказано ни одного слова, хотя за столом сидели битых два часа, вплоть до самого вечера. Это был своего рода первый застольный турнир между малым и большим двором, на котором противники могли помериться силами. «Большой двор», конечно, подавлял «малый» своими исключительными преимуществами, хотя все по возможности старались держать себя на равной ноге. Евгений Константиныч говорил мало и преимущественно обращался к Нине Леонтьевне, которая, видимо, пользовалась его особенным вниманием. Кроме других лакеев, за столом прислуживал и m-r Чарльз, который подавал кушанье только своему патрону, Прейну, генералу, Нине Леонтьевне и Платону Васильевичу. Последний все время сидел как на иголках: у бедного ходили круги в глазах при одной мысли о том, что его ждет вечером у семейного очага. Нина Леонтьевна в качестве хозяйки старалась поддержать самый непринужденный разговор, что ей было не особенно трудно сделать при трогательных усилиях всех действующих лиц. Перекрестов рассказывал о всевозможной еде, какую он испробовал во всевозможных широтах и долготах, при самом разнообразном барометрическом давлении и всевозможных уклонениях магнитной стрелки. Сарматов, конечно, воспользовался таким удобным случаем и довольно развязно присоединил к этому повествованию свой скромный голос.
– Когда я служил с артиллерийским парком на Кавказе, – рассказывал он, стараясь закрыть свою лысину протянутым из-за уха локоном, – вот где было раздолье… Представьте себе: фазаны! Настоящие золотые фазаны, все равно как у нас курицы. Только там их едят не так, как у нас. Вообще записной охотник не дотронется до свежей дичи, а мы убитых фазанов оставляли на целую неделю на воздухе, а потом уж готовили… Получался необыкновенный букет!
– Ага! – протянул Прейн.
– Не много ли будет: неделя? – заметил Вершинин. – Температура на Кавказе высокая, и в неделю из ваших фазанов останутся одни перья.
– Ах, Демид Львович… В этом-то и шик! Мясо совсем черное делается и такой букет… Точно так же с кабанами. Убьешь кабана, не тащить же его с собой: вырежешь язык, а остальное бросишь. Зато какой язык… Мне случалось в день убивать по дюжине кабанов. Меня даже там прозвали «грозой кабанов». Спросите у кого угодно из старых кавказцев. Раз на охоте с графом Воронцовым я одним выстрелом положил двух матерых кабанов, которыми целую роту солдат кормили две недели.
Бесстрастное неподвижное лицо Лаптева обратилось к рассказчику, и на нем мелькнула едва заметная улыбка. Наклонившись к Прейну, он тихо спросил:
– Это кто?
– Штабс-капитан Сарматов, управитель Мельковского завода.
Этого было достаточно, чтобы до десятка лиц с скрытой завистью посмотрели на Сарматова, который был замечен Евгением Константинычем. Это была целая карьера для «грозы кабанов». Летучий и Перекрестов переглянулись и блудливо заерзали на своих местах; неожиданный успех Сарматова задел их за живое. Бесцветные люди навели свои лорнеты и пенсне на «грозу кабанов». Прейн еще раз сказал свое «ага». Нина Леонтьевна потихоньку наблюдала представителей «малого двора» и особенно осталась довольна Вершининым и Майзелем, которые держали себя с достоинством и отвечали очень находчиво. Вершинин настолько освоился с «большим двором», что раза два очень ядовито оборвал завравшегося Перекрестова, которого невзлюбил с первого раза, как соперника по застольному краснобайству. Между строк скоро выработалось то молчаливое соглашение, при помощи которого определяются взаимные отношения людей, видевших друг друга в первый раз. Генерал пытался было поднять серьезный разговор на тему о причинах общего упадка заводского дела в России, и Платон Васильевич навострил уже уши, чтобы не пропустить ни одного слова, но эта тема осталась гласом вопиющего в пустыне и незаметно перешла к более игривым сюжетам, находившимся в специальном заведовании Летучего. Нина Леонтьевна нимало не смутилась таким оборотом разговора и громко смеялась над остроумными анекдотами прогоревшего помпадура. Один m-r Чарльз оставался в этой компании невозмутимо спокойным и неподвижным, точно замороженный. Он смотрел на обедающих свысока, как сфинкс, которого никто не может разгадать. По всей вероятности, если бы m-r Чарльз имел право и возможность, он всей собравшейся здесь компании молча и замороженно показал бы на дверь.
После обеда, когда вся компания сидела за стаканами вина, разговор принял настолько непринужденный характер, что даже Нина Леонтьевна сочла за лучшее удалиться восвояси. Лаптев пил много, но не пьянел, а только поправлял спои волнистые белокурые волосы. Когда Сарматов соврал какой-то очень пикантный и невозможный анекдот из бессарабской жизни, Лаптев опять спросил у Прейна, что это за человек.
– Ага! Это штабс-капитан Сарматов, или «гроза кабанов»! – ответил Прейн, щуря свои бесцветные глаза.
Бесцветные молодые люди смеялись, когда смеялся Лаптев, смотрели в ту сторону, куда он смотрел, пили, когда он пил и вообще служили громадным зеркалом, в котором отражалось малейшее движение их патрона.
Из-за обеда вся компания поднялась вместе с сумерками, когда в открытые окна со стороны сада потянуло свежей пахучей струей. Господский дом, здание заводоуправления, фабрика и сад были роскошно иллюминованы, а на пруду, на громадном плоте из бревен, затрещал и захлопал фейерверк. Для гудевшего на улице народа на балконе господского дома играла музыка, и ночной воздух при каждом хлопке взвивавшихся кверху огненными дугами ракет потрясался взрывами народного восторга. Появлялись пьяные и особенно усердно орали барину хриплую пьяную «уру». Евгений Константиныч выходил на балкон, и каждый раз его встречали оглушительными залпами самых восторженных криков. Генерал задумчиво смотрел на волновавшуюся тысячеголовую толпу, которая в его глазах являлась собранием тех пудо-футов, которые служили материалом для его экономических выкладок и соображений.
Все это трескучее торжество отзывалось на половине Раисы Павловны похоронными звуками. Сама она, одетая в белый пеньюар с бесчисленными прошивками, лежала на кушетке с таким истомленным видом, точно только сейчас перенесла самую жестокую операцию и еще не успела хорошенько проснуться после хлороформирования. «Галки» сидели тут же и тревожно прислушивались к доносившимся с улицы крикам, звукам музыки и треску ракет.
Платон Васильич несколько раз пробовал было просунуть голову в растворенные половинки дверей, но каждый раз уходил обратно: его точно отбрасывало электрическим током, когда Раиаа Павловна поднимала на него глаза. Эта немая сцена была красноречивее слов, и Платон Васильич уснул в своем кабинете, чтобы утром вести Евгения Константиныча по фабрикам, на медный рудник и по всем другим заводским мытарствам.
Летняя короткая ночь любовно укутала мягким сумраком далекие горы, лес, пруд и ряды заводских домиков. По голубому северному небу, точно затканному искрившимся серебром, медленно ползла громадная разветвленная туча, как будто из-за горизонта протягивалась гигантская рука, гасившая звезды и вот-вот готовая схватить самую землю. Домики Кукарского завода на этой руке сделались бы не больше тех пылинок, которые остаются у нас на пальцах от крыльев моли, а вместе с ними погибли бы и обитатели этих жалких лачуг, удрученные непосильной ношей своих подлостей, интриг, глупости и чисто животного эгоизма.
Посмотрите, как крестится и шепчет торопливо молитву на сон грядущий Родион Антоныч; в голове кукарского Ришелье работает тысяча валов, колес и шестерен, перемалывая перепутавшиеся впечатления тревожного дня. У Родиона Антоныча тяжело на душе, а в ушах все еще отдается «ага» Прейна. Первый блин вышел комом, и старик напрасно ощупывает свою голову, точно подыскивая какое-то забытое утешение или ту крошечную надежду, за которую мог бы ухватиться придавленный неудачей мозг. Он теперь переживает в сотый раз нанесенное оскорбление Раисе Павловне и не видит выхода. Стоит ему сомкнуть глаза, как встает целый ряд обидных картин: вот торжествует Майзель с своей птицей – Амалькой, вот улыбается в бороду Вершинин, вот ликует Тетюев…
В генеральском флигельке наступившая ночь не принесла с собой покоя, потому что Нина Леонтьевна недовольна поведением генерала, который, если бы не она, наверно позволил бы Раисе Павловне разыгрывать совсем неподходящую ей роль. В своей ночной кофточке «чугунная болванка» убийственно походит на затасканную замшевую куклу, но генерал боится этой куклы и боится сказать, о чем он теперь думает. А думает он о своем погибающем друге Прозорове, которого любил по студенческим воспоминаниям.
– Посмотрим, как вы будете держать себя дальше… – грозно шипит «чугунная болванка». – С своей стороны могу сказать только то, что при первой вашей уступке этойженщине я сейчас же уезжаю в Петербург.
Генерал уверяет, что никаких уступок не последует с его стороны и что он должен честно выполнить взятую на себя задачу.
В убогом флигельке Прозорова мигает слабый свет, который смотрится в густой тени тополей и черемух яркой точкой. Сам Прозоров лежит на прорванном диване с папироской в зубах. Около него на стуле недопитая бутылка с водкой, пепельница с окурками, рюмка с обломанным донышком и огрызки соленого огурца.
– Набоб приехал… Ха-ха! – смеется он своим нехорошим смехом, откидывая волосы. – Народный восторг и общее виляние хвостов. О почтеннейшие подлецы с Мироном Блиновым во главе! Неужели еще не выросла та осина, на которой всех вас следует перевешать… Комедия из комедий и всероссийское позорище. Доколе, о господи, ты будешь терпеть сих подлецов?.. А царица Раиса здорово струхнула, даже до седьмого пота. Ха-ха!
Луша слышит эту болтовню, и ей делается страшно в своей комнате, где она напрасно старается углубиться в чтение романа, который ей принес на днях Яшка Кормилицын. Ей душно и тяжело. Эти стены ее давят. Хочется воли, простора, воздуха, чтобы хоть раз вздохнуть полной грудью, вздохнуть и… а там будет что будет! Она унесла в своей головке частичку той суеты, свидетельницей которой была давеча. У ней еще стоят в ушах крики тысячной толпы, волны музыки, и она все еще видит этот разноцветный дождь, который рассыпался над ней во время фейерверка. Она видит обрюзглого молодого человека, который смотрел на нее давеча из коляски, видит его волнистые белокурые волосы и переживает тяжелое, томительное чувство странной зависти за свое существование. Отчего она не была на этом обеде, где весело играла музыка, слышался смех и лилось дорогое вино? Воображение рисовало ей заманчивую картину: как она является царицей таких обедов, как все удивляются ее красоте и как все преклоняется пред ней, даже этот белокурый молодой человек с усталыми глазами. Сегодня подушка ей кажется особенно тяжелой, а роман Яшки Кормилицына скучнее его самого. Воздуха! воздуха!
А в спальне Лаптева происходит в это время такая сцена. Евгений Константиныч сидит с папиросой в зубах и задумчиво смотрит в пространство.
– Альфред! ты видел этого молодого человека?.. – говорит он, обращаясь к Прейну, который маленькими шажками бойко бегал по кабинету.
– Секретаря генерала… Братковского? Да. Он обедал с нами.
– Я и говорю об этом. Такие же глаза, такие же волосы и такая же цветущая сильная фигура… Он очень походит на свою сестру. Как ты находишь, Альфред?
– Ага… – неопределенно мычит Прейн, вскидывая глаза на своего друга-повелителя. – Кажется… Гортензия Братковская… красавица?
– А что она теперь делает, по-твоему?
– Вероятно, где-нибудь на водах. Она собиралась ехать… Да, очень красивая и еще более упрямая девчонка. Знаете, что она имела в виду?
– ?
– Она мечтала быть madame Лаптевой.
Лаптев издает неопределенный носовой звук и улыбается. Прейн смотрит на него, прищурив глаза, и тоже улыбается. Его худощавое лицо принадлежало к типу тех редких лиц, которые отлично запоминаются, но которые трудно определить, потому что они постоянно меняются. Бесцветные глаза под стать лицу. Маленькая эспаньолка, точно приклеенная под тонкой нижней губой, имеет претензию на моложавость. Лицо кажется зеленоватым, изможденным, но крепкий красный затылок свидетельствует о большом запасе физической силы.
– Что мы будем здесь делать? – спрашивал Лаптев лениво.
– А генерал?
– Да-а…
– Потом необходимо съездить на другие заводы, побываем в горах, устроим охоту… Будет любительский спектакль и бал. Кстати, завтра будем осматривать завод, то есть собственно фабрику и рудник.
– А без этого нельзя обойтись, Альфред?
– Нет.
– А «гроза кабанов» будет завтра? Он смешно врет…
Лаптев лениво смеется, и если бы бесцветные «почти молодые люди» видели эту улыбку, они мучительно бы перевернулись в своих постелях, а Перекрестов написал бы целый фельетон на тему о значении случайных фаворитов в развитии русского горного дела.
Через полчаса, при помощи m-r Чарльза, Евгений Константинович отходит ко сну, напрасно стараясь решить, что теперь делает Гортензия Братковская. Ночь покрывает и этого магната-заводчика, для которого существует пятьдесят тысяч населения, полмиллиона десятин богатейшей в свете земли, целый заводский округ, покровительственная система, генерал Блинов, во сне грезящий политико-экономическими теориями, корреспондент Перекрестов, имеющий изучить в две недели русское горное дело, и десяток тех цепких рук, которые готовы вырвать живым мясом из магната Лаптева свою долю. Да, хорошо спится людям с спокойной совестью и полным желудком, которых не тревожат тяжелые грезы и которые просыпаются с мыслью о новых удовольствиях и развлечениях!








