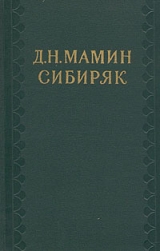
Текст книги "Том 3. Горное гнездо"
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
Пока загонщики делали свое дело, устроен был легкий привал у безымянного горного ключика, сочившегося ледяной струей из крутого отвала горы. Чтобы прежде времени не встревожить зверя, было строго запрещено курить и разговаривать. Набоб, вытянувшись на траве во весь рост, безмолвно смотрел в голубое небо, где серебряными кружевами плыли туманные штрихи. В одном месте круглилось и надувалось белое грозовое облачко. Смешанный лес из сосен и берез то начинал шуметь ласковым шепотом, то сдержанно стихал. Солнце подобрало росу, и теперь в сочной зеленой траве накоплялся дневной зной, копошились букашки и беззаботно кружились пестрые мотыльки; желтые, розовые и синеватые цветы пестрили живой ковер травы, точно рассыпанные самоцветные камни. Кусты жимолости и вереска выбирали самые солнечные места, где почва накаливалась от зноя. В числе охотников был и Родион Антоныч, тоже облекшийся в охотничью куртку и высокие сапоги; выбрав местечко на глазах набоба, он почтительно сидел на траве, не спуская глаз с своего владыки, как вымуштрованный охотничий пес.
– Готово… – шепотом проговорил Майзель, когда на опушке ближайшего леса показался приземистый бородатый лесообъездчик, первый плут и лучший охотник.
Все поднялись и осторожно пошли через лес пешком. Лошади были оставлены. Евгений Константиныч нес в руках короткий английский штуцер, заряженный самим Майзелем. Когда охотники были расставлены по местам, мертвая тишина охватила все кругом. Набоб стоял под прикрытием развесистого куста рябины; пред ним легла глубокая поляна, по которой должен был пробежать вспугнутый зверь. Время тянулось с ужасной медленностью. Где-то сухо треснул под ногой сучок. Комары лезли набобу в нос, в рот, даже в уши; он сначала отмахивался от них рукой, а потом покорился своей участи и только в крайнем случае судорожно мотал головой, как привязанная к столбу лошадь. Майзель стоял от него шагах в пятидесяти и чутким, привычным ухом ловил малейший шорох. Сначала ничего нельзя было разобрать, но потом он убедился, что зверь поднят: олень почуял опасность и осторожным шагом, нюхая воздух и насторожив уши, шел вдоль лесистой гривки. В одном месте «счакали» рога о дерево. Майзель, притаив дыхание, впился глазами в лесную чащу; зверь шел прямо на набоба и должен был пересечь лесную прогалину, которая была открыта для выстрела.
Красавец олень действительно шел по направлению к этой прогалине, делая легкие прыжки через поваленные стволы деревьев. Он чутко поводил ушами, откидывая рога на спину. Подозрительный шорох заставлял его вздрагивать; горячие большие глаза смотрели тревожно. Зверь почуял своего страшного врага – человека – и теперь старался выбраться из засады. Опасность грозила из каждого угла, олень чувствовал окруживших его людей с такой же отчетливостью, как мы можем только видеть. Вместе с тем он понимал, что единственное его спасение – это идти вдоль гривы. Но блеснувшая между деревьями прогалина заставила его остановиться на опушке, он почуял, что враг совсем близко, и хотел вернуться, но в это мгновение раздался сухой треск выстрела, и благородное животное, сделав отчаянный прыжок вперед, пало головой прямо в траву. Из-за рябины, где стоял набоб, взмыло кверху белое облачко дыма.
– Молодецкий выстрел! – кричал Майзель, первым подбегая к трепетавшему в агонии оленю. – Поздравляю, Евгений Константиныч… Могу сказать, что это выстрел! двести шагов… Да, молодецкий выстрел!
Около убитой жертвы сошлись все охотники, торопливо делая оценку выстрелу.
– Теперь на коня! – скомандовал Майзель. – Господа, мы будем поздравлять Евгения Константиныча на привале…
Лесообъездчики явились с лошадьми; оленя взялся доставить Родион Антоныч, не знавший, чем выразить ему свое удивление пред искусством набоба.
– Что же ты меня не поздравляешь, Альфред? – обратился набоб к Прейну, который рассеянно смотрел на пеструю толпу сбежавшихся егерей и лесообъездчиков.
– Ага… ничего! – ответил Прейн. – Счастливый выстрел…
Майзель торжествовал и гордо закручивал свой седой ус; самое горячее желание исполнилось: набоб был доволен. Обратно охотники поехали другой дорогой и у подножья Рассыпного Камня, на одном повороте лесной тропы, неожиданно увидали перед собой громадный шатер, огни и все общество. Этот сюрприз был задуман тоже Майзелем, чтобы устроить чисто охотничий привал. Дамы наперерыв спешили поздравлять счастливого охотника и даже поднесли ему букет из полевых цветов. В общем взрыве радостного восторга не принимала участия только Луша.
– А вы, кажется, не разделяете общих чувств? – спрашивал ее набоб, улучив свободную минуту.
– Прикажете тоже поздравлять? Это очень забавно! убить оленя, которого лесообъездчики чуть не привязали за рога к дереву… Удивительный подвиг!..
– Я не видал вас со вчерашнего дня… – понизив голос, проговорил набоб.
– Не много от этого потеряли. Идите, пожалуйста, к дамам, а то они меня разорвут…
Привезенный олень явился апогеем торжества. Его освежевали, а мясо отдали поварам. Пир затевался на славу, а пока устроена была легкая закуска. Майзель с замиранием сердца ждал этого торжественного момента и тоном церемониймейстера провозгласил:
– Господа, прошу отведать хлеба-соли!
Набоб первым вошел в палатку, где на столе из свежерасколотых елей красовалась «маленькая» охотничья закуска, то есть целая батарея всевозможных бутылок и затем ряды тарелок, тарелочек и закрытых блюд с каким-то очень таинственным содержимым.
– Вот, могу вам рекомендовать, Евгений Константиныч, – с скромным достоинством проговорил Майзель, собственноручно подавая набобу лежавший на серебряном блюде предмет странной формы, что-то вроде передней половины разношенной калоши: – самое охотничье кушанье…
– Что это такое? – удивился набоб, осторожно пробуя вилкой темную губчатую массу.
– А вы попробуйте…
Отрезанный ломтик оказался необыкновенно тонкого вкуса. Удивленный этим сюрпризом, набоб съел второй ломтик и потом с отчаянием в голосе проговорил:
– Хоть убейте, не могу определить, что это за штука… А чертовски вкусная закуска! Прейн, попробуй!
– Это, Евгений Константиныч, позволю себе так выразиться, классическая охотничья закуска, – объяснил Майзель, даже покрасневший от щедрой похвалы, – маринованная верхняя губа сохатого…
– Благодарю и благодарю! – растроганно заявил набоб и торжественно облобызал старого охотника. – Раз – благодарю за отличную охоту, а второе – за эту закуску…
Нужно ли говорить, что торжество Майзеля отразилось острой болью на душе у всех остальных, особенно у Вершинина, который имел несчастие думать в течение целых двух суток, что никто не может придумать ничего лучше его ухи из живых харюзов. Вот тебе и харюзы! Даже Сарматов – и тот, обнюхивая микроскопический кусочек доставшейся на его долю классической охотничьей закуски и глубокомысленно вытаращив глаза, громко заявил, что действительно, когда он был командирован в Архангельскую губернию, то в течение трех лет питался одной маринованной губой сохатого. Родион Антоныч торжествовал: союзники теперь побивали друг друга… Отлично! Майзель никогда не простит Вершинину уху из харюзов, а Вершинин никогда не простит Майзелю маринованной губы.
«Отлично! – думал Родион Антоныч, потирая руки. – Вот так удружили… Ха-ха!.. Ах! нужно сейчас же послать Раисе Павловне эстафету».
В душе Ришелье затеплилась сладкая надежда, что все здание, с такой дьявольской хитростью воздвигнутое руками Тетюева, разлетится прахом от такой простой вещи, как встреча ухи с губой…
После трех рюмок водки у Майзеля совсем сделалось легко на душе, и он презрительно оглядывал всю остальную публику. Сарматов, прожевывая ломтик колбасы, рассказывал набобу самые удивительные случаи о своих охотничьих похождениях, а в том числе и о собаках.
– Представьте себе, Евгений Константиныч, – ораторствовал он, у меня была одна собака… Кстати, я знаю отличное средство, если кто боится собак: ни одна не укусит. Если вы идете, например, по улице, вдруг – навстречу псина, четвертей шести, и прямо на вас, а с вами даже палки нет, – положение самое некрасивое даже для мужчины; а между тем стоит только схватить себя за голову и сделать такой вид, что вы хотите ею, то есть своей головой, бросить в собаку, – ни одна собака не выдержит. Честное слово… Я даже производил опыты с одним тигром в зверинце.
Сарматов показал пример, как нужно трясти головой, но мнения общества относительно заявленного средства разделились.
– Вздор! – решительно заявил Майзель.
– Честное и благородное слово, Николай Карлыч! Хотите пари?
– Извольте, но с условием: я положу свое пальто, на пальто положу свою собаку, – если вы возьмете из-под собаки пальто, вы выиграли.
– Идет!
Майзель торжественно разостлал на траве макинтош и положил на нем свою громадную датскую собаку. Публика окружила место действия, а Сарматов для храбрости выпил рюмку водки. Дамы со страху попрятались за спины мужчин, но это было совершенно напрасно: особенно страшного ничего не случилось. Как Сарматов ни тряс своей головой, собака не думала бежать, а только скалила свои вершковые зубы, когда он делал вид, что хочет взять макинтош. Публика хохотала, и начались бесконечные шутки над трусившим Сарматовым.
– Это дрессированная собака, – оправдывался Сарматов, нимало не конфузясь. – Она только и умеет, что лежать на вашем пальто…
– Дорого бы я дал тому, кто подал бы мне мой макинтош! – хвастался Майзель, упоенный своими победами. – Господа, попробуйте!
В этот момент из толпы выделился Родион Антоныч, подошел к лежавшей собаке и прыснул на нее набранной в рот водой. Захваленный пес вскочил, поджал хвост и скрылся.
– Вот ваш макинтош, Николай Карлыч! – почтительно проговорил Родион Антоныч, подавая пальто Майзелю.
Старый охотник совсем опешил и не знал, что ему ответить. Публика тоже была очень смущена, но когда набоб засмеялся, взрыв дружного хохота был наградой находчивости Родиона Антоныча, который с застенчивой улыбкой вытирал себе лицо платком.
– Это нечестно! – отрубил наконец взбешенный общим хохотом Майзель.
– Успокойтесь, Майзель! – уговаривал расходившегося старика набоб. – Этот господин поступил очень находчиво – и только… А Сарматов жестоко проврался! Я думал, что он совсем оторвет себе голову… А как фамилия этого господина, который прогнал вашу собаку?
– Сахаров, – сердито ответил Майзель.
– Ага! Да, очень находчиво.
Поданный обед сгладил неприятные последствия этого маленького эпизода. На столе в разных видах фигурировал только что убитый олень. Все участвующие, конечно, наперерыв старались уверить друг друга, что в жизнь свою никогда и ничего вкуснее не едали, что оленина в жареном виде – самое ароматное и тонкое блюдо, которое в состоянии оценить только люди «с гастрономической жилкой», что вообще испытываемое ими в настоящую минуту наслаждение ни с чем не может быть сравниваемо и т. д. Выпитое за охотничьей закуской вино заметно оживило все общество, и даже генерал, видавший лес и охотников только на картинах, громко уверял Перекрестова, что и лес и охота – отличные вещи сами по себе. Секретари, занимавшие пост около «галок», совершенно были согласны с генералом; пьяный Летучий, особенно близко познакомившийся в эту поездку с Прозоровым, подтвердил слова генерала неожиданно вырвавшейся икотой. Вообще все имели особенное расположение к веселящим напиткам. Прейн пил вместе со всеми, но не пьянел, а только заметно делался глупее, что ему и доказала самым очевидным образом Нина Леонтьевна, запустив ему шпильку. Впрочем, Прейн не очень огорчился выходкой Нины Леонтьевны – это была та необходимая доза житейской горечи, которая делает наше счастье настоящим счастьем. Он видел два чудные глаза, которые смотрели на него таким понимающим, почти говорящим взглядом и смотрели только на него одного, потому что все остальные люди для этой пары глаз были только необходимым балластом.
XXV
– Я уезжаю! – объявила Нина Леонтьевна генералу самым решительным тоном сейчас же после охотничьего завтрака.
Такой оборот дела поставил генерала в совершенный тупик: ему тоже следовало ехать за Ниной Леонтьевной, но Лаптев еще оставался в горах. Бросить набоба в такую минуту, когда предстоял осмотр заводов, значило свести все дело на нет. Но никакие просьбы, никакие увещании не привели ни к чему, кроме самых едких замечаний и оскорблений.
– Неужели, Нина, стоит обращать внимание на глупую болтовню такого человека, как Прозоров? – говорил генерал. – Обижаться его выходкам – значит, слишком мало уважать себя…
– Оставимте этот разговор, – коротко высказала свою волю Нина Леонтьевна, – я теперь убедилась окончательно, насколько вы меня цените…
– Нина, ради бога, в какое ты ставишь меня положение?
– Вы сами себя ставите, а не я… – зашипела «болванка». – Прозоров – ваш университетский товарищ, и вы так поставили себя с ним, что он совершенно безнаказанно может делать что хочет.
С логикой кровно обиженной женщины Нина Леонтьевна обрушилась всей силой своего негодования не на Прозорова, а на генерала, поставив ему в вину решительно все, что только может придумать самая пылкая фантазия, так что в конце концов генерал почувствовал себя глубоко виновным и даже не решался просить прощения. Притом все дамы были за Нину Леонтьевну и тоже изъявили желание вернуться к покинутым домашним очагам, причем даже не трудились подыскать мало-мальски подходящих предлогов для такого коллективного протеста. M-me Дымцевич была величественна и неумолима, как фатум; m-me Сарматова держала своих юниц за руки с таким видом, точно их невинности грозил самый воздух.
– Мы вас, во всяком случае, оставляем в таком приятном обществе, – говорила Нина Леонтьевна генералу уже от лица всех дам, – что вы, вероятно, не особенно огорчитесь нашим отъездом… Здесь останутся три особы, которые имеют все данные, чтобы утешить вас всех…
– Нина, что ты говоришь? – взмолился генерал. – Опомнись… Бросать грязью в этих девушек просто несправедливо!
– Mesdames, вы слышали? – обратилась Нина Леонтьевна к своим сторонницам. – Я это знала вперед!
Момент получился критический, и интересы русского горного дела висели на волоске. Генерал колебался, оставаться ему здесь или последовать за Ниной Леонтьевной. То и другое решение могло иметь неисчислимые последствия. Но Нина Леонтьевна пересолила, и генерал, как это делают все бесхарактерные люди, махнул на все рукой. Будь что будет, а он останется в горах, чтобы провезти Лаптева на обратном пути по всем заводам. От такого варварского решения с Ниной Леонтьевной сделалось дурно, хотя в душе она желала, чтобы генерал остался в горах, и вместе с тем желала сорвать на нем расходившуюся желчь.
– Что тут такое: революция? – вмешался Прейн, появляясь точно из-под земли.
– Да, мы хотим огорчить вас и… уезжаем, – с деланным смехом ответила Нина Леонтьевна. – Не правда ли, это убьет вас наповал? Ха-ха… Бедняжки!.. Оставлю генерала на ваше попечение, Прейн, а то, пожалуй, с горя он наделает бог знает что. Впрочем, виновата! генерал высказывал здесь такие рыцарские чувства, которые не должны остаться без награды…
Прейн отлично понял, что хотела сказать Нина Леонтьевна, но, прищурив свои бесцветные глаза, только развел руками.
– Вы нам испортите всю поездку, Нина Леонтьевна, – серьезно проговорил он, бросая окурок сигары в траву. – Что-нибудь случилось?
– Ничего особенного… кроме того, что мы не желаем быть здесь лишними. Притом вам предстоит с генералом еще столько серьезных занятий… ха-ха! Нет, довольно, Прейн! я не желаю вас мистифицировать: мы едем просто потому, что в горах слишком холодно.
– Я передам Евгению Константинычу, а с своей стороны могу сказать только что пароход сейчас ушел…
– Как ушел?
– Я уже сказал, что у вас происходит какая-то революция: половина общества уже уехала, а теперь вы покидаете нас…
Нина Леонтьевна побелела даже через слой румян и белил: Прейн предупредил и отправил девиц вперед. Он сейчас после завтрака передал m-lle Эмме, что им пора убираться восвояси, m-lle Эмма сама думала об этом и потащила за собой Анниньку. Перекрестов и Братковский вызвались их сопровождать. К этому веселому обществу присоединились Прозоровы и доктор.
Положение дам получилось довольно некрасивое, но им больше ничего не оставалось, как только выдержать характер до конца. Пароход вернулся через три часа, и все дамы, простившись с Евгением Константинычем, отправились к пристани.
– Вы войдите в мое положение, – говорил дамам на прощанье Евгений Константиныч, желавший остаться любезным до конца. – Ведь с вашим отъездом я превращаюсь в какую-то жертву в руках генерала, который хочет протащить меня по всем заводам…
В виде почетной стражи к удалившимся дамам были приставлены «почти молодые люди» и Летучий, который все время своего пребывания в горах проспал самым бессовестным образом. Генерал проводил дам до пристани, где еще получил в виде задатка несколько колкостей как главный виновник всего случившегося.
– Славу богу, одним грехом меньше, – шепнул Прейн набобу, когда генерал вернулся на главную стоянку на Рассыпном Камне.
– Что такое случилось, – я решительно недоумеваю! – не понимал Лаптев.
– Самая обыкновенная история; по русской пословице: семь топоров лежат вместе, а два веретена врозь.
– Ага… Очень хорошая пословица. Семь топоров лежат врозь…
– Нет: вместе.
– Да, да… Семь топоров вместе… Очень остроумно сказано!..
Оставшись одни, все почувствовали себя свободными, особенно мужья. Присутствие женщин связывало общество, потому что самые лучшие анекдоты приходилось рассказывать вполголоса и, главное, постоянно быть настороже, чтобы не сболтнуть чего-нибудь лишнего, а теперь все сняли с себя верхнее платье и остались в одних рубашках. Это было очень оригинально и приближало к простоте окружавшей природы; притом и пить приходилось очень много, потому что какое значение может иметь природа для цивилизованного человека, если она не вспрыснута дорогим вином. Даже генерал – и тот пил вместе с другими, чтобы разогнать тяжелое чувство ожидаемого возмездия. Вместе с тем, поглядывая на Евгения Константиныча, генерал соображал, как он потащит на буксире этого барчука высшей школы по всем заводам, а главное – в Куржак, на знаменитый железный рудник. Майзель, Вершинин, Дымцевич и Сарматов заметно оживились и наперерыв старались блистать самым непринужденным остроумием. Под шиханом лесообъездчиками была устроена на высоких козлах трапеция, и на ней «господа» показывали свою ловкость: Прейн вертелся как клоун и поражал всех живостью и силой своего сколоченного жилистого тела. Остальные припомнили тоже кое-что из старины, и всякий в свою долю старался влезть, по крайней мере, на шест, чтобы не отстать от других. Набоб лежал на траве в одной рубашке и поощрял кувыркавшихся и потевших добровольцев, потому что любил упражнения этого рода. И сам он в былые времена тоже умел проделывать кое-что по части эквилибристики, но теперь зажирел и вообще сделался тяжел на подъем.
– А вы, Родион Антоныч, что не попробуете? – предлагал Прейн, когда все успели проделать свои номера.
– Я-с? Нет уж, Альберт Осипыч, увольте… – взмолился Родион Антоныч, отмахиваясь обеими руками. – Помилуйте, я уж старик, притом совсем почти слепой. С печи на полати едва перелезаю…
– Врет, все врет! – послышались голоса. – Какой он слепой! птицу в лет бьет! Нет, Родион Антоныч, пожалуйте!..
В общем хоре особенно энергично настаивал Майзель, который не мог простить Родиону Антонычу его выходки с собакой. Набоб смеялся над смутившимся Ришелье и тоже упрашивал его попытать счастья на трапеции.
– Не могу-с, Евгений Константиныч, вот как перед богом, не могу! – упирался Родион Антоныч, умиленно прижимая обе руки к сердцу.
– Да вы попробуйте. Ведь прогнали же собаку Майзеля, – поощрял Лаптев, продолжая милостиво улыбаться. – На людях и смерть красна… Притом мы здесь совершенно одни, дам нет.
Стоявшие почтительно в сторонке лесообъездчики начали пересмеиваться, дескать, влопался наш Родька, как он полезет на петлю. Общее внимание и градом сыпавшиеся со всех сторон просьбы повергли Ришелье в окончательное смущение, так что он готов был замолчать самым глупым образом и из-за какой-нибудь дурацкой гимнастики разом потерять все внимание, какое успел заслужить в глазах набоба. Оставалось только лезть на трапецию, чтобы сверзиться оттуда мешком для общей потехи; но в это мгновение Родиона Антоныча осенила счастливая мысль, и он проговорил:
– Ей-богу, Евгений Константиныч, не могу насчет трапеции! А ежели вот на палке тянуться или по-татарски бороться…
– Как это по-татарски?
– А так-с, лежа, нога за ногу, а потом кто кого на голову поставит…
Эта идея очень понравилась набобу, и Прейн первый решился вступить с Ришелье в оригинальное ратоборство. Они легли рядом на траву ногами к голове и потом зацепили друг друга ногой в ногу; секрет борьбы заключался в том, чтобы давить скрюченной ногой ногу противника до тех пор, пока тот не встанет на голову. Получалась очень комичная сцена, и набоб хохотал от души, когда Прейн и Родион Антоныч надувались и краснели, стараясь осилить друг друга. Наконец, к общему удовольствию, Прейн кубарем полетел через голову, и ловкость Родиона Антоныча покрылась общими аплодисментами. Лесообъездчики рты разинули от удивления, как ловко Родька обтяпал барина. Ай да Родивон Антоныч, придумал штуку, почище господской петли.
– Это очень интересно! – восклицал Евгений Константиныч, крайне довольный новой забавой. – Ну-ка, Родион Антоныч, со мной…
Это предложение заставило Родиона Антоныча в первое мгновение оторопеть. Он даже потер себе глаза: но нет, это была не галлюцинация, и Лаптев уже растянулся на траве и поднял ногу.
– Евгений Констаитиныч… ей-богу, не могу-с! не смею… – залепетал Родион Антоныч.
– Ничего, вздор! – решил Прейн, прихрамывая и щупая затылок. – Прямо меня на голову поставил…
Родиона Антоныча насильно уложили рядом с Лаптевым и заставили зацепить ногой барскую ногу. Бедный Ришелье только сотворил про себя молитву и даже закрыл глаза со страху. Лаптев был сильнее в ногах Прейна, но как ни старался и ни надувался, – в конце концов оказался побежденным, хотя Родион Антоныч и не поставил его на голову.
– Молодец!.. – хвалил Евгений Константиныч, поднимаясь с земли. – Право, я не подозревал, что так можно бороться. Как жаль, что здесь нет Летучего, а то его следовало бы поставить на голову раз пять… Ха-ха! Вы, Родион Антоныч, может быть, еще что-нибудь умеете?
– Нет-с, Евгений Константиныч, больше ничего не умею… Разве вот на палке тянуться, а то ведь я все по письменной части.
Новый успех Родиона Антоныча покоробил Майзеля, и он процедил сквозь зубы:
– Дурацкая штука… глупость!..
Генерал тоже был недоволен детским легкомыслием набоба и только пожимал плечами. Что это такое в самом деле? Владелец заводов – и подобные сцены… Нужно быть безнадежным идиотом, чтобы находить удовольствие в этом дурацком катанье по траве. Между тем время летит, дорогое время, каждый час которого является прорехой в интересах русского горного дела. Завтра нужно ехать на заводы, а эти господа утешаются бог знает чем!
– Генерал, вы что так насупились? – спрашивал Лаптев, заметив недовольную мипу. – Не сердитесь, голубчик… Завтра ранним утром отправляемся в Куржак, и там можете делать со мной что хотите. Не правда ли, Прейн?
Погода была великолепная, точно сама природа благоприятствовала успехам прогрессировавшего русского горного дела. Вот уже третью ночь все общество проводило в горах, и какую ночь – хоть картину пиши! Вечером солнце село по всем правилам искусства: оно точно утонуло золотым шаром в пылавшем море крови, разливая по небу столбы колебавшихся розовых теней. Опять звездная бездна над головой, опять душистая прохлада северной ночи; кругом опять призраки и узорчатые тени по горам, а в самой выси, где небо раздавалось и круглилось куполом, легли широкие воздушные полосы набежавших откуда-то облачков, точно кто мазнул по небу исполинской кистью. Эти облачка сильно беспокоили Майзеля. Еще предстояло взять дупелиное болото, потом проведать медведя – и вдруг дождь, самый обыкновенный, глупейший дождь, который может зарядить дня на два! Что может быть обиднее? Родион Антоныч думал то же, расположившись на ночь около огонька. Он пережил столько в последние сутки, что долго не мог успокоиться и все щупал свою ногу, которая удостоилась прикасаться к ноге Евгения Константиныча… Ведь вот, поди ж ты, кто бы, кажется, мог придумать такую штуку!.. Да, боролся с самим Евгением Константинычем и был замечен, назло всем окружавшим Родиона Антоныча врагам. Если разобрать, что он такое в этой компании: червь, моль, былинка, колеблемая ветром! Он не умел рассказывать пикантных анекдотов, не умел придумывать новых кушаний – и вдруг: собака Майзеля и татарская борьба сразу подняли его на небывалую высоту! Зато теперь все грызут на него зубы – и Вершинин, и Дымцевич, и Майзель, и Сарматов. Особенно Майзель, который с чисто немецкой аккуратностью не умел прощать обид. Но что они все значили, даже взятые вместе, перед вниманием Евгения Константиныча, который изволил собственной ногой зацепить его рабью лапу? Вот-то обрадуется Раиса Павловна, когда узнает! А Прейн, шельма этакая, только улыбается, а того не подумает, каково было ему, Родиону Антонычу, единоборствовать с Евгением Константинычем. И во сне Ришелье несколько раз осторожно и с благоговением приподнимал осчастливленную ногу, точно эта нога составляла уже не часть его тела, а сам он составлял всем своим существом только ничтожный придаток к этой ноге.
К утру вспрыснул легкий дождь, напугав всех, но этот страх был совершенно напрасен. Дождь только освежил траву и лес, и солнце взошло с небывалой пышностью. Предрассветпая туманная полоса, пеленавшая восток, точно дала широкую трещину, от которой все небо раскололось на мириады сквозивших розовым золотом щелей. Неудержимый поток света залил все небо, заставив спавшую землю встрепенуться малейшей фиброй, точно кругом завертелись мириады невидимых колес, валов и шестерней, заставлявших подниматься кверху ночной туман, сушивших росу на траве и передававших рядом таинственных процессов свое движение всему, что кругом зеленело, пищало и стрекотало в траве и разливалось в лесу тысячами музыкальных мелодий. Нужно было такому чуду свершаться исправно каждый день, чтобы люди смотрели на него, новыряя пальцем в носу, как смотрел набоб и его приспешники, которым утро напоминало только о новой еде и новом питье.
Для охотничьего утра набоб проснулся очень поздно, потому что вчера целый день слишком много пил и ел; Прейну стоило большого труда растолкать его, причем оба ругались на трех языках. M-r Чарльз ожидал пробуждения своего повелителя с целым арсеналом принадлежностей туалета и холодным, презрительным взглядом смотрел на суетившуюся толпу управителей. Оседланные лошади нетерпеливо грызли удила, фыркали и взрывали землю копытами. Генерал с сигарой в зубах шагал по росистой траве, заложив руки за спину; он тоже поднялся не в духе, потому что в его профессорском теле сказалась чисто профессорская болезнь. В сторонке от главной стоянки распоряжался Майзель, отдавая приказания лесообъездчикам; он был великолепен всей своей петушиной, надутой фигурой, заученными солдатскими жестами и вообще всей той выправкой, какая бросается в глаза на плохих гравюрах из военной жизни. Из лесообъездчиков Майзель хотел выбить какой-то эскадрон, точно готовился сейчас лететь в атаку.
– Генерал сердится… – объяснил Прейн, когда набоб снова бессильно опустил поднятую голову на подушку. – Наконец будет жарко, и охота пропадет. Теперь самый раз отправляться…
– Я сейчас… – бормотал набоб, натягивая на себя одеяло. – А на генерала мне наплевать… Вот еще мило: каторжный какой дался вам!
Прошел еще час, пока Евгений Константиныч при помощи Чарльза пришел в надлежащий порядок и показался из своей избушки в охотничьей куртке, в серой шляпе с ястребиным пером и в лакированных ботфортах. Генерал поздоровался с ним очень сухо и только показал глазами на стоявшее высоко солнце; Майзель тоже морщился и передергивал плечами, как человек, привыкший больше говорить и даже думать одними жестами.
– Извините, господа, – говорил Евгений Константипыч, усаживаясь за завтрак из холодной дичи. – Мы еще успеем. А где у меня Brunehaul?
Собаку-фаворитку привезли только накануне, и она с радостным визгом принялась прыгать около хозяина, вертела хвостсш и умильно заглядывала набобу прямо в рот. Другие собаки взвизгивали на сворах у егерей, подтянутых и вычищенных, как картинки. Сегодня была приготовлена настоящая парадная охота, и серебряный охотничий рог уже трубил два раза сбор.
– Замечательная собака! – говорил Лаптев, лаская своего пойнтера. – Какую стойку делает! Раз выдержала дупеля час с четвертью. Таких собак только две по всей России: у меня и у барона N.
– А сколько она стоит? – любопытствовал кто-то.
– Вздор… Тысячи две, кажется.
– Ровно две тысячи, – подтвердил Прейн.
Наконец и завтрак был кончен. Серебряный рог протрубил сбор в третий раз, и Майзель скомандовал на коня. До Куржака было верст двадцать, но приходилось ехать верхами. Генерал тоже взмостился в седло и неловко держал поводья обеими руками, точно посаженная на лошадь монахиня; Родион Антоныч оказался верхом на мохноногом горбоносом киргизе. Около него вертелся и прыгал его сеттер Зарез, который до настоящей минуты находился на строгом попечении лесообъездчиков. Вся охотничья кавалькада длинным хвостом потянулась по западному склону горы, спускаясь по извилистой горной тропинке.
Когда съехали с Рассыпного Камня, тропинка расширилась, так что можно было ехать двоим в ряд. Генерал воспользовался этим случаем и, выровняв своего скакуна с английской охотничьей лошадью набоба, принялся отчитывать ему по части тех проклятых экономических вопросов, которые никогда не выходили из генеральской головы. Набоб слушал молча и наблюдал за движением ушей своей лошади, которая чутко прислушивалась к каждому шороху, вздрагивала и напряженно взмахивала своим куцым энглизированным хвостом. Увлекшись своей речью, генерал не хотел замечать, что Евгений Константиныч думает совсем о другом и только делает вид, что внимательно слушает его.
– Теперь важно на самом деле проверить наши теоретические построения, – ораторствовал генерал, неловко повторяя своим телом тяжелый прыжок лошади через ямы. – Увидев заводы, фабрики и фабричных рабочих, я многое уяснил себе, что раньше являлось только отвлеченным понятием, логической выкладкой… На заводы нужно смотреть, как на одну громадную машину, где главной двигающей силой, к сожалению, остаются рабочие руки. Это варварство, с одной стороны, а с другой – слабое место всякой промышленности. Именно эта живая сила составляет основание всех недоразумений, а потому задача всех крупных предпринимателей – как возможно шире применять механические двигатели: воду, пар, электричество наконец. Я не хочу этим сказать, что нужно сокращать количество рабочих: нет, до этого мы не доживем, слава богу, потому что наша фабричная промышленность, собственно, еще в зародыше. Но важно предупредить печальное недоразумение, то есть перевес предложения рабочих рук над спросом. Россия в этом случае стоит, по сравнению с Западной Европой, в самых выгодных условиях, и для нее рабочий вопрос, в обширном смысле этого слова, только вопрос отдаленного будущего. Печальный пример более цивилизованных государств должен нам служить указанием не повторять чужих заблуждений, хотя Наполеон Первый и сказал, что чужие ошибки не делают нас умнее.








