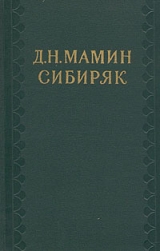
Текст книги "Том 3. Горное гнездо"
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)
XXI
По вечерам в господском саду играл оркестр приезжих музыкантов и по аллеям гуляла пестрая толпа заводской публики. С наступлением сумерек зажигались фонари и шкалики. На таких гуляньях присутствовала вся свита Евгения Константиныча, а сам он показывался только в обществе Прейна, без которого редко куда-нибудь выходил. Само собой разумеется, что если гуляла Раиса Павловна, то Нина Леонтьевна делалась больна и наоборот. Провинциальная публика, как и всякая другая публика, падкая до всевозможных эффектов, напрасно ожидала встречи этих двух ненавидевших друг друга женщин.
Приезжий элемент незаметно вошел в состав собственно заводского общества, причем связующим звеном явились, конечно, женщины: они докончили то, что одним мужчинам никогда бы не придумать. Все общество распалось на свои естественные группы, подгруппы, виды и разновидности. Около m-me Майзель вертелся Перекрестов и Летучий, два секретаря Евгения Константиныча, которым решительно нечего было делать, ухаживали за Наташей Шестеркиной и Канунниковой, пан Братковский бродил с «галками», «почти молодые люди» – за дочерями Сарматова, Прейн любил говорить с m-me Дымцевич и т. д. Сам набоб проводил свое время на гуляньях в обществе Раисы Павловны или Нины Леонтьевны, причем заметно скучал и часто грыз слоновый набалдашник своей палки. Когда устраивались танцы на маленькой садовой эстраде, он подолгу наблюдал танцующие пары, лениво отыскивая кого-то глазами. Все, особенно женщины, давно заметили, что набоб скучает, и по-своему объясняли истинные причины этой скуки.
Евгений Константиныч действительно скучал, и его больше не забавляли анекдоты Летучего и вранье Сарматова; звезда последнего так же быстро закатилась, как и поднялась. Теперь новинкой в обществе набоба являлся Прозоров, который, конечно, умел показать товар лицом и всех подавлял своим остроумием. Всего интереснее были те моменты, когда Прозоров встречался с Ниной Леонтьевной, этой неуязвимой женщиной в области красноречия. Происходили самые забавные схватки из-за пальмы первенства, и скоро всем сделалось очевидной та печальная истина, что Нина Леонтьевна начинала быстро терять в глазах набоба присвоенное ей право на остроумие. Пьяница Прозоров оказался умнее и находчивее в словесных турнирах и стычках, что, конечно, не могло не огорчать Нины Леонтьевны, которая поэтому от души возненавидела своего счастливого противника. Даже приспешники и прихлебатели встали сейчас же на сторону Прозорова, поддерживая его своим смехом; все знали, что Прозоров потерянный человек, и поэтому его возвышение никому не было особенно опасно. Если могли ревновать к Сарматову, то за участь Прозорова были все совершенно спокойны; все его величие могло разрушиться, как карточный домик, от одной лишней рюмки водки. Даже Летучий и Перекрестов относились к Прозорову снисходительно, переваривая его неистощимое краснобайство. Злые языки, впрочем, сейчас же объяснили положение Прозорова самым нехорошим образом, прозрачно намекая на Лушу, которая после бала как в воду канула и нигде не показывалась. Нашлись люди, которые уверяли, что видели своими глазами, как Лаптев рано утром возвращался из Прозоровского флигелька.
– Послушайте, Прозоров, где же ваша дочь в самом деле? – спросил однажды Лаптев, когда они сидели после обеда с сигарами в зубах.
– Сидит дома…
– Ага! A доктор часто бывает у вас?
Прозоров засмеялся и только махнул рукой. Странное поведение Луши заинтересовало капризного набоба, за которым ухаживали первые красавицы всех наций. Как! эта упрямая девчонка смеет его игнорировать, когда он во время бала оказал ей такие ясные доказательства своего внимания. Задетое самолюбие досказало набобу остальное, хотя он старался не выдать себя даже перед Прейном. Это новое, почти незнакомое чувство заинтересовало пресыщенного молодого человека, и он сам удивлялся, что не может отвязаться от мысли о капризной, взбалмошной девчонке. Чтобы утешить самого себя, он старался раскритиковать ее в своем воображении, сравнивая ее достоинства по отдельным статьям с достоинствами целого легиона «этих дам» всех наций и даже с несравненной Гортензией Братковской. По необъяснимому психологическому процессу результаты такой критики получались как раз обратные: набоб мог назвать сотни имен блестящих красавиц, которые затмевали сиянием своей красоты Прозорову, но все эти красавицы теряли в глазах набоба всякую цену, потому что всех их можно было купить, даже такую упрямую красавицу, как Братковская, которая своим упрямством просто поднимала себе цену – и только. В нежелании Луши показываться Лаптев видел пассивное сопротивление своим чувствам, которое нужно было сломить во что бы то ни стало. Иногда набоб старался себя утешить тем, что Луша слишком занята своим доктором и поэтому нигде не показывается, – это было плохое утешение, но все-таки на минуту давало почву мысли; затем иногда ему казалось, что Луша избегает его просто потому, что боится показаться при дневном свете – этом беспощадном враге многих красавиц, блестящих, как драгоценные камни, только при искусственном освещении. Но все эти логические построения разлетались прахом, когда перед глазами Лаптева, как сон, вставала стройная гордая девушка с типичным лицом и тем неуловимым шиком, какой вкладывает в своих избранников одна тароватая на выдумки природа. Собственно говоря, набоб даже не желал овладеть Лушей, как владел другими женщинами; он только хотел ее видеть, говорить с ней – и только. Все ему нравилось в ней: и застенчивая грация просыпавшейся женщины, и несложившаяся окончательно фигура с прорывавшимися детскими движениями, и полный внутреннего огня взгляд карих глаз, и душистая волна волос, и то свежее, полное чувство, которое он испытывал в ее присутствии.
В душе набоба являлась слабая надежда, что он встретит Лушу где-нибудь – в театре, на гулянье вечером или, наконец, у Раисы Павловны. Но время бежало, а Луша продолжала упорно выдерживать свой характер и не хотела показываться решительно нигде. Прейн и Раиса Павловна делали такой вид, что ничего не понимают и не видят. То, чего добивался Лаптев, случилось так неожиданно и просто, как он совсем не предполагал. Раз утром он возвращался по саду из купальни и на одном повороте лицом к лицу столкнулся с Лушей, которая, очевидно, бесцельно бродила по саду, как это иногда любила делать, когда в саду никого нельзя было встретить. Молодые люди остановились и посмотрели друг на друга одинаково смущенным и нерешительным взглядом. Луша была в простеньком ситцевом платье и даже без шляпы; голова была подвязана пестрым бумажным платком, глубоко надвинутым на глаза.
– Здравствуйте! – нерешительно протягивая руку, проговорил набоб.
– Здравствуйте!
Девушка сделала движение, чтобы продолжать свою прогулку, но набоб загородил ей дорогу и как-то залпом проговорил:
– Послушайте, Гликерия Виталиевна, зачем вы прячетесь от меня?
– Я и не думала ни от кого прятаться, это вам показалось…
– Пусть будет так… Какая ж причина заставляла вас все время сидеть дома?
– Самая простая: не хотелось никуда выходить.
– Только?
Лаптев недоверчиво оглянулся, точно ожидая встретить, если не самого доктора налицо, то по крайней море его тень.
– Да, только! – спокойно подтвердила Луша. – Кажется, достаточно; всякий человек имеет право на такое простое желание, как сидеть дома…
– Вы не искренни со мной…
Девушка улыбнулась. Они молча пошли по аллее, обратно к пруду. Набоб испытывал какое-то странное чувство смущения, хотя потихоньку и рассматривал свою даму. При ярком дневном свете она ничего не проиграла, а только казалась проще и свежее, как картина, только что вышедшая из мастерской художника.
– Что вам от меня нужно? – спросила Луша, когда они подходили уже к самому пруду.
– Ничего… мне просто хорошо в вашем присутствии – и только. В детстве бонна-итальянка часто рассказывала мне про одну маленькую фею, которая делала всех счастливыми одним своим присутствием, – вот вы именно такая волшебница, с той разницей, что вы не хотите делать людей счастливыми.
– Как красиво сказано! – смеялась Луша. – Только интересно знать, которым изданием выпущена ваша «маленькая фея»?
– Клянусь вам, Гликерия Витальевна, что это самое первое…
– Сегодня?
– С вами невозможно говорить серьезно, потому что вы непременно хотите видеть везде одну смешную сторону… Это несправедливо. А нынче даже воюющие стороны уважают взаимные права.
– Обыкновенная жизнь – самая жестокая война, Евгений Константиныч, потому что она не знает даже коротких перемирий, а побежденный не может рассчитывать на снисхождение великодушного победителя. Трудно требовать от такой войны уважения взаимных прав и, особенно, искренности.
– Что вы хотите сказать этим?
Луша быстрым взглядом окинула своего кавалера и проговорила с порывистым жестом:
– Вы давеча упрекнули меня в неискренности… Вы хотите знать, почему я все время никуда не показывалась, – извольте! Увеличивать своей особой сотни пресмыкающихся пред одним человеком, по моему мнению, совершенно лишнее. К чему вся эта комедия, когда можно остаться в стороне? До вашего приезда я, по свойственной всем людям слабости, завидовала тому, что дается богатством, но теперь я переменила свой взгляд и вдвое счастливее в своем уголке.
– Следовательно, вы должны быть благодарны мне за этот урок?
– Нисколько!
Эта болтовня незаметно продолжалась в том же тоне, причем Луша оставалась одинаково сдержанной и остроумной, так что набоб еще раз должен был признать себя побежденным этой странной, капризной девчонкой.
– Надеюсь, что мы будем друзьями? – говорил Лаптев, когда девушка начала прощаться.
Луша с улыбающимся взглядом покачала своей красивой головкой.
– По крайней мере, вы не будете прятаться? – продолжал набоб, делая нетерпеливое движение. – Я раньше думал, что вы так поступали по чужой инструкции…
– Именно?
– А Раиса Павловна?
– Я уважаю Раису Павловну, но это не мешает мне иметь свои собственные взгляды.
– В этом я убедился… Итак, мы еще увидимся?
– Не знаю…
Эта нечаянная встреча подлила масла в огонь, который вспыхнул в уставшей душе набоба. Девушка начинала не в шутку его интересовать, потому что совсем не походила на других женщин. Именно вот это новое и неизвестное и манило его к себе с неотразимою силой. Из Луши могла выработаться настоящая женщина – это верно: стоило только отшлифовать этот дорогой камень и вставить в надлежащую оправу.
Непосредственным следствием этой встречи было то, что в комнате Луши каждый день появлялся новый роскошный букет живых цветов, а затем та же невидимая рука приносила богатые бонбоньерки с конфетами. Только раз, когда Луша открыла одну из таких бонбоньерок и среди конфет нашла обсахаренную сапфировую брошь, она немедленно послала за Чарльзом и возвратила ему и бонбоньерку и запретный плод с приличной нотацией. Оставшись одна, она даже расплакалась и вышвырнула за окно последний букет. Эта арамейская любезность возмутила ее до глубины души, хотя она никому ни слова о ней не сказала. Разве она какая-нибудь «галка», чтобы делать ей такие глупые подарки? Если она позволяла дарить себе цветы и конфеты, то потому только, что они ничего не стоили. Не успело еще улечься впечатление этого неудачного эпизода, как в одно прекрасное утро во флигелек Прозорова набоб сделал визит, конечно в сопровождении Прейна. Виталий Кузьмич был дома и принял гостей с распростертыми объятиями, но Луша отнеслась к ним довольно сухо. Разговор вертелся на ожидаемых удовольствиях. Предполагалась поездка в горы и несколько охотничьих экскурсий.
– Вы любите ездить верхом? – спрашивал набоб хозяйку.
– Да, очень люблю.
Прейн дурачился, как школьник, копируя генерала и Майзеля; Прозоров иронизировал относительно кукарских дам, заставляя Лаптева громко смеяться.
– Что же вы нас не пригласите напиться чаю? – напрашивался Прейн с своей веселой бессовестностью.
Девушка на мгновение смутилась, вспомнив свою разрозненную посуду, но потом успокоилась. Был подан самовар, и Евгений Константиныч нашел, что никогда не пил такого вкусного чаю. Он вообще старался держать себя с непринужденностью настоящего денди, но пересаливал и смущался. Луша держала себя просто и сдержанно, как всегда, оставаясь загадкой для этих бонвиванов, которые привыкли обращаться с женщинами, как с лошадьми.
– А где наш общий друг? – спрашивал Прейн, выставляя свои гнилые зубы.
– Какой друг? – удивилась Луша.
– А доктор? Это милый молодой человек, которого я полюбил от души…
– И я тоже, – прибавил Лаптев, делая серьезное лицо. – Мне остается только пожалеть, что в медицине я совсем профан.
Прозоров не упустил, конечно, случая и прошелся довольно ядовито насчет хорошего парня Яшки. Эта сцена не понравилась Луше, и она замолчала. Поболтав с полчаса, гости ушли; в Прозоровском флигельке наступила тяжелая и фальшивая пауза. Прозоров чувствовал, что кругом него творится что-то не так, как следует, но у него не хватило силы воли покончить разом эту глупую комедию, потому что ему нравилась занятая им роль bel-esprit [21]21
остроумного человека (фр.).
[Закрыть]и те победы, которые он одержал над Ниной Леонтьевной. Конечно, Лаптев ухаживает за Лушей и ухаживает слишком ясно, по ведь это избалованный дурак, а Луша умна; притом вся эта орда скоро уедет с заводов. На этих соображениях Прозоров совершенно успокаивался, предоставив Лушу самой себе.
В тот же день к Прозоровскому флигелю была приведена великолепная английская верховая лошадь под дамским седлом, но она подверглась той же участи, как и сапфировая брошь.
Знала ли Раиса Павловна, что проделывал набоб и отчасти Прейн? Луша бывала у ней по-прежнему и была уверена, что Раиса Павловна все знает, и поэтому не считала нужным распространяться на эту тему. По удвоенной нежности Раисы Павловны она чувствовала на себе то, что переживала эта странная женщина, и начала ее ненавидеть скрытой и злой ненавистью.
– А ты, право, напрасно это… – нерешительно проговорила Раиса Павловна после эпизода с лошадью.
– Что «это»?
Раиса Павловна только посмотрела на свою любимицу улыбающимся, торжествующим взглядом, и та поняла ее без слов.
– Впрочем, тебе лучше знать, – продолжала Раиса Павловна, как о вещи известной.
«Да, я знаю, что ты меня хочешь повыгоднее продать, – думала, в свою очередь, Луша, – только еще пока не знаешь, кому: Евгению Константинычу или Прейну…»
Раиса Павловна поняла мысли Луши по ее сдвинувшимся бровям и горько улыбнулась: Луша была несправедлива к ней. В последнее время между этими женщинами установилось то взаимное понимание между строк, которое может существовать только между женщинами: они могли читать друг у друга в душе по взгляду, по выражению лица, по малейшему жесту. Иногда это было тяжело, но в большинстве случаев избавляло от напрасных объяснений. В открытых нотах Раисы Павловны проходила темой одна фраза: «я тебя люблю, люблю, люблю…», а в партии Луши холодно отзывалось: «а я тебя ненавижу, ненавижу, ненавижу…» Когда стороны начинали увлекаться, ноты разыгрываемой мелодии сливались, и их смысл терялся; такие недоразумения распутывались в более спокойные минуты.
– Знаешь, Луша, что сказал Прейн третьего дня? – задумчиво говорила Раиса Павловна после длинной паузы. – Он намекнул, что Евгений Константиныч дал бы тебе солидную стипендию, если бы ты вздумала получить высшее образование где-нибудь в столице… Конечпо, отец поехал бы с тобой, и даже доктору Прейн обещал свои рекомендации.
Луша только улыбнулась, и в ее глазах засветилась мысль: «Раиса Павловна, как вам не совестно повторять такие глупости, которым вы и сами не верите? Ведь это та же засахаренная брошь…» Раиса Павловна в ответ на это звонко поцеловала Лушу, что в переводе значило «Умница ты моя!»
XXII
На заводе шли деятельные приготовления к предстоявшей поездке набоба по всему округу, о чем было уже известно всем, а в особенности тем, кому о сем ведать надлежало. Управители оставили Кукарский завод и разъехались по своим гнездам: Сарматов – в Мельковский завод, Буйко – в Куржак, Дымцевич – в Заозерный и т. д. Главная остановка по маршруту предполагалась в Баламутском заводе, где царствовал Вершинин, а затем в Заозерном и Куржаке, где предполагалась охота.
В этот короткий промежуток времени Родион Антоныч успел уже два раза объехать все заводы; он лез из кожи, чтобы все и везде было форменно, в лучшем виде, главным образом, конечно, с внешней стороны. Главной целью этих поездок было кое-что подготовить генералу Блинову, который будет собирать сведения от заводских контор по разным статьям. Необходимо было предупредить генерала и напустить ему такого тумана, что сам черт ногу переломит. По пути Родион Антоныч собрал сведения относительно замыслов Вершинина в Майзеля: первый готовил ряд обедов и завтраков, а второй – охоту. Мимоходом Родион Антоныч завернул на прииски, где и делались приготовления к оленьей охоте, и даже забрался на Рассыпной Камень, самую высокую гору в округе Кукарских заводов, на вершине которой устраивалась главная стоянка. Рубили две избы и чистили дорогу на самую вершину горы.
– А… предтеча! – смеялся Вершинин, когда встретил Родиона Антоныча на своем заводе. – Как здоровье Раисы Павловны?
– Ничего, слава богу…
– А я слышал, что у ней сильный насморк.
Эти шуточки не особенно беспокоили Родиона Антоныча, потому что у Вершинина уж так была устроена голова; их смысл он понял только вечером, когда к нему прискакал особый нарочный с письмом от Раисы Павловны, которая извещала своего Ришелье об аудиенции заговорщиков у набоба. «Меня нисколько не удивляет их поведение, – писала она под первым впечатлением, – но представьте себе, что во главе депутации явился… кто бы вы думали? – Яшка Кормилицын! Скажите мне, ради бога, что этому младенцу нужно? Пишу вам все, что узнала от Прейна, который присутствовал на аудиенции; не верьте тем слухам, которые распускают наши враги. Меня все оставили… Если вы находите наше дело проигранным, я не удерживаю вас; может быть, и вы хотите примкнуть к партии Тетюева, из принципа, что всякому своя рубашка к телу ближе. Но я повторяю вам одно, что именно теперь, когда всё и все против меня, я глубоко убеждена, что вся эта кутерьма окончится в нашу пользу». Дальше следовало подробное описание аудиенции заговорщиков и ряд деловых соображений, советов и наставлений, пересыпанных крупной солью.
Родион Антоныч слишком далеко зашел, чтобы теперь думать о своей рубашке и, махнув рукой, решил лечь костьми за Раису Павловну: он еще веровал в нее, потому что за нее был всесильный Прейн.
Положение управителей на отведенных им заводах больше всего походило на положение удельных князьков древней Руси: здесь кипела вечная война из-за выгодных столов, составлялись остроумные комбинации и делались целые походы, вроде того, который теперь устроен был против Раисы Павловны. В мирное время управители-князьки были заняты мелкими междоусобиями, личными счетами и копеечными интригами; подкопаться под врага, подставить ножку при удобном случае своему приятелю, запустить шпильку, отплатить за старую обиду, – из этих мелочей составлялся почти безвыходный круг, в котором особенно деятельное участие принимали женщины. Главным воротилой в этом исключительном мирке был Вершинин; он задавал тон и твердой рукой вел свою линию; другие управители плясали уже по его дудке, а в случае проявления самостоятельности подвергались соответствующей каре. На парадных завтраках Раисы Павловны, в обществе, в специально заводских делах – нигде не было спасения, и недругу Вершинина ничего не оставалось, как только искать спасения в бегстве. Заслужить нерасположение Вершинина равнялось чуть не смертному приговору. Бывали, впрочем, моменты, когда против него составлялась партия из мелких управителей. Было даже раза два так, что Вершинин сам висел на волоске, но всю эту путаницу он всегда умел распутать с дьявольской хитростью и всегда выходил сух из воды. Настоящий состав управителей мирился с этим генеральством Вершинина, за исключением Майзеля; Сарматов, Дымцевич, Буйко и другие были слишком мелки, чтобы открыто тягаться с Вершининым, и предпочитали скрывать свои настоящие чувства. Приезд Лаптева и борьба с Раисой Павловной слили воедино всех и на время заставили забыть личные дрязги, счеты и неприятности. Расчет был простой: если на место Горемыкина назначат Вершинина или Майзеля, тогда произойдет соответствующее повышение всех остальных; если будет Тетюев, тогда увеличат жалованье или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, никто не желал проигрывать, а рассчитывал на верный выигрыш. Несомненный успех первой аудиенции служил ручательством за успех всего дела; теперь оставалось только устроить счастливую поездку набоба по заводам – и дело в шляпе. В последнем случае задача несколько двоилась: нужно было показать плоды и успехи своих трудов и в то же время недостатки и упущения горемыкинской администрации. Это был очень скользкий путь, тем более что мелкие служащие были за Горемыкина. Словом, работы всем было по горло: все чистилось прибиралось и принимало праздничный вид. Управители бесились, ругались, топали ногами и были глубоко убеждены, что в этом именно и состоит настоящее заводское дело.
Маршрут, составленный Прейном, имел в длину около трехсот верст, захватывая все заводы. Из Кукарского завода сначала должны были проехать в Исток и Мельковский – в последнем рюмка водки и легкий завтрак; затем следовал Баламутский завод – обед и, может быть, ужин, смотря по обстоятельствам. Из Баламутского завода – в Заозерный, а из последнего, по озеру, на Рассыпной Камень – ночевка и кормежка. Последними в маршруте стояли заводы Лотовой и Куржак. Раиса Павловна просмотрела этот маршрут вместе с Прейном и вполне одобрила его, за исключением ужина в Баламутском заводе.
– Везите его прямо на охоту, – советовала Раиса Павловна.
– Да ведь другой дороги нет к Рассыпному Камню? Наконец нельзя же миновать наш главный завод… Если бы не генерал, тогда, конечно, мы прокатили бы Евгения Константнныча проселком – и делу конец. Но генерал, вот где загвоздка. Да ничего не выйдет из этого, если и заночуем у Вершинина.
Для поездки по заводам был снаряжен громадный поезд из тридцати троек. Охота и кухня были отправлены вперед другим обозом. Было известно, что поедет Нина Леонтьевна, значит – Раиса Павловна останется дома. Майзель с Перекрестовым уехали вперед, чтобы приготовить приличную встречу набобу в горах; впрочем, представитель русской прессы изменил Майзелю на третьей же станции: смущенный кулинарными приготовлениями Вершинина, он остался в Баламутском заводе. Участие в поездке Нины Леонтьевны решило капитальный вопрос о том, что в предполагаемой охоте могут принять участие и дамы; конечно, такой оборот взволновал прекрасную половину и прежде всего поднял вопрос о костюмах. Последнее особенно беспокоило дам. Охота не бал, приходилось самим «сочинять костюмы», следовательно, единственным основанием являлся только свой вкус; соперничество и желание блеснуть окончательно усложнили все дело. Модные журналы как-то упустили из виду возможность такого случая; самые смелые дамы, как m-me Capматова, некоторое время колебались даже пред мужским костюмом, но когда узнали, что в таком костюме едет на охоту Прозорова, то восстали против нее с презрением. Луша действительно готовилась ехать в горы и теперь, под руководством Прейна, училась стрелять в цель из монтекристо. Эти уроки шли, кажется, успешно. Веселый учитель, с французской складкой в характере, нравился Луше, потому что никогда не надоедал и вовремя умел приходить и уходить. Между ними установились те дружеские отношения, которые незаметно сближают людей; Прейн вообще понимал хорошо женщин и без слов умел читать у них в душе, а Луше эта тонкость понимания особенно и нравилась в нем. Прибавьте к этому рыцарскую вежливость и уменье всегда принести жертву женскому тщеславию. Шуточки и остроты Прейна смешили Лушу до слез, и она шутя называла его дедушкой. В ответ на это звание Прейн целовал у Луши руки и беззаботно говорил:
– Учитесь у дедушки великой философии жизни, которая заключается всего в одном слове: никогда не скучать.
– Хорошо вам так рассуждать, – смеялась Луша, – а зашить бы вас в нашу девичью кожу, тогда вы запели бы другую песню с своей великой философией… Мужчинам все возможно, все позволительно и все доступно, а женщина может только смотреть, как другие живут.
– Совершенно справедливо, хотя и не без исключений. Умная и красивая женщина всегда сумеет поставить себя выше общественных условий… Но для этого она должна расстаться с некоторыми предрассудками…
– Вы смотрите на женщин хуже, чем на своих лошадей…
– О нет, вы ошибаетесь… Умная женщина может сделать из нас все – это страшная сила.
Лаптев по-прежнему ухаживал за Лушей, посылал букеты и говорил свои армейские комплименты; но этот избалованный набоб не умел попасть в тон, и Луша всегда скучала в его обществе. Эта неподвижная, апатичная натура, с чисто животными инстинктами, отталкивала ее, особенно по сравнению с Прейном, у которого ум вечно играл и искрился. Постепенно, шаг за шагом, этот великий мудрец незаметно успел овладеть Лушей, так что она во всем слушалась одного его слова, тем более что Прейн умел сделать эту маленькую диктатуру совершенно незаметной и всегда знал ту границу, дальше которой не следовало переходить. Чувство меры в нем было особенно развито, и он умел подладиться к невозможным обстоятельствам, от которых даже у самого терпеливого осла давно лопнуло бы терпение. Так Прейн добился того, что Луша перестала дичиться и даже начала брать под его руководством уроки стрельбы и верховой езды. Ездил Прейн, как жокей, и быстро посвятил Лушу во все тайны этого великого искусства. Это сближение, однако ж, беспокоило Раису Павловну, которая, собственно, и сама не могла дать отчета в своих чувствах: с одной стороны, она готовила Лушу не для Прейна, а с другой – в ней отзывалось старое чувство ревности, в чем она сама не хотела сознаться себе. Луша, с эгоизмом всех довольных людей, делала вид, что ничего не замечает.
– Тебе необходимо ехать в горы, – советовала Раиса Павловна, когда Луша раздумывала принять эту поездку. – Во-первых, повеселишься, во-вторых… ты поедешь вместе с отцом, следовательно, вполне будешь защищена от всяких глупых разговоров; а на наших заводских баб но обращай никакого внимания. Нам с ними не детей крестить.
– Мне все равно, Раиса Павловна, что будут говорить про меня.
– Есть одно обстоятельство… собственно пустяки, но я дала бы тебе, Луша, маленький совет.
– Именно?
– Будь осторожнее с Прейном…
Последние слова Раиса Павловна произнесла с опущенными глазами и легкой краской на лице: она боялась выдать себя, стыдилась, что в этом ребенке видит свою соперницу. Она любила Лушу, и ей тяжело было бы перенести слишком тесное сближение ее с Прейном, с которым, собственно, все счеты были давно кончены… но, увы! – любовь в сердце женщины никогда не умирает, особенно старая любовь.
Давно ожидаемая поездка наконец совершилась в светлый июньский день, когда четырехместная коляска Лаптева стрелой полетела по дороге в Истокский завод; в коляске с набобом сидел один Прейн, а в ногах у них лежала ласково взвизгивавшая Brunehaut. Генерал ехал в следующем экипаже, вместе с Ниной Леонтьевной; за ним летела тройка, имевшая счастье везти самого m-r Чарльза, который теперь ехал в сопровождении собственного лакея. За m-r Чарльзом ехали собственные секретари Евгения Константиныча, потом Братковский с Летучим, а прочие экипажи были заняты остальной свитой. Тройки летели с бешеной быстротой восемнадцати верст в час; на половине станции были выставлены заводные лошади; но это не помогало, и непривычные к такой гоньбе тройки задыхались от жара. На первом же полустанке оказалось четыре загнанных тройки; покрытые пеной, лошади тяжело вздрагивали, точно дышали всем телом, опускали головы и падали в конвульсиях.
Набоб лениво смотрел по сторонам, где мелькал тощий лес, вырубленный на заводские надобности; попадались болота, небольшие горки, прятавшаяся в тальнике и лопушнике речка. Подорожная трава была теперь покрыта густым слоем пыли, которую оставляли за собой транспорты железа и чугуна. Дождя не было целую неделю, и зелень сильно «притомилась», как говорят мужики. Трава просила дождика. Даже березы и рябины стояли сонные в окружавшей их знойной истоме. Из хвойного леса несло тяжелым смолистым запахом, кружившим голову. Небо было чисто, и только на западе, над кривой линией гор, ярко блистала гряда пушистых облаков, точно свод небесный был обложен волнами белоснежного дорогого меха.
– Дело кончится тем, что я схвачу чахотку, – капризно говорил набоб, чихая от пыли.
– Что же, за отечество и умереть приятно, сказал какой-то мудрец…
Покуривая сигару, Прейн все время думал о той тройке, которая специально была заказана для Прозорова; он уступил свою дорожную коляску, в которой должны были приехать Прозоров с дочерью и доктор.
Дорога вилась пыльной лентой по холмистой местности, огибая гряду лесистых горок, которые тянулись к востоку, где неправильной глыбой синел Рассыпной Камень. Через два часа езды выглянул своими крайними домиками Истокский завод; он залег на дне глубокой горной долины, где была запружена бойкая горная речонка. Несколько широких улиц вытянулись по берегам заводского пруда; на площади, заваленной дровами, белела церковь. Фабрика слабо дымилась у самой плотины. На небольших заводах летом работы приостанавливаются, потому что все население страдует, заготовляя сено; только такие громадные заводы, как Кукарский и Баламутский, работали насквозь целый год, потому что располагали десятками тысяч рабочих рук.
В Истоке только переменили лошадей, и набоб даже не вышел из экипажа, хотя был встречен колокольным звоном и хлебом-солью. Густая толпа народа не успела мигнуть, как барин уже был на дороге в Мельковский завод, где готовилась ему торжественная встреча. Характер местности быстро изменялся, и дорога начала забирать в гору; широкие лесные просеки, глубокие лога с перекинутым через речку мостиком, покосы с сочной густой травой, пестревшей бледными цветочками, – все кругом было хорошо своеобразной красотой скромного северного пейзажа. Мельковский завод был похож на Исток, как две капли воды, только чуть-чуть побольше, да церковь была выкрашена желтой охрой. Тот же колокольный звон, те же толпы народа и та же хлеб-соль. В квартире Сарматова был сервирован легкий завтрак, на который ехавшая за набобом челядь накинулась с той жадностью, с какой бросается публика на железных дорогах к буфету.








