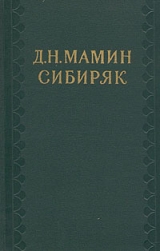
Текст книги "Том 3. Горное гнездо"
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)
– Да, а рабочим, по Мальтусу, будете рекомендовать нравственное воздержание? – спросил Прозоров прищурившись.
– До этого пока еще не дошло, но и это иметь в виду не мешает. Отчего мы можем воздерживаться от брака до того времени, пока не составим себе определенного общественного положения, а рабочий будет плодить детей с шестнадцати лет?
– По-моему, это проповедовать открытый разврат, хотя и теперь нравственность заводского населения стоит не особенно высоко. Я выпью еще, Мирон Геннадич?..
– Выпей. Только о Мальтусе я упомянул, Виталий Кузьмич, между прочим, собственно для выяснения своих взглядов – это еще вопрос далекого будущего, а теперь прежде всего необходимо самое существенное: развязаться с этой уставной грамотой, а потом освободить заводы от долгов. Ведь у нас все металлы заложены в государственный банк…
– Знаю, слышал… Только я хотел бы сказать тебе слова два о твоей системе.
Прожевывая ломтик балыка, Прозоров забегал по кабинету с своими обычными жестами. Генерал смотрел на него с тем оттенком снисхождения, с каким умеют смотреть добрые русские генералы.
– Ты уж меня извини за откровенность, Мирон, – предупреждал Прозоров. – Я, конечно, пьяница и потерянный человек…
– Это, право, не относится к делу.
– Ну, хорошо, допустим, что не относится. А я тебе прямо скажу, что вся твоя система выеденного яйца ни стоит. Да… И замечательное дело: по душе ты не злой человек, а рассуждаешь, как людоед.
– Именно?
– Очень просто: ты продал душу черту, то есть капиталистам, а теперь утешаешься разными софизмами. Ведь и сам чувствуешь, что совсем не то говоришь…
– Нет, я этого не чувствую.
– Тем хуже для тебя! Если я погибаю, то погибаю только одной своей особой, от чего никому ни тепло, ни холодно, а ты хочешь затянуть мертвой петлей десятки тысяч людей во имя своих экономических фантазий. Иначе я не могу назвать твоей системы… Что это такое, вся эта ученая галиматья, если ее разобрать хорошенько? Самая некрасивая подтасовка научных выводов, чтобы угодить золотому тельцу.
Генерал поморщился, но продолжал слушать это немножко откровенное возражение. Упомянув о значении капитализма, как общественно-прогрессивного деятеля, поскольку он, при крупной организации промышленного производства, возвышает производительность труда, и далее, поскольку он расчищает почву для принципа коллективизма, Прозоров указал на то, что развитие нашего отечественного капитализма настойчиво обходит именно эту свою прямую задачу и, разрушив старые крепостные формы промышленности, теперь развивается только на счет технических улучшений, почти не увеличивая числа рабочих даже на самый ничтожный процент, не уменьшая рабочего дня и не возвышая заработной платы. Ясное дело, что когда все кругом дорожает и, кроме того, наш курс все надает, фабричному рабочему приходится выводить на фабрику свою жену и детей. Если продолжать в этом же направлении, впереди вырастут страшные промышленные кризисы, с одной стороны, а с другой – создастся русский пауперизм.
– Вот вам результаты прославленного наукой рационального разделения труда, – уже кричал Прозоров, страшно размахивая руками. – Вы забываете о рабочем и его будущности, а только думаете о том, чтобы при помощи всемирного рынка реализовать в пользу кучки крупных промышленников ту прибавочную стоимость, которая вам останется от труда сотен тысяч рабочих… Притом вы, во имя развития отечественной промышленности, стараетесь непременно занять привилегированное положение, что опять-таки всей своей тяжестью ложится все на того же рабочего: каждый нажитый вами этим путем рубль является дефицитом в народном хозяйстве, потому что рабочему он стоит десять рублей. Нет, батенька, все это гниль и чепуха…
Прозоров продолжал в том же роде; генерал слушал его внимательно, стараясь проверить самого себя.
– А впрочем, ну вас к черту совсем, со всей вашей ученой ерундой! – неожиданно закончил Прозоров, наливая себе рюмку водки.
– Расскажи что-нибудь о себе, Виталий Кузьмич! – проговорил генерал, опять рассматривая своего собеседника. – Ну, как ты живешь тут, что делаешь?..
– Что рассказывать: весь налицо… Хорош, нечего сказать. Ха-ха!.. Ну, да я не завидую твоему превосходительству, поверь мне. Так свиньей и останусь до конца дней…
– У тебя, кажется, дочь была?
– Да, была… И теперь оная имеется в наличности. Так, пустельга… Впрочем, ведь на таких людей и существует постоянный спрос. Я пробовал учить ее, тоже воспитывал, да ничего не вышло. В папеньку одним концом пошла, видно…
С каждой новой рюмкой Прозоров хмелел все сильнее и сильнее, пока совсем не свалился на диван, где и заснул…
«Действительно, настоящая свинья…» – с горечью подумал генерал.
XVI
У Майзеля на другой день приезда Лаптева на заводы был маленький деловой вечер с закуской. Жил Майзель, как все немцы, очень плотно. На подъезде картинно лежали два датских дога; на звонок из передней, как вспугнутый вальдшнеп, оторопело выбегал в серой официальной куртке дежурный лесообъездчик; на лестнице тянулся мягкий ковер; кабинет хозяина был убран на охотничий манер, с целым арсеналом оружия, с лосиными и оленьими рогами, с чучелами соколов и громадной медвежьей шкурой на полу. Везде мягкие ковры, бронза, мягкая дорогая мебель, шредеровский рояль в зале, горка с минералогической коллекцией, горка с серебром, горка с фарфором, несколько порядочных картин масляными красками и т. д. Воздух был всегда прокурен дымом дорогих сигар и вообще везде пахло тугим, чисто немецким довольством. Детей у Майзеля не было, поэтому царил во всем самый педантичный порядок, как в хорошем музее, где строго преследуют каждую пылинку. На половине Амалии Карловны немецкая чистота достигала своего апогея, так что сама хозяйка походила на кошку, которая целые дни моется лапкой. Даже Родион Антоныч в своей раскрашенной хоромине никогда не мог достигнуть до этого идеала теплого, уютного житья, потому что жена была у него русская, и по всему дому вечно валялись какие-то грязные тряпицы, а пыль сметалась ленивой прислугой по углам. Поэтому Родион Антоныч имел полное основание завидовать Майзелю и даже иногда жалел, зачем он, Родион Антоныч, не русский немец.
Сегодня у Майзеля был все свой народ: Вершинин, Дымцевич, Буйко, Сарматов и доктор Кормилицын. Ждали Тетюева, который обещал завернуть вечерком.
– Это какой-то идиот… – резко отчеканивая слова, говорил сам Майзель, когда речь зашла о Прейне. – И для чего он тащит на Урал всякую сволочь, вроде Летучего и этого прощелыги Перекрестова!
– Вы напрасно так думаете, Николай Карлыч, – мягко возразил Вершинин, разваливаясь в кресле. – Прейн очень хорошо изучил привычки Евгения Константиныча и, вероятно, не ошибется в расчетах.
– Да и расчетов никаких нет, Демид Львович, а просто одна сплошная глупость… За кого он нас принимает, что нам приходится брататься со всякой швалью?
– Нет, а мне каково достается! – перебил Сарматов, хлопая себя по лысине. – Извольте-ка составить любительский спектакль буквально из ничего… Раиса Павловна помешалась на плечах Наташи Шестеркиной, а много ли сделаешь из одних плеч, когда она вся точно деревянная – ступить по-человечески не умеет.
– А Канунникова?
– Канунникова… Не спорю, господа, у Канунниковой и бюст, и талия, и прочее в надлежащем виде, но ее погубят ноги! Представьте себе настоящие гусиные лапы… Я даже сомневаюсь, нет ли у ней перепонок между пальцами.
– Чем труднее задача, тем приятнее победа, – заметил Вершинин. – Вам, Сарматов, как человеку, знакомому с небесными светилами, нетрудно уже примениться к земным планетам, около которых приходится теперь вам вращаться наперекор законам небесной механики.
– Тем более неприлично унывать артиллеристу, через которого переехало целое орудие… – прибавил Майзель.
– Нет, вы, господа, слишком легко относитесь к такому важному предмету, – защищался Сарматов. – Тем более что нам приходится вращаться около планет. Вот спросите хоть у доктора, он отлично знает, что анатомия всему голова… Кажется, пустяки плечи какие-нибудь или гусиная нога, а на деле далеко не пустяки. Не так ли, доктор?
– Я вас не понимаю, Сарматов, – отозвался доктор.
– Не понимаете? Пустяки, батенька, нечего прикидываться… Если бы я был на месте Прозорова, я прописал бы вам такую анатомию с физиологией вместе, что небо в овчинку бы показалось. Кто Луше подарил маринованную глисту?
– Совсем не маринованную… Зачем вы врете, Сарматов? Гликерия Витальевна интересовалась тогда сравнительной анатомией – ну, я ей и преподнес великолепный экземпляр taenia solnm. Анатомические препараты никогда не сохраняются в уксусе, а только в спирте.
– Виноват, а я думал – в уксусе. Что же вам сказала тогда Гликерия Витальевна, когда вы разодолжили ее своей глистой?
– Ах, отстаньте, пожалуйста!.. Прогнала, и только…
Все засмеялись. Чудак-доктор тоже смеялся вместе с другими своим жиденьким дребезжавшим смешком, точно в нем порвалась какая-то струна. «Идиот! – со злобой думал Майзель, закручивая ус. – Пожалуй, еще все разболтает…» Он пожалел, что пригласил сегодня доктора на общий совет.
– Отчего вы, Сарматов, не пригласили Лушу к себе в труппу? – спрашивал Вершинин. – Девочка ничего себе…
– Не приказано… Высшее начальство не согласно. Да и черт с ней совсем, собственно говоря. Раиса Павловна надула в уши девчонке, что она красавица, ну, натурально, та и уши развесила. Я лучше Анниньку заставлю в дивертисменте или в водевиле русские песни петь. Лихо отколет!..
– A mademoiselle Эмма будет у вас участвовать?
У Сарматова вертелось на кончике языка ядовитое словечко относительно m-lle Эммы, но он удержался из уважения к русско-немецкому происхождению хозяина.
– А Раиса Павловна что-нибудь устроит, – говорил кто-то. – Дайте срок, только бы ей увидаться с Прейном.
– Ну, это еще Андроны едут, – сомневался Майзель. – Для первого раза Нина Леонтьевна ее порядочно смазала… А та рассчитывала разыгрывать роль хозяйки! Ха-ха…
Вершинин засмеялся деланным смехом из уважения к хозяину, как и другие. Он, на месте Нины Леонтьевны, не сделал бы так, потому что еще кто знает, что впереди; для чего было бравировать с первого шага. В каждом деле Вершинин прежде всего помнил золотую пословицу, что своя рубашка к телу ближе, а здесь тем более: зверь был ранен, но он мог еще подняться на ноги. В жизни случаются превращения, каких не в состоянии предвидеть ни одна теория вероятностей. Старик Майзель, как рассерженный боров, теперь готов был лезть на стену, потому что Раиса Павловна смазала его несравненную Амальхен; но это еще плохое доказательство для того, чтобы другим надевать петлю на шею. В сущности, собравшаяся сегодня компания, за исключением доктора и Сарматова, представляла собой сборище людей, глубоко ненавидевших друг друга; все потихоньку тяготели к тому жирному куску, который мог сделаться свободным каждую минуту, в виде пятнадцати тысяч жалованья главного управляющего, не считая квартиры, готового содержания, безгрешных доходов и выдающегося почетного положения. Без сомнения, Горемыкин висел на волоске, и предоставлялось каждому решать мудреный вопрос, кто займет его место. Вершинин и Майзель получали официальных пять тысяч, остальные по три – это было очень немного в сравнении с пятнадцатью тысячами жалованья главного управляющего. Собственно, возможными кандидатами представлялись Вершинин и Майзель, а затем Тетюев. Но это не мешало и остальным думать про себя: чем он хуже других. Дымцевич, Буйко и даже Сарматов ничего не имели против пятнадцати тысяч. Вершинин славился как административная голова и как самый ловкий интриган; Тетюев – как юрист и делец, а Майзель – как крепкая солдатская рука в ежовой рукавице. Все эти особенности давали их владельцам некоторые надежды и вместе поднимали между ними ту черную кошку, из-за которой люди делаются тайными врагами не на живот, а на смерть. И вместе с тем они чувствовали себя бессильными поодиночке и должны были соединиться, чтобы добиться цели. Кто же из них будет тем счастливцем, на которого милостиво взглянет капризная фортуна?
Майзель поджидал Тетюева с особым нетерпением и начинал сердиться, что тот заставлял себя ждать. Но Тетюев, как назло, все не ехал, и Майзель, взорванный такой невнимательностью, решился без него приступить к делу.
– Господа, я надеюсь, что здесь собрался все свой народ и никто не вынесет сору из избы, – начал он, отчеканивая слова. – Я пригласил вас за тем, чтобы вместе обсудить, как нам поступить. Я уверен, что всем нам одинаково надоело плясать под дудку старой бабы. По крайней мере, для себя лично я считаю это позором. Против Платона Васильича, конечно, трудно что-нибудь сказать, как против человека, который заслуживает только нашего сожаления. Да и что можно требовать от калеки, который ничего не видит и не слышит?
– Да, он совсем глух и слеп, – провозгласил Сарматов.
– Господа, кто-то, кажется, подъехал? – заметил
Дымцевич, все время ощипывавшийся и охорашивавшийся, как курица перед дождем. – Это, наверно, Тетюев…
– Конечно, он…
В кабинет действительно вошел сам Тетюев, облеченный в темную синюю пару, серые перчатки и золотое пенсне. Он с деловой, сосредоточенной улыбкой пожал всем руки, извинился, что заставил себя ждать, и проговорил, сосредоточенно роняя слова, как доктор отсчитывает капли лекарства:
– Дела по горло, на части так и рвут. Едва успел вырваться из управы.
– Врешь, врешь и врешь! – перебил Сарматов. – Наверно, наигрывал на какой-нибудь дудке… Знаем твои дела!.. А мы без тебя тут чуть не составили целый заговор.
Майзель поморщился и сердито хрустнул пальцами; он еще раз пожалел, что пригласил на совещание доктора и Сарматова, хотя без них счет был бы не полон.
– Я догадываюсь, господа, о чем шла речь, – подхватил Тетюев брошенную реплику. – Да, нам необходимо соединиться во имя общей цели, хотя мое дело, собственно говоря, сторона.
– Ну, ну, Авдей Никитич, полноте притворяться, – заговорил Вершинин. – Кто заварил кашу, тому и красная ложка…
– Я, ей-богу, ничего… Я в первый раз слышу. Какая каша? Обо мне, право, много лишнего говорят.
– Однако будет, господа, толковать о пустяках, – остановил эти препирательства Майзель. – Приступимте к делу; Авдей Никитич, за вами первое слово. Вы уж высказали мысль о необходимости действовать вместе, и теперь остается только выработать самую форму нашего протеста, чтобы этим дать делу сразу надлежащий ход. Как вы полагаете, господа?
– Подадимте петицию на имя Евгения Константиныча, – предложил Сарматов. – Выскажемся в ней прямо: что так и так, уважая Платона Васильича и прочее, мы не можем больше оставаться под его руководством. Тут можно наплести и о преуспеянии заводского дела, и о нравственном авторитете, и о наших благих намерениях. Я даже с своей стороны предложил бы формулировать эту петицию в виде ультиматума…
– Я первый на это никогда не соглашусь, – заявил Вершинин, – потому что это по меньшей мере глупо… С какой стати ради Платона Васильича я буду рисковать своим местом?
– Я тоже, – заговорил Майзель. – Мы – люди семейные… Как вы думаете, госиода?
Дымцевич и Буйко были, конечно, согласны с ним, потому что хотя были бы не прочь получать пятнадцать тысяч годовых, но лишаться своих трех тысяч тоже не желали. Доктор протестовал против такого решения, потому что уж если начинать дело, так нужно вести открытую игру.
– Что же нам прятаться, если наше дело справедливо? – своим жиденьким тенорком вытягивал доктор. – Нас много, а Платон Васильич один.
– Хорошо вам толковать, Яков Яковлевич, – вступился Вершинин, – когда у вас ни кола ни двора. Отказали от места, поступил на другое – и вся недолга. На докторов теперь везде спрос, а нашему брату получить место – задача не маленькая.
– Но ведь это наконец не честно, – горячился доктор. – Из-за своих личных, можно сказать, семейных расчетов вилять хвостом перед заводовладельцем…
– Ничего вы не понимаете! – оборвал Майзель. – Вы, Яков Яковлич, штанов-то не умеете застегнуть хорошенько, а еще толкуете о честности…
Яша Кормилицын позеленел от злости и, кажется, даже готов был вцепиться в солдатскую физиономию Майзеля, но это неожиданное и неприятное недоразумение было сейчас же устранено вмешательством Тетюева, который несколькими фразами потушил занявшийся пожар.
– Он меня оскорбил! – тоненьким голоском жаловался Кормилицын, размахивая руками, как манекен.
– Ну что ж из этого? – удивлялся Тетюев. – Николай Карлыч почтенный и заслуженный старик, которому многое можно извинить, а вы – еще молодой человек… Да и мы собрались сюда, право, не за тем, чтобы быть свидетелями такой неприятной сцены.
– Завтра дуэль учиним, Яша! – кричал Сарматов доктору. – На тридцати шагах стрелять, постепенно подходя к барьеру, пока один из вас не покончит земное странствие…
После этого маленького эпизода приступили к обсуждению имеющей быть кампании. Выпито было две бутылки шартреза, лица у всех раскраснелись голоса охрипли. Наконец порешили представить Евгению Константинычу свои мотивы и соображения на словах, по той программе, которую разработает особая комиссия.
– А кто же возьмет на себя роль оратора, господа? – спрашивал Тетюев.
– Как кто? А вы-то на что? Да мы на вас, Авдей Никитич, надеемся, как на каменную стену…
– Помилуйте, господа, я-то тут при чем! – удивлялся Тетюев. – Я, конечно, сочувствую вам и готов помочь вам всеми силами, потому что настоящий цезаризм касается и меня как представителя земства. Я должен внести свою лепту в общее дело, но ведь теперь вы являетесь в качестве заводских служащих, как же я к вам пристану?
– Действительно, это не совсем удобно, – согласился Вершинин.
– Я могу представить проект от лица земства – это другое дело, – продолжал Тетюев. – Но в таком случае мне лучше явиться на аудиенцию к Евгению Константинычу одному.
Еще немножко поспорили и согласились с доводами Тетюева.
– Это еще будет лучше, – соображал Сарматов. – Мы откроем действие с двух сторон разом. А все-таки, господа, кто из нас будет оратором? Я подаю голос за доктора…
– И я тоже, – отозвался Вершинин.
– И я тоже… – зараз посыпались голоса.
– Право, уж не знаю, как быть… – сомневался Яша Кормилицын, вытягивая шею и поправляя свою гриву. – Оратор-то я плохой; пожалуй, еще и перевру что-нибудь.
– Ничего, мы вам напишем всю речь, а вы ее выучите наизусть, – успокаивал Тетюев.
– Пустяки! пропустить две рюмки коньяку перед тем, как идти к Евгению Константинычу, – и вся недолга.
– Что ж, я, пожалуй, согласен! – вяло уступил доктор.
– Вот и отлично, Яша! – говорил Сарматов, хлопая доктора по плечу. – Послужи миру, голубчик… А нам как-то неловко: пожалуй, Евгений Константиныч еще подумает про всякого, что он именно и желает занять место Платона Васильича. Ведь так, Яшенька?
После этого соглашения приступили к разработке программы будущих действий и Яшиной речи, в частности. Тетюев стоял за то, чтобы не торопиться, а дать время хорошенько выясниться обстоятельствам.
– А если мы будем тянуть, да и пропустим Евгения Константиныча, – сомневались Буйко и Дымцевич. – Что ему стоит сесть, да и уехать?
– Не упустим, – уверенно говорил Тетюев, потирая руки. – Извините, господа, мне сегодня некогда… Дело есть. В другой раз как-нибудь потолкуем…
Взглянув на свой полухронометр, Тетюев с прежней улыбкой начал прощаться. Заговорщики выпили после него еще бутылку какого-то вина и тоже начали прощаться.
– До завтра… – коротко говорил Майзель, протягивая руку друзьям. – Завтра надеюсь опять видеть вас у себя. Для друзей у меня всегда найдется бутылочка порядочного вина и горячий бифштекс.
Когда все убрались, Майзель медленно сделал налево кругом, как будто поворачивал целую роту, и тяжело, как матерой седой медведь, побрел на половину Амалии Карловны, которая встретила его в дверях спальни в одной кофточке, совсем готовая отойти ко сну.
– Ну, что? – испросила она, вытягивая свое птичье лицо.
– Ничего… дураки!
Майзель коротко засмеялся, награждая свою Амальхен русско-немецким «кюссхен» [16]16
поцелуйчик (от нем.küsschen).
[Закрыть].
– Кто дураки?
– Да все, Амальхен… И вдобавок еще настоящие русские свиньи! Представь себе, Вершинин и Тетюев мечтают занять место Горемыкина… Ха-ха-ха!..
Амальхен тоже засмеялась, презрительно сморщив свой длинный нос. В самом деле, не смешно ли рассчитывать на место главного управляющего всем этим свиньям, когда оно должно принадлежать именно Николаю Карлычу! Она с любовью посмотрела на статную, плечистую фигуру мужа и кстати припомнила, что еще в прошлом году он убил собственноручно медведя. У такого человека разве могли быть соперники?
– Свиньи все… – еще раз проговорил Майзель, облекаясь в расшитый шелками шлафрок. – Я им покажу всем, где раки зимуют, только бы…
Еще один кюссхен, и плотная чета предалась крепкому, счастливому сну.








