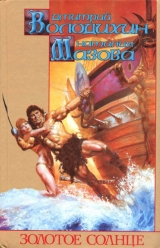
Текст книги "Золотое солнце"
Автор книги: Дмитрий Володихин
Соавторы: Наталия Мазова
Жанр:
Героическая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц)
Серебряная хроника Глава 8. Тень высоты
– Все, – выдохнул Малабарка, опуская, нет, почти роняя весла. Он ничего больше не прибавил к этому «все», но остальное было отчетливо написано на его лице: изнемогаю, надо отдохнуть, а сколько этот отдых продлится – даже богам неведомо...
Свою помощь предлагать я даже не стала: это было бы смешно. Я и с легкой прогулочной лодочкой Зарека еле управлялась, а уж с такой, где по-хорошему надо грести двум сильным парням, по одному на весло...
А Малабарка ведь еще и ночь не спал, неожиданно вспомнила я. Я же ему спать и не дала со своим мытьем головы, а дальше пошло-поехало.
– Как ты? – осторожно спросила я, глядя, как он опускается на дно лодки.
– Терпимо. Через стражу приду в себя. – Он попытался улыбнуться, и почему-то это лучше всяких слов сказало мне, что стражи может оказаться недостаточно.
– Хоть голову на колени мне положи. – Это было единственное, чем я могла облегчить его положение в таких обстоятельствах. Малабарка с благодарностью кивнул и начал устраиваться поудобнее.
– У нас нет времени... – еле слышно пробормотал он уже в полусне. – В гавани, Аххаш, стоит оч-чень неприятная галера... Не галера, а сплошная неприятность.
...Самое большее через четверть стражи я поняла, что все мое тело неимоверно затекло. А солнце, как назло, жгло все сильнее и сильнее... а зеркальное облачение я порвала в клочья. Остатков как раз хватило, чтобы сделать тюрбан на голову и краем прикрыть лицо: я хорошо знала, какие ожоги бывают на такой светлой коже, как моя. По воде, казалось, растеклось второе солнце, слепя и сверху, и снизу, прах все подери окончательно и бесповоротно!
Безумно хотелось спрыгнуть за борт и немножко поплавать, если уж совсем не движемся: и размялась бы, и остыла. Да только нельзя было. Даже пошевелиться было нельзя: это могло разбудить Малабарку. Он ведь как устроился, так почти сразу и выпал из мира. Один раз я уже не позволила ему выспаться, хватит.
И все-таки до чего же жарко было в этом черном! И не то что нужного нам ветра с полудня или полудня-захода – вообще ни ветерка не было с самого утра. Сейчас, конечно, тихое время, но чтобы до такой степени... По воде пробегала даже не рябь, а какая-то нервная дрожь. Никогда бы не могла подумать, что море может быть настолько спокойным. Одно утешало: в такой штиль нас по крайней мере не унесет в непонятном направлении, где встали, там и будем стоять.
Небо и вода, вода и небо. Синее, сомкнутое с голубым. И только наша лодка посередине... да, мне и раньше приходилось плыть на корабле вне видимости берега, но по сравнению с многолюдной галерой лодка была почти ничем. Жалкая деревянная скорлупка, спящий человек у моих ног – и я, одна под палящим полуденным солнцем. Я судорожно сжимала обломок ракушки на своей груди, но даже мой знак зари не мог защитить меня от одиночества и страха.
А если (маловероятно, но все-таки) отсутствие лодки было обнаружено и сейчас на нашем хвосте висит погоня? А мы тут болтаемся рыбьей требухой на воде, как сказал бы Малабарка!
Эта мысль добила меня. Слезы бессилия так и хлынули из моих глаз – слезы, которым я не позволяла пролиться ни в Древнейшем Храме, ни на горе, под которой казнили Салура, ни после нашего во всех отношениях запредельного прорыва из гавани. А сейчас они лились и лились, жгучие, как настойка полыни, и хотелось упасть лицом вниз, в кровь разбить кулаки о борт, взвыть раненой волчицей... Но я не смела – Малабарка спал! – и лишь тихонечко скулила себе под нос, чем распаляла себя еще больше. Только сейчас я осознала, на что похоже настоящее, абсолютное бессилие.
– Слышишь, ты, как там тебя? – наконец прошептала я, и шепот мой был отчаяннее крика. – На что мне эта моя хваленая причастность, если даже ветер, брат мой названый, перестал меня слышать?!
Ответа, разумеется, не было. Я и не рассчитывала на ответ – просто не осталось сил держать все это в себе. Рухнула плотина, упали засовы, ворота слетели с петель... Я плакалась куда-то в пространство, Не подбирая слов:
– Что тебе надо, скажи! Скажи, я же умная, я пойму! Я все сделаю, как ты захочешь! Почему огонь зажигается и боль уходит из тела, а отвод глаз, вернейшее из верного, не работает? Почему? Почему ветер не слышит моего зова, ты, дарующий силу превыше детей Луны? На что мне эта сила, если я не властна подобрать к ней ключей?
Тишина. Хоть бы чайка над водой крикнула...
– Ну пожалуйста, прошу тебя! В бездну мою гордость, все равно была принцесса, да вся вышла. На колени встать не могу, уж прости – разбужу человека...
Тишина – но что-то неуловимо дрогнуло, я так и не поняла что. Может быть, всего-навсего Малабарка во сне?
– Или ветер завидует, что огню я пою, а с ним так, запросто? Так не умею я петь, фальшивлю, и сама слышу, как фальшивлю, и ничего с этим поделать не могу с самого детства! Если так хочешь, спою как умею, но уж не обессудь. Я же не голосом пою, а тем, что внутри меня... сердцем, наверное... – Не удержавшись, я громко всхлипнула. Голос срывался, огромного труда стоило собраться, чтобы слова не утонули в рыдании:
– Ветер – никого на свете он не заприметит на пути своем... Где те взрослые и дети – ветер не ответит, ветер ни при чем...[2]2
За основу взяты стихи Людмилы Смеркович. – Примеч. авт.
[Закрыть]
Положение мое осложнялось еще и тем, что песни для ветра я не знала. Единственное, что пришло в голову, – мой собственный перевод имланской баллады, корявый уже в силу того, что имланский язык короче моего родного. Зато он неплохо ложился на один старинный рыбачий напев, где я, наоборот, знала мелодию, но не слова...
Что же ветер не поможет?
Совесть не загложет,
не придет во сне...
Кто же ветер потревожит.
Вознесет, низложит
в светлой вышине?
Почудилось? Нет, тоненькая струйка воздуха, ласковее руки Малабарки, скользнула под моей рубашкой, мимолетно охлаждая разгоряченную спину. Слезы с новой силой хлынули из моих глаз, но неимоверным усилием я проглотила комок в горле.
Стоит умереть в покое,
Веря – не построить храма на воде?
Воет ветер в тон прибою,
Что это такое?
К счастью ли, к беде?
Неожиданно на последних словах мой голос окреп и обрел такую глубину, будто и вправду шел из самого сердца. Откуда-то из неведомой дали нахлынула вера, что получится! Озарение промелькнуло молнией, и, повторяя припев, я чуть-чуть изменила слова:
Воет ветер в тон прибою,
Знаю, что такое —
к счастью, не к беде!
Свежий порыв плеснул с полудня и захода, рванул промокшую от слез ткань, которой я прикрывала лицо, и она забилась у меня над плечом, как маленькое знамя. Новый порыв, еще сильнее, чуть не сорвал с головы тюрбан, затрепал мои широкие рукава...
Теперь голос мой лился широко и свободно. Я по-прежнему отчаянно врала мотив, но это уже ничего не значило – ветер бил мне в лицо, однако мой голос без труда летел навстречу ему:
Ближе! Может, ты обижен,
Что я неподвижен, словно неживой?
Вижу: чайка ниже, ниже,
Падает... Смотри же!
Ветер надо мной!
Последние слова я, наверное, выкрикнула так громко и радостно, что Малабарка вскинулся как ужаленный:
– Что? Что такое?
– Ветер, Малабарка! – воскликнула я, смеясь от счастья. – Ветер, сам пришел, я его напела! Ставь парус – теперь это надолго! – Я и в самом деле ощущала, что надолго. Легкая, звенящая уверенность – может быть, это и есть причастность?
«Да», – неожиданно пришел безмолвный ответ.
Малабарка уже возился с парусом. А я раскинула руки, словно пытаясь обнять этот уверенный поток с полудня и захода, который осушил мои слезы и почти мгновенно смыл с тела всю усталость. Затем перескочила на нос лодки и, поскольку слова в песне кончились, просто завела голосом тот же напев, наслаждаясь свободным полетом звука.
Ветер ударил в парус, и лодка рванулась, как пришпоренная чистокровная кобылица. Малабарка опустился рядом со мной, чуть приобнимая одной рукой, и его счастливый смех вторил моему голосу. Та же ослепительная радость, что и во мне, била из него ключом. И пусть у него она была от того, что он снова в море, а у меня – от сознания своей силы, я отчего-то понимала, что его и моя радость в равной степени угодна тому, кто услышал песню из моего сердца.
Я вплетала в свой напев обрывки других, невесть где и когда слышанных, зная, что вряд ли когда-нибудь смогу это повторить, и не жалея об этом ни мгновение. А лодка летела по волнам выпущенной из лука стрелой, унося нас прочь от моей родины к какой-то новой, но, несомненно, прекрасной жизни...
Черная хроника Глава 9. Междуштормье
Море гневалось на нас два дня и две ночи. Я не знал, когда восходит солнце, а когда появляются звезды. Небо опустилось, лохматые мочала туч цеплялись за верхушки волн. Мгла клубилась над морем, а под ней вздымались неровные зубы валов. Может, солнечный диск и плавал на своем благодатном корабле по высшему небу, но лик его был от нас закрыт. Может, звезды и пели свой холод, как всегда, по ту сторону мира живых, но нам не было видно темного порога... Просто я чувствовал, Аххаш, чувствовал, как будто у меня в брюхе спрятаны водяные часы, ведь их точность не зависит ни от медленного плавания солнца, ни от звездостояния, ни от лукавых игр луны; так вот, я какой-то неведомой проделкой знал и понимал: прошло примерно два дня и две ночи. И если дальше так пойдет, нам верный конец.
День и ночь мы ровно шли по ветру, чья сила покорилась моей девочке. Как я радовался ее силе и ее удаче! Чума непереносимая! Как я радовался. Когда-то я ходил вместе со всей стаей на старый и богатый город Лиг; я не был тогда ни абордажным мастером, ни даже мастером баллист и катапульт, я был храбрым щенком, крысенышем из рода Милькара. Тогда мы избегли страшной опасности, обманули горожан и взяли хорошую добычу... Я радовался: как хороши Черные Крысы в деле, как спокойно и умело они работают. Так же и сейчас мне понравилось ее искусство, ее работа. Ланин воспрянула духом, и даже движения девочки изменились. То есть в лодке ходить некуда, ноги стоят в резерве. Но руки, руки! И раньше я замечал: когда она говорит, пальцы вычерчивают в воздухе круги, линии, непонятные знаки... Как человек, который уверен, что до его собеседника скорее всего не дойдет смысл сказанного, и надо говорить громко, четко, подробно передавать все оттенки мысли, да еще помогать себе руками, – тогда, может быть, до упрямо ленивых мозгов доберутся хотя бы отдельные слова. С кем она тут имела дело... Нам не удалось как следует поспать. Наша пища – редкое дерьмо и прибавляет мало сил. Ракушки, Аххаш? Ракушки? Кажется, легче всего совершить медленное самоубийство, питаясь ими с нашим упорством. Силы наши таяли. Несмотря на все это, Ланин охватил такой восторг, что движения ее рук чуть– чуть не превратились во взмахи крыльев. Размеры ее невидимого алфавита возросли вчетверо. В Пангдаме в день избрания нового верховного архонта его имя высекают на особой стене буквами локтя по полтора высотой. Моя девочка рассказывала мне истории о своих охотах, о паршивом псе Кайсаре и об учебе у того достойного старика, Салура, а ладони ее высекали на воздушной стене имена такого архонтища... О!
Все было хорошо, парус тащил нас, куда нам и требовалось. Потом в скулу нашему доброму ветру, от которого и мне хотелось пуститься в пляс, задуло недобрым холодком. Я огляделся.
– Ланин, ты не чувствуешь?
– Не чувствую чего, Малабарка? Счастья? О да. Чувствую. – За день и за ночь мы сказали друг другу много приятных слов.
– Опасность, Ланин. Посмотри: оттуда идет опасность. – Аххаш, меня пробирает ознобом.
Она повертела головой, уставилась на темноватое облачко в той стороне, куда я показал. Пожала плечами, мол, ну облачко, прах его побери, ну темненькое, беды не вижу.
– Я по-другому устроена, Малабарка. И я сейчас гостья в твоем доме, в море. По правде говоря, я полагала, что твоя очередь быть проводником... Я люблю тебя.
Все произошло стремительно. Я слышал от стариков, сколь быстр гнев Хозяина Бездн и сколь редок. С двенадцати лет я хожу на длинных кораблях, но никогда, никогда – Аххаш! не видел ничего подобного. Я все еще произносил свой ответ Ланин. Тот самый ответ, которого она ждала и желала, тот ответ, который – правда... Последние слова я проглотил вместе с парой глотков соленой воды. Упрямо договорил. Договорил, Нергаш! Хоть бы ты бесился в три раза страшнее, я хочу сказать Ланин все, что следует сказать, и ты мне не помешаешь. Да что тебе за дело до нас!
– Ланин, девочка моя! И я люблю тебя.
В считанные мгновения нас накрыло шквалом. Небо потемнело, море сделалось как лицо сына, только что бросившего на волну труп отца.
– Держись!
Первый вал поднял нас высоко. Будь он крепостной стеной, мы разбились бы в щепы, ахнув вниз. Второй навис над нами не хуже могильной плиты над покойниками – так хоронят в Ожерелье. Нас мотало, как прибой мотает жалкий плавник, ударяя им о гальку. О, проклятые боги тьмы! Я не боюсь! Я не боюсь!
Маленькая ручка Ланин вцепилась мне в плечо, встряхнула меня. А? Оказывается, я смеялся, глядя на водяные валы, я поносил их, забыв обо всем. Рыбья моча! Смерть наша спереди и сзади, слева и справа, она повсюду.
Я привязал руку Ланин к уключине. Таким узлом, чтобы держал крепко и только затягивался, когда волны будут вышибать человеческую плоть с нашей посудины... Но, если девочка все-таки вылетит, ей хватит одного движения, чтобы отвязаться. Иначе нельзя. Ей не удержаться пальцами, ногтями, зубами, да чем угодно.
В первые же сутки шторма мы потеряли весла. Проклятие!
В самом начале я успел убрать парус, но это нам ничуть не пригодилось: мачту сломало ветром ровнехонько посередине. Дважды нас переворачивало. Лодку нещадно заливало водой. Однажды нас завертело так, что я просто не понял, как и почему мы остались живы... Оружие, даже оружие смыло за борт!
Кроме ножа, с которым я выбрался на берег. Что ж, ухожу, с чем пришел.
Давясь, мы поглощали ракушки. Запихивали в рот комья пресной жвачки, не давая ветру отобрать и это. Аххаш Маггот! В такой шторм триремы переламываются на волне быстрее хвороста. Почему мы до сих пор живы?
Раз или два она принималась петь, хваталась за ракушку у себя на шее. Упорная девочка. Хорошая. Славная. Упрямая. Жизнь того стоит, чтобы поупрямиться. Как только Ланин открывала рот, ее тут же заливало водой с ног до головы. Она принималась вновь, и вновь Нергаш бил ее наотмашь пенной пощечиной... В конце концов девочка замолчала. Темный Владыка заткнул ей рот, ошеломил ее. Еще так недавно Ланин показала всю силу свою, всю свою мощь, а тут сидит, едва удерживаясь в лодке, кусает губы, и Хозяин Бездн лупит ее непрестанно... Мы вымокли до нитки в первую же четверть стражи шторма, если не раньше. Море вымазало нас обоих соленой водой с головы до пят, не раздевая... Но на ее лице мне нетрудно было отличить брызги от слез бессилия.
Множество раз я хотел обратиться к Нему, к незнакомому бойцу: давай, спаси! Но останавливался. Проклятое чумное дерьмо! Пусть меня разорвет, убьет, раскрошит, потопит! Пусть эти поганые боги сделают из меня топтаную медузу! Да что угодно! Не привык Малабарка Габбал, сын Кипящей Сковороды и внук Тарана, то и дело клянчить помощи. Не хочу! Желаю сам спастись и выручить свою женщину. Не буду просить! Неужто я не стою ни гроша?
На вторые сутки я не стоил ни гроша. Нергаш размял меня, как гончар глину. У нас вышла вся пища и вода. Я держал мою Ланин за локоть, а пальцы ее другой руки впились мне в плечо. Она оставалась в сознании по двум причинам. Во-первых, крепкая девочка, хорошо. Во-вторых, она цеплялась за мою руку, Аххаш и Астар, как раз затем, чтобы не уйти.
Но все-таки мы оставались в живых. И я опять и опять хотел воззвать к Нему, но не делал этого. Сам. Я сам. Мы с ней сами. Я сам. Я не хочу делать такие долги... По Ланин я видел: она то и дело проваливается прямо с открытыми глазами. Да будь оно все проклято!
Я утешал себя тем, что Он, быть может, не властен над морем. Иначе не разгулялся бы так Нергаш... Но вот же чума, вот же какая чума болотная выходила: нам давно полагалось сгинуть. Очень давно, Аххаш, очень, очень давно мы должны были отправиться на дно, Темному Владыке в услужение. Либо нам везет, как старинным героям в дедовских байках, либо... Он и сам хранит нас, не дожидаясь зова. Или все-таки везет? Что вернее?
Не хочу. Нет.
...Солнце так и не появилось. Утро серое, мутное, над водой стоит жиденький туман, Нергаш отдыхает, волна – спокойнее озерной. Волна до того тихая, что только камбала на отмели, на своей хитрой лежке, бывает тише. Ну, Нергаш, пес, топляк гнилой, справился с нами? Ну?
Посудина наша полузатоплена, сил нет вычерпывать воду. Небо – рукой подать, и оттуда ровно льет пресной водой... Дождь.
Тут я очнулся. Дождь! Я стянул с себя рубаху, стащил одежду с неподвижной Ланин, оставив на ней только шаровары. Разложил наши лохмотья и время от времени отжимал: фляга осталась при мне. Ее я привязал к поясу намертво. Эта мутная жижа сейчас нам нужнее всего...
Ланин улыбается. Видно, припоминает, как это было, когда я впервые увидел ее обнаженное тело. Улыбка – на полпути от забытья.
– Два дня назад я сказал это слишком невнятно. Так вот... я люблю тебя.
Она едва заметно кивнула. Ее сил хватило только на то, чтобы ответить мне глазами.
Лил холодный дождь.
Ничего не осталось от гордой принцессы Исфарры. Ничего не осталось от госпожи ветра, от бесстрашного бойца, шагнувшего вместе со мной на настил, от гневной смертницы, дерзнувшей допросить зеркальную. Ее тело лежало, как лежат шкуры, если бросить их на лавку: середина пластом покрывает дерево, остальное же тянет книзу. Рука смертельно усталой девочки свесилась за борт, неестественно вывернулась в локтевом суставе, длинные пальцы склонились к воде ветвями ивы. На шее вспухли волдыри: нежней шая белая кожа сгорела еще в первый день от солнечного зноя; ниже все то, к чему мои ладони когда-то прикасались с жаждой и благоговением, было покрыто синяками и ссадинами. Лицо! Аххаш, хуже всего лицо. Два черных диска слева и справа от переносицы, рот – неровная щель, скула рассажена в кровь. Губы едва-едва шевелятся, силясь вытолкнуть слова, и не могут.
Ланин почти мертва.
Только глаза... глаза еще не сдались. Какие у нее глаза! Две горсти раскаленного пепла затаились в глазницах, как две бесстрашные рыси.
Глазами она говорит мне совершенно отчетливо, мол, ничего, я, как видишь, Малабарка, совсем лишилась сил, но ты, маннаэл макаль, верь: если понадобится вместе с тобой драться хоть с людьми, хоть с богами, хоть с этой жестокой стихией, я буду драться... Потому что, видишь ли, теперь мы одно.
– Мы будем жить, девочка. Мы будем жить. Нам совсем немного осталось до берега... – Где он, проклятый берег, откуда мне знать! Ни солнца, ни звезд, ни птиц, ни медуз, ни рожна... – Не для того мы, девочка моя, унесли ноги с твоего поганого острова извини вполне приличный остров извини не зря же мы спаслись мы теперь обязаны выжить и мы выживем я это знаю я это чувствую...
Подтянул из-за борта руку Ланин, погладил ее пальцы своими. Рассказал ей одну историю, как мы всей стаей плавали далеко на полдень, как нас кружило и выворачивало ураганом, но вот, гляди-ка, остались целы... Еще одну историю рассказал и еще. По глазам ее вижу: верит. Она так слаба, что ей сейчас, видно, легче поверить: может быть, я знаю и понимаю кое-что ей неведомое... Аххаш! Пальцы полумертвой принцессы едва заметно сжали мои.
Одно это движение – больше всего того, что мы получили друг от друга на острове. Намного больше. Если бы меня научили плакать, я бы, наверное, заплакал в то мгновение.
Всей тиши, всего междуштормья хватило на одну стражу или около того. Нергаш собрался с силами и опять взялся за нас. Лодку замотало, как распоследнее дерьмо. Ну что же, на волне умирать достойнее, чем в змеиной пасти или в бабьем застенке...
Сколько раз пытался потом вспомнить, да вот беда, не выходит... Сознание я все ж потерял. Ушел отсюда, рыбье дерьмо, ушел, как безмозглый головастик. Но успел ли я в последний миг попросить: «Помоги! Вытащи!» Успел? Успел? Или все-таки не сделал этого?
Нет, не помню.
ЧАСТЬ 2 ЛАНИН И МАЛАБАРКА
Алая хроника Глава 1. На магической привязи
Окончательно пришла я в сознание только в трюме. Память возвращалась медленно, как чувствительность в онемевшую ногу, и столь же болезненно. Шторм, да... Не знаю, сколько он длился, в любом случае для меня, лишь ненадолго всплывавшей на поверхность из бессознательных глубин, этот срок равнялся вечности.
И в последний раз пришла в себя я совсем не оттого, что кто-то выплеснул мне в лицо бадью воды. На мне и так уже давным-давно сухой нитки не было, да и морскую соль я хлебала все время, пока нас убивал шторм, причем куда большими порциями... Нет, не от этого, а от пугающего до внутренней пустоты осознания, что рядом со мной нет Малабарки. Словно вырванный зуб, но во сто крат сильнее и внутри... Я не умела этого описать, со мной никогда прежде такого не было. Только потом уже пришло понимание, что мы с ним как соединили свои силы в гроте Кеннаам, еще до отречения, так и не удосужились произвести формального размыкания, так что в конце концов это переродилось в какую-то внутреннюю связь совершенно особого рода, всю насквозь пропитанную той самой трудноосмысляемой причастностью... Наверное, теперь мы уже не смогли бы расцепиться, даже если очень захотели бы этого, но мы бы и не захотели... Не важно. Все не важно.
Вместо Малабарки надо мной склонился человек с характерным длинным лицом и красноватым оттенком кожи. Его спутанные лохмы были прихвачены через лоб засаленным трехцветным шнуром – черно-бело-красным. Имла– нец. Я даже не успела понять, хорошо это или плохо, как рядом появилось еще одно лицо, такое же длинное и почти полностью скрытое черным капюшоном. Но даже в тени я отчетливо разглядела выражение его глаз. Это был взгляд даже не хищника – змеи, тяжелый, с оттенком презрительной скуки. Так могла бы смотреть на меня проклятая гадина Ахну-Серенн, надели ее глазами мать-Луна. Этот, в капюшоне, что– то отрывисто скомандовал другому – я не поняла, хотя и считала всегда имланский почти вторым родным...
В этот миг в моих глазах приснилось – буквально на миг, но я успела разглядеть мертвую птицу, свисающую с верхней перекладины одной из мачт, словно куропатка в лавке торговца дичью. Зачумленный корабль!
Леденящий ужас сковал меня всю, до последнего волоска. Я хотела крикнуть – но язык мой присох к гортани, и пальцы отказались повиноваться, когда я потянулась к знаку зари на своей груди. Затем ужас сменился какой-то неистовой мысленной судорогой. Ты, неведомый, кому причастна я, кто так странно, но доказывает мне свою любовь, – ОБОРОНИ!!!
«Оборони...» – почти против воли шевельнулись мои запекшиеся губы, язык тяжело провернулся во рту куском разбухшей доски. Но перед тем, как сознание снова ускользнуло от меня, я успела заметить, как тухлое змеиное выражение в глазах носителя капюшона сменилось невыразимым изумлением (по крайней мере, мне так привиделось, и я хотела в это верить) с немалым испугом...
Потом был трюм, точнее, какой-то небольшой его отсек, напоенный редкостным зловонием. Зловоние было первым, что восприняли мои органы чувств, когда я снова оказалась в дневном мире. Потом включилось зрение и сразу же сообщило мне нечто небезынтересное.
Дело в том, что в трюм снаружи не проникало ни единого лучика света, и единственным, что разглядели мои глаза, было призрачное свечение толстого каната, протянутого вдоль одной из стен. От него отходили, так же тускло светясь, три веревки потоньше, каждая с петлей на конце, и одна из этих петель охватывала мою талию – не причиняя особого неудобства, всего лишь подобием тесного пояса. Однако в попытке ощупать веревку мои пальцы встретили пустоту – и снова ужас оледенил меня от волос до кончиков пальцев. На практике я никогда не сталкивалась с магическими путами такого рода, но если это было то, о чем говорилось в старинном трактате «Цепи и кольца Рат», то... Дикари считают «раз-два-три-много», цивилизованный же человек знает тысячи и миллионы, но и для него существует предел, за которым числа утрачивают смысл и есть лишь слово «много». Так вот, по самым приблизительным моим прикидкам, количество силы, необходимое для поддержания пут такой длины хотя бы сутки, можно было обозначить только таким вот цивилизованным «много». «В три руки не взять», – как сказала бы Тмисс.
А отсюда следовал вполне логичный вывод: даже вели– кий-могучий-на-редкость-живучий маг не стал бы сажать на такую привязь простую пленницу – обыкновенная цепь была бы и дешевле, и практичнее. Значит, светящуюся петельку имело смысл рассматривать как знак особого внимания. Столь особого, что сопряженные с ним неприятности, судя по всему, тоже обозначались любимым выражением Тмисс.
Вот только за что мне такая честь? Сейчас я выглядела как беглая рабыня – волосы криво обрезаны, чужая одежда не вполне моего размера истрепалась от беготни по лесам и, до хруста задубела от морской соли, ноги босы... А уж во что превратились мои лицо и тело после всего, и в особенности после шторма, даже представить было страшно. В общем, даже тот, кто прежде знал меня в лицо, вряд ли сумел бы признать во мне бывшую великолепную принцессу Ис– фарра.
Значит, причина – магия, которую почуяли во мне? Но опять же, мой опыт подсказывал, что обыкновенную магию, которой я обучалась по книгам, совершенно нереально распознать в человеке, несколько суток пребывающем без сил и сознания, почти на грани жизни и смерти, который не способен даже пылинку взглядом остановить... Так что, похоже, дело снова было в моей хваленой причастности непонятно кому и чему. Я уже некоторое время назад заподозрила, что существует определенная категория людей, которая эту причастность ощущает столь же отчетливо, как простой смертный – вонь тухлой рыбы. И очень вероятно, что все, кто получает свою силу от Незримого владыки, в эту категорию входят – хотя бы потому, что врага надо знать в лицо.
Пр-рах подери, кто бы еще подсказал, на каком основании они считают меня своим врагом, а главное – почему ТАК боятся? Моя сила ведь такая неверная, поставь сейчас против меня хорошо обученного чародея – чем я ему отвечу? Песней?
А самое главное – к чему все эти сложности на корабле, которому еще неизвестно, суждено ли вообще пристать к берегу? Имланцы, мы, народ Малабарки, люди Ожерелья, имперцы – этот знак понятен каждому: издревле убитая чайка на мачте означала, что на борту корабля зараза, чума или еще что-нибудь похуже...
Чайка?!
Только теперь я поняла, что же ввергло меня в такой ужас, когда меня окатывали водой на палубе.
Прибитая к мачте птица вовсе не была чайкой. Я мало что успела разглядеть, но ржаво-коричневые перья и крючковатый клюв могли принадлежать только хищнику, причем из тех, что водятся довольно далеко от морского побережья.
Рука моя снова зашарила по груди, ища знак зари, и на этот раз пальцы без помех сомкнулись на гладком, словно полированном теле сердцевины ракушки. Как ни странно, это почти успокоило меня, во всяком случае, полностью вернулась способность анализировать происходящее.
Почему-то мне оставили эту вещь. Посчитали простой безделушкой? Но тот, кто способен унюхать во мне эту самую причастность, должен был понять, что данная штучка несколько больше, чем просто украшение. Или... или здесь никто никому ничего не должен? Я почти ничего не знала о своих странных возможностях, но не была уверена, что на свете есть хоть кто-то, кто знает больше.
Да, кстати... для человека, которого целую вечность выкручивало штормом, как старую тряпку, я что-то чувствовала себя слишком хорошо. Нигде ничего не болело, так что не сразу пришло в голову, что вообще-то болеть должно во многих местах.
Но – вот чудеса! – даже слабости особой я не ощущала, не говоря уже о головокружении или там тошноте. В чем причина: в той же магии, что надела на меня путы, или снова в моей причастности?
Тьма вопросов, и ни одного ответа. И самый главный вопрос, главнее даже мыслей о собственных неприятностях: где Малабарка и что с ним? Все, о чем с уверенностью позволяла судить наша нерасторгнутая связь, – он был жив. Очень может быть, что, если бы он был мертв, я бы тоже сейчас не жила. Но больше я не знала о нем ничего, и от этого хотелось плакать – не рыдать, а тихонечко скулить, как в детстве после незаслуженной обиды...
Магию пустить в ход я даже не пыталась: то, чему я училась, просто не имело никакой силы в этом месте, от опытов же с причастностью меня что-то удерживало. Скорее всего ясное понимание, что вероятность поплатиться за них головой весьма и весьма высока.
Постепенно мое зрение освоилось с особенностями здешнего освещения – я начала различать очертания стен, покрытого вонючей слизью пола и тел, продетых в две другие магические петли. Оба моих товарища по заключению оказались женщинами. Та, что ближе ко мне, была имлан– кой моих лет в лохмотьях дорогого наряда. Другая – пожилая и вроде бы моя соотечественница (ладно, пусть бывшая соотечественница, сейчас это вряд ли было важно), правда, судя по одежде, не с Лунного острова, а с континента. Этими сведениями пришлось ограничиться – обе они спали, и я не посчитала нужным их будить. Рано или поздно проснутся, тогда и расспрошу.
Спали они на какой-то невероятно грязной ветоши, и, пошарив, я обнаружила и под собой ком такого же дерьма. Огрызок сухаря в головах у старухи дал понять, что кормить меня будут, хотя скорее всего обед окажется под стать помещению. Еще через некоторое время я выяснила, что моя привязь отличается от обычной веревки на поясе лишь тем, что ее невозможно было бы развязать или порвать. Но руки и ноги мои были ничем не связаны, и я даже имела некоторую свободу передвижения – достаточную, чтобы добраться до зловонной посудины в углу, служащей отхожим местом, но слишком малую, чтобы подняться по лесенке, ведущей к люку в потолке.
В конце концов я почувствовала, что неизвестность и бесплодные размышления утомили меня до того, что не осталось сил даже на страх. Тогда я устроилась на своей подстилке так, чтобы голова оказалась на наиболее чистом и сухом месте, и провалилась в сон даже быстрее, чем рассчитывала...
Проснулась я рывком – в лицо мне ударила струя свежего морского воздуха, луч света из приоткрытого люка упал рядом с моими коленями, а затем точнехонько туда же опустилась корзина на веревке. Я еще не успела как следует продрать глаза, как имланка бросилась выгружать содержимое корзины – шесть больших сухарей, три рыбины, вроде бы вяленые, и глиняную бутыль.








