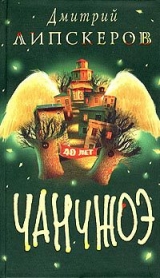
Текст книги "Сорок лет Чанчжоэ"
Автор книги: Дмитрий Липскеров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Дмитрий ЛИПСКЕРОВ
СОРОК ЛЕТ ЧАНЧЖОЭ
1
Капитан в отставке Ренатов сидел на маленькой деревянной табуреточке, стоящей на цветном, с азиатскими узорами, покрывале и, щурясь, слегка улыбаясь, смотрел на небо. Как всегда в это время, в начале осени, в сторону северо-востока катились густые облака, сквозь которые, помигивая, выглядывало солнце, щекоча ноздри задранных к небосводу голов… Капитан Ренатов, впрочем, никогда не чихал, глядя на солнце, но неизменно наслаждался щекоткой в носу, самой возможностью когда-нибудь чихнуть, раскатисто, напористо, распугивая маленьких птичек из густой травы…
Спина капитана Ренатова уперлась в ствол тонкой березы, которая слегка изогнулась, пружиня, поддерживая тело отставника наподобие спинки кресла, ноги были вытянуты и сложены одна на другую, каблуки нестарых армейских сапог уперлись в какой-то выступ или корешок под покрывалом, найдя опору, и от всего этого было очень удобно сидеть и радоваться неспешному осеннему дню, его исполнившимся пяти часам пополудни… Капитан Ренатов иногда дотрагивался всей ладонью до еще горячего самовара, слегка клокочущего и пахнущего догорающими шишечками, собранными Евдокией Андреевной в Приютском лесу и высушенными на лежанке печи. От прикосновения и легкого ожога по телу бежали мурашки, но солнце тут же их согревало, заставляя спрятаться обратно в душу, а тело требовало чего-нибудь теплого, и капитан Ренатов прихлебывал из большой кружки липовый чай с терпкими травками, смешанными женой с заваркой и успокаивающими нервную систему.
Все это сооружение – из азиатского покрывала, табуретки, старинного самовара, связок с пшеничными баранками, нескольких вазочек со сладкими вареньями, помятыми и свежими салфетками, двадцатикратным биноклем, висящим на березовой ветке над головой, – почти ежедневно строилось Ренатовым в теплые времена года на протяжении последних двух лет, с тех пор как он вышел в отставку в возрасте сорока шести лет. Место располагало. Пригорок, использующийся для бивуака, находился прямо под домом капитана, в двухстах метрах, а под пригорком был откос с песочными краями, под которым текла речка, в которую и обваливались песочные края, тихо всплескивая, как будто разыгралась рыба, а впрочем, может, это и в самом деле гуляли голавли, хватая мясными ртами стрекоз. С другой стороны реки начиналось бескрайнее поле, принадлежащее г-ну Климову, живущему в большом городе, географически близком к столице. Г-н Климов слыл крайне состоятельным человеком, был очень стар, его интересы кончились вместе с дипломатической карьерой, а вследствие этого поле никогда не засевалось злаками, а зарастало всем, чем придется, – от клевера до небольших деревьев, которые кто-то выдирал каждую весну, лишь только спадали снега. Траву косили все, кому не лень, никто никого с поля не гонял, не было никаких скандалов из-за дележа чужого, и оттого вокруг царило благодушие и казалось, даже воздух напоен добротой… Сейчас поле было тщательно выкошенным, слегка пожелтевшим и готовящимся к зиме…
Капитан Ренатов никогда не пользовался Уклимовскимы полем, потому что оно все же было чужое, хоть и находилось под самым носом, да и скотины в хозяйстве не было, молоко покупали на стороне, в небольших количествах – к чаю, так что сено было ни к чему… Где-то там, далеко, за полем, простирался дремучий Гуськовский лес, в котором отставник никогда не бывал, даже в бинокль тот рассматривался с трудом, какой-то темной, таинственной полосой.
Сам пригорок, на котором размещался отставник, был приятен тем, что сплошь зарос лопухами и всякими цветами вразнобой. Пригорок ничего не перекрывало ни слева, ни справа, а оттого солнечные лучи согревали его всю долготу дня… По три раза за вторую половину дня к забору ренатовского дома подходила полная Евдокия Андреевна и, приложив пухлую ладошку ко рту, звала вниз:
– Семен Ильич! Не желаешь ли чего?.. Не замерз ли? Может, плед принести?..
От голоса жены, скатывающегося бубенчиком вниз, от заботливости супруги в Семене Ильиче неизменно всплескивалось ощущение счастья, тихого и навсегда.
Ренатов снимал с ветки бинокль и долго смотрел в окуляры на свою спутницу с умилением. Он слегка покачивал головой, как бы говоря, что он в порядке, ничего ему не нужно, совсем не замерз, но внимание Евдокии Андреевны ему приятно и приятно смотреть через линзы на ее полные колени и юбку, прилипшую к ним… Евдокия Андреевна тоже некоторое время разглядывала мужа, точно зная, что он видит ее, двадцатикратно приблизив. Ей тоже было радостно оттого, что ее фигура до сих пор волнует Семена Ильича, и, всякий раз выходя к забору, она позволяла себе некоторые вольности в одежде – то юбку подоткнет выше, чем обычно, то рубашку наденет с глубоким вырезом, из которого выпирают ее хлебные груди.
– Ну что ж, не замерз, так и хорошо! – говорила напоследок Евдокия Андреевна и, улыбнувшись, уходила в дом, оставляя мужа с упрочившимся чувством умиления.
Ах, надо бы с Дусей рыбу половить завтра, думал Ренатов, оглядывая белые стены своего дома, еще совсем крепкого, вросшего в землю на столетия. И представил себе, как на заре они с женой спускаются к реке. В руках у него бредень с крупными грузилами, чтобы по дну волокся, а Евдокия Андреевна несет ведро, в которое будет складываться будущий улов из мелких щучек, плотвы и окуней…
Они дойдут до рукава речки, совсем узкого, так что его можно перепрыгнуть, Евдокия Андреевна поднимет юбки и войдет в воду, забегает, мутя ее, поднимая со дна ил, а когда вода возмутится окончательно и рыба в ней заблудится, то настанет черед и его, Ренатова, залезать в воду по пояс. Они расправят бредень и пойдут не торопясь к кривой иве, где и вытащат бредень на берег. А в нем будет трепыхаться рыбка, которая станет впоследствии основой душистой ухи, наперченной и густой.
До отставки капитан Ренатов был на службе в интендантстве дивизиона генерала Блуянова, заведовал складами с военной амуницией и просидел на этой должности семь лет. До него так долго никто не удерживался на этом месте, неизбежно проворовываясь и попадая под суд военного трибунала. Воровали все, что под руку попадало, от сапог до чехлов к ружьям. Брали даже пуговицы к зимним солдатским шинелям, в пуде которых не было и грамма драгоценных металлов, – переплавляли на грузила и продавали по копейке… Впрочем, судили за это нестрого, чаще пороли с серьезом и отправляли в ссылку, нежели в тюрьму, оправдывая воровство национальной русской чертой: мол, слаб русский до чужого, особенно когда этим чужим приходится заведовать. Но с приходом капитана Ренатова в дивизион Блуянова воровство в интендантстве пошло на убыль, а впоследствии и вовсе извелось, так как Ренатов был честен, хорошо вел учет и спуску вороватым не давал. К концу седьмого года службы лично сам Блуянов наградил капитана Ренатова медалью, расцеловал его троекратно и поблагодарил за упасение имущества русской армии, а через месяц также собственноручно подписал приказ о демобилизации Ренатова, поясняя тем, что время мирное, войны не предвидится, мужского населения прибывает, а потому сорокашестилетний капитан может отдыхать на пенсии хоть до смерти, если ему заблагорассудится…
Ренатов объяснял свою отставку очень просто: нужно было освободить кому-то место – тому, кто засунет руки по локоть в армейскую казну и будет кормить как генерала Блуянова, так и весь его штаб. Впрочем, Ренатов не судил строго Блуянова, оправдывая его той же национальной чертой; к своей службе относился равнодушно, хоть и исполнительно, а потому без недовольства ушел на пенсию, чтобы быть поближе к Евдокии Андреевне, своей законной жене, и жить простым гражданином отечества на краю старинного русского городка Чанчжоэ.
Солнце неизбежно клонилось к закату, окатывая пригорок багрянцем, а Ренатов, не меняя позы, оглядывал в бинокль окрестности и вяло размышлял о приближающейся старости.
Ведь нет в ней ничего такого уж страшного, думал отставной капитан. Если ты здоров, если под боком у тебя Евдокия Андреевна, пухлая и приятно пахнущая, если есть двухведерный самовар, в боках которого неизменно полощется закат, то и старость не пугает… Да и сорок восемь лет – не старость. Сорок восемь лет – это даже еще совсем средний возраст для мужчины, еще мышцы не совсем одрябли, нет холода в костях по вечерам, лишь желудок потягивает к ночи от избытка жирной пищи… Еще лет тридцать поживу, прикинул Ренатов.
Зазвонили колокола чанчжоэйского храма, и Семен Ильич достал из кармана жилетки часы с музыкой, найденные им позапрошлым летом возле корейской чайной, рядом с дымящей сигарами урной. Мысли о старости ушли от него так же легко, как и посетили, растворились в желудочном соке – Ренатов с наслаждением подумал об ужине.
Он смотрел в бинокль на далекий Гуськовский лес и живо представлял себе холодные ломтики вчерашнего гуся на закуску – с тонким слоем сладкого жира, загустевшего на хрустящей корочке яблочным вкусом; представлял звонкий грибочек, умело засоленный Дусей, – как он отмыто поскрипывает на зубах после граненой рюмки барбарисовой; затем крутые щи с бараньей косточкой, из которой так трудно, но так занимательно высасывать и выковыривать мозг; после жареное вымя с картошкой, томленной в шкварках в самом жарком месте печи, и напоследок ядреного кваса две кружки – до отрыжки и икоты, до свербения в носу…
Мысли Семена Ильича об ужине прервались чем-то неясным, увиденным в бинокль.
Ренатов никак не мог сообразить, что там происходит возле Гуськовского леса.
Вроде как дым по всему горизонту поднимается к небу. Уж не пожар ли в Гуськовском лесу? Осень сухая, может выгореть лес… Или все-таки это пыль, хотя откуда ей взяться… Это неясное почему-то взволновало Семена Ильича, забеспокоило, хотя какое ему было дело до пожара за десяток километров в чужом лесу или облака пыли, если это, конечно, не смерч, хотя о смерчах в этих краях никто не слыхивал. Но катаклизмы всякие случаются в этом мире, справедливо подумал капитан Ренатов и навел в окулярах резкость получше. Вскоре он понял, что это все-таки не пожар, так как темная туча перекинулась на Уклимовскоеы поле и с какой-то удивительной и завораживающей быстротой приближалась…
Километров этак пять в поперечнике, прикинул Ренатов… Что это все же такое, размышлял он, чувствуя, как желудок окатывает неприятным холодком.
– Евдокия Андреевна! – как-то неуверенно позвал отставник. – А Евдокия Андреевна!.. Слышь?..
Но жена не услышала мужниного призыва, и Семен Ильич все же решил выяснить до конца природу непонятного явления, а для этого ему оставалось лишь наблюдать в цейсовские стекла нарастающую тучу.
А туча тем не менее приближалась быстро. Как-то резко потемнело на небесах, воздух стал влажным и тягучим, что-то потрескивало в природе и, казалось, вот-вот надломится.
Да это же кто-то бежит, осенило Семена Ильича. Коровы, что ли, спасаются от пожара?.. Хотя дымом не пахнет, да и откуда такое количество коров в Гуськовском лесу… Тьфу ты, глупость какая!..
Было уже слишком темно, чтобы он мог легко разглядеть явление, но Семен Ильич, вдавив окуляры в глаза, с необъяснимым ужасом понимал, что происходит нечто сверхъестественное, недоступное его пониманию, о чем никто не слыхивал и не видывал сроду… Неожиданно в небесах вспыхнуло молнией, что-то в природе надломилось, и взору Семена Ильича предстало зрелище поистине необычайное, способное и в душу просвещенного внести смуту. По Уклимовскомуы полю, по всему его поперечнику, на сколько хватало взора, усиленного биноклем, в полнейшей тишине мчались куры…
– Господи! – воскликнул капитан Ренатов. – Да их… их… миллионы!..
Другие очевидцы нашествия после рассказывали, что самое жуткое, самое страшное в этом набеге было то, что куры мчались молча, не издавая ни единого звука. В их беге все до единого отмечали огромный порыв, великое стремление к быстрому бегу в ночи. В этом беге в ночи на Уклимовскомы поле были задавлены десятки тысяч кур, белых и пестрых, черных и рябых. Те, кто не мог бежать быстро, затаптывались напирающими сзади, такое было стремление. Птичьи тела в мгновение ока разрывались когтями наседавших, лилась на непаханую землю черная кровь…
В течение месяца после нашествия над полем стоял густой смрад, кружилось и летало перо и слышался ночами жуткий волчий вой.
Капитан Ренатов погиб через четверть часа после того, как уразумел, что происходит. Он рассчитывал, что куры не смогут перемахнуть через реку, но, к его удивлению, тысячи птиц, захлебываясь в бурлящей воде, послужили живой дамбой для напирающих сзади миллионов.
Господи, подумал перед смертью Семен Ильич. Ведь среди них нет петухов. Ни одного!.. Одни куры!..
Тело капитана Ренатова в одно мгновение было разодрано на тысячи частей, его крепкий дом обрушился под откос всеми своими белыми стенами, лишь Евдокия Андреевна счастливо спаслась, будучи во время нашествия в погребе.
Впоследствии она нашла в песке армейский сапог, сплошь окровавленный и разодранный, и долго плакала над ним.
Куры разрушили всю юго-западную часть городских окрестностей, но чудо! – погибли всего лишь два человека: незадачливый капитан Ренатов да пьянчуга Шустов, заснувший на Уклимовскомы поле.
Лишь только куры добрались до центра города, как они тут же успокоились, остановив свой великий бег, и принялись клевать с городских улиц что-то, одним им только ведомое.
Итак, восемнадцатого сентября в старинный русский город со странным, не имеющим перевода названием – Чанчжоэ – вошли куры. И были жертвы.
2
Генрих Шаллер, русский полковник, проснулся ранним утром от очень серьезной мысли. Мысль была настолько важной, что Шаллер не открывал глаз и боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть ее. Он так разволновался, что слегка вспотел и чувствовал, как пододеяльник липнет к спине, а из-под мышек стекают капли. То, что Генрих Шаллер вспотел, еще раз доказывало ему самому, что мысль неординарная, достойная глубокого обдумывания.
Третьего дня вечером, сидя на веранде, он прочел в книжке про Индию такую фразу: УКаждый член ищет свое влагалищеы. Поначалу эта фраза вогнала русского полковника в краску и смущение. Фраза выглядела очень порнографичной. Примерно такие он встречал в бульварной газетенке УБюст и ногиы, издаваемой поручиком Чикиным на собственные деньги в маленькой типографии на окраине Чанчжоэ… Но книжка про Индию была написана профессором Гамбургского университета, доктором истории, и заподозрить столь ученого мужа в насаждении порнографии было бы по крайней мере неосторожно. Тем более профессор далее писал – фраза взята из первоисточника и рождена была неизвестным задолго до Рождества Христова.
Взвесив все факты, Генрих Шаллер попытался отыскать в этой фразе поэтическое начало.
Не стоит размышлять привычными образами, думал полковник вечером, следя за передвижениями осенних листьев, прилипших к окнам веранды. Шел мелкий дождь, и думалось хорошо.
Ведь что такое привычный строй мыслей? Это система подхода к задаче с позиций, заложенных в младенчестве. Если я знаю, что такое Добро, то противоположным ему будет – Зло. Это и есть привычное построение мысли. Но если предположить, что существует другая точка отсчета в понятиях о Добре и Зле, полярная привычной, то получится, что Добро есть Зло, а Зло – Добро.
Шаллер еще некоторое время над этим подумал, отмечая, что осенние листья проделали путь от верха стекла до подоконника. Его охватило легкое раздражение, он решил, что его выкладка о Добре и Зле есть чушь, и при чем тут индийская фраза: УКаждый член ищет свое влагалищеы? Какая связь этой фразы с Добром и Злом? Никакой, вынужден был констатировать Генрих, и от неудачной попытки родить мысль неординарную ему стало муторно и подумалось, что он проживает никчемную жизнь. В тот вечер Генрих Шаллер лег спать расстроенным.
Генриха Шаллера можно было бы назвать натурой мыслящей. Он всегда пытался думать о том, о чем, казалось, никто не думает. Где-то в глубине души Генрих понимал, что это вовсе не так, но тешил себя тем, что строй его мыслей над известными понятиями неординарен. Он никогда не записывал своих интеллектуальных выкладок, лишь порой делился ими с женщинами, а потому не мог убедиться в том, что они действительно неординарны. Большинство женщин высоко ценили ум полковника, но сам Шаллер относился к возможностям женского ума скептически, и похвалы слабого пола были ему приятны, но не являлись подтверждением его выдающихся способностей. С мужчинами полковник не разговаривал на отвлеченные темы: вокруг все были военными либо богатыми.
Военные творческим умом не располагают, а богатые не разумеют философов – в этом Шаллер был уверен окончательно.
Полковник Шаллер надеялся, что когда-нибудь с ним произойдет что-то сверхъестественное. Если он сформулирует нечто сродни Истине, то это сврехъестественное даст ему знать о том, что он прикоснулся к еще не изведанному простым человеком. Может быть, воздух тогда сгустится и откроется космическая дверь, забирая в глубины Вселенной Генриха как существо, ушедшее в своей мысли далеко от человечества, а оттого переставшее быть ему нужным.
Может быть, упадет с неба луч и взъерошит волосы, поощряя уверенностью, что после смерти будет жизнь совсем другая, не сформулированная, но та, в которой ему отведено место достойное, эквивалентное открытию Истины…
Генрих Шаллер понимал, что все эти мечты похожи на детские грезы, что они, мягко говоря, неразумны для сорокапятилетнего полковника, но эти фантазии ему все же нравились, и он подспудно ждал чудесного, той космической дверки или животворящего луча, как ученик ждет похвалы учителя.
Вот и в это утро полковник ждал чуда, так как то, что он обдумывал и к чему подбирался в гипотезе, казалось ему грандиозным. Он еще крепче закрыл глаза.
Лишь только его просыпающееся сознание столкнулось с новым утром, как в мозгу снова всплыла фраза: УКаждый член ищет свое влагалищеы. И мозг незамедлительно начал работу.
Если предположить, что член не есть физиологический предмет в медицинском толковании этого слова, а является энергетической субстанцией космоса, размышлял Шаллер, то, вероятно, можно предположить, что существует и космическое влагалище со своим энергетическим зарядом. Что из этого следует? А то, что, вполне вероятно, космическое пространство оплодотворяется подобно человеку, вернее, человек подобно пространству… Вследствие чего происходят вселенские роды… Родятся галактики… Могло бы произойти чудо, и человек, женщина, в ночи родит галактику…
Мысль скакнула поэтическим образом.
Адам был создан Богом как орудие зачинания новых галактик отнюдь не человеком, как толкует церковь, а божеством. Но то ли Господь что-то передумал, то ли решил позабавиться своим всесилием и породил парадокс, создав из ребра первенца искусственное чрево в образе Евы, из которого никогда не родится космическое пространство, а лишь такие же бесчисленные орудия и неутоленные чрева… Бедный Мужчина! Он способен родить бесконечный мир, а вынужден плодить мучеников из-за чьих-то шуток.
Полковник почувствовал, как капля пота скользнула из-под мышки и потекла по животу.
Поэтому член всегда неудовлетворен, потому что он не может зачать галактику.
Он мечется в поисках утробы, а это все не то, не та утроба, родятся другие ему подобные, и мужские потомки вслед за родителем тоже мечутся, безуспешно растрачивая драгоценную энергию…
Женщина – это Ложное Влагалище, не способное родить Вселенной, заключил Генрих Шаллер. Поэтому каждый член ищет свое влагалище. Истинное Влагалище.
Тело полковника замерло, его сковало судорогой от такого неожиданного вывода.
Пуховое одеяло показалось ему тяжелым, словно крышка гроба. Он еще долго не шевелился, не открывал глаз, все более уверяясь в силе своего гипотетического заключения. Можно и умереть за такой вывод, подумал он. Лишь бы убедиться в его правильности.
Генрих Шаллер резко открыл глаза и посмотрел сквозь окно на небо. Небо было Лазорихиевым. По всему пространству от края до края неслись кровавые облака-сгустки, завихряясь в какие-то желтушные пятна. Было отчетливо видно, как в высоте сражаются встречные ветры, сбивая облака в кучи, затем разгоняя их мощным дуновением для новых столкновений. Полковник испугался. Его тело затрясло, словно в сенной лихорадке. Это был знак. Знак Вселенной. Само небо своей лазорихиевой красотой подтверждало правильность его вывода.
Шаллер отбросил душившее одеяло, выскочил из постели, рванул на себя створки окон, впуская ветер, и протяжно закричал:
– Лазорихиево небо-о-о!.. Возьми меня-я-я!..
Небо ответило раскатами грома, накатило в окно прохладой, и в комнате полковника запахло электричеством.
– Я же понял! – продолжал кричать Шаллер. – Я прикоснулся!.. Возьми-и меня-я!..
Пошел косой дождь, забрасывая лицо просителя ледяными брызгами, а он все стоял, дыша полной грудью, и смотрел ошалевшими глазами на израненное небо в ожидании чуда… Прошли минуты.
Полковнику стало холодно. Свежий ветер высушил от пота его тело, а дождик смыл липкость. Генриху захотелось завтракать, и он, закрыв окно, прошел в кухню.
Стал есть душистую белую булку с грушевым вареньем, запивая бутерброд холодным молоком. Он оглядывал двухпудовые гири, стоящие в углу, и думал, что сегодня не выжмет их и сорока раз. Обычно ему это удавалось запросто.
Ах ты, черт, думал он. Ведь было же Лазорихиево небо. Ведь не случайно же оно выскочило именно сегодня, когда так хорошо думалось. Ведь не просто же так страдал святой Лазорихий под кровавыми пытками, что в память о нем небо пылает кровью. Странно все это…
Генрих Шаллер намазал второй кусок хлеба вареньем и загрустил по мужчинам, путающим желание зачать великое с неудовлетворенным сексуальным чувством…
Надо бы опубликовать свои мысли с разъяснениями, подумал он, но тут же испугался, что его обвинят в насаждении порнографии или, на худой конец, посоветуют обратиться к психиатру. Хотя нет, один человек с удовольствием опубликует – поручик Чикин в УБюсте и ногахы – и заплатит по рублю за строчку.
От образа неприличной газеты Генрих Шаллер почувствовал легкое возбуждение.
Мысль перекинулась на Лизочку Мирову, пригласившую его сегодня вечером к себе в гости. Будет много замечательных людей, может быть, заглянет и губернатор Контата с членами городского совета… И Лизочкины подруги, такие свежие, с умытыми личиками, с детскими улыбками и хорошенькими фигурками… Так будет на них приятно смотреть… А Лизочка… А с Лизочкой, когда все разойдутся…
зачну галактику, подумал Генрих и громко рассмеялся. Какая все чушь, какие мысли глупые от скуки приходят. Он посмотрел на небо, вдруг заголубевшее в своем просторе, и почувствовал, как хорошее настроение входит в него полновесно, расправляя недоуменную душу.
Генрих Шаллер познакомился с Лизочкой Мировой в позапрошлом году в сентябре на опушке Гуськовского леса, ровно через три года после нашествия кур. Полковник никогда бы не стал заводить тайных, порочащих честь знакомств, если бы его жена Елена Белецкая не начала писать свой нескончаемый роман.
Лизочка была очаровательна в своем простеньком ситцевом платье с оборочками вокруг шеи. Впрочем, платье выгодно подчеркивало приятные особенности ее молодого тела, и Генрих Шаллер, держа на локте корзинку с двумя грибами на дне, с удовольствием разглядывал девушку.
– Вы не боитесь прогуливаться по Гуськовскому лесу одна? – спросил он. – Ведь о нем ходит дурная слава. Ужасная, тайная слава.
– Вот еще глупости, – ответила Лизочка, приветливо улыбнувшись. – Знаете, как много здесь грибов? – и показала свою корзинку, доверху наполненную подосиновыми. – А у вас негусто. Хотите, подброшу по доброте душевной?
– Да вы удачливая охотница! – с преувеличенным удивлением воскликнул Генрих Шаллер и запустил руку в Лизочкину корзину, перебирая крепенькие грибки. – Ишь ты какие! Как на подбор!.. Мясистые!.. Генрих Шаллер, полковник.
– Лизочка Мирова! – протянула ладошку девушка и тут же спохватилась: – Ой!..
Лиза… Елизавета Мстиславовна Мирова.
– Генрих Иванович Шаллер, – улыбался полковник, пожимая мягкую девичью ладошку.
– Почему вы улыбаетесь?
– Наверное, потому что сегодня замечательный осенний день. Светит солнце. Вы случаем не родственница действительного статского советника Борис Борисыча Мирова?
– Племянница.
– Как прелестно.
– Почему это?
– Что?
– Почему прелестно?
– Потому что у Борис Борисыча такая прелестная племянница, – ответил Генрих Иванович.
Лизочка пошла по дороге к городу, благосклонно позволяя полковнику следовать за ней.
– Позвольте, я возьму вашу корзинку, – предложил Шаллер.
– Возьмите.
При передаче корзинки Генрих Иванович случайно коснулся бедра девушки и увидел, как щеки Лизочки мгновенно зарумянились.
Да она совсем еще юная, подумал он и залюбовался этими щечками, этим слегка вздернутым носиком и нежными прядками на висках.
– А вы не тот ли полковник, который вовсе не полковник? – бойко спросила Лизочка, пытаясь совладать со смущением, и пояснила: – Не вы ли спасли сына губернатора от лютой смерти, из рук мучителей?
– Я тот полковник, – ответил Генрих Иванович. – И Алексея Ерофеича я действительно спас, за что и получил из рук его сиятельства полковничьи погоны.
– А правда ли, что Алексея Ерофеича хотели разрезать на кусочки?
– Правда.
– И вам не было страшно?
– Было.
Лизочка на минуту замолчала, над чем-то раздумывая.
– Но ведь вас тоже могли лишить жизни! – произнесла она с каким-то тайным ужасом. – Я бы, наверное, не смогла кого-то спасти.
– Это были просто пьяные разбойники, в которых ничего не осталось человеческого. Со зверем справиться легко, а вот с человеком мыслящим, хитрым, сильным физически – непросто. В том случае я имел дело с животными, и, как видите, Алексей Ерофеич жив и здравствует.
Генрих Иванович перешагнул через канавку и подал Лизочке руку. Она легко шагнула и пошла следом.
Какие у него сильные ноги, подумала девушка.
Полковник Шаллер был одет в старые галифе и тяжелые сапоги. При ходьбе могучие ляжки слегка терлись друг о дружку, а сапоги поскрипывали.
Вероятно, он поднимает тяжести, продолжала думать Лизочка. Он атлет, хоть ему, по всей видимости, за сорок. Все-таки есть во взрослых мужчинах что-то привлекательное. Какая-то сила от них исходит, физическая и умственная.
Лизочка была знакома со многими молодыми людьми Чанчжоэ. Она мельком перебрала их лица в уме, но вынуждена была констатировать, что ни один из них не излучал такой мужской силы и уверенности, как идущий впереди случайный знакомец.
– Ведь вы же никогда не были военным, – сказала она.
– И что же?
– Зачем вам полковничьи погоны?
– Знаете, приятно, когда оценивают твой поступок военным званием, – ответил Генрих Иванович. – Обратно, я не дворянин, а из разночинцев, и чин мне помогает в общении с разными сословиями. Мне нравится быть военным и не служить. Нравится ходить в мундире и отдавать честь таким прелестным девушкам, как вы.
Лизочка улыбнулась, показывая ровные зубки и кончик языка.
– Ну что ж, надевайте сегодня мундир и приходите в гости. Будет грибная икра из сегодняшнего урожая.
– И только лишь?
– А там видно будет, – сказала Лизочка и снова зарделась, так как фраза получилась двусмысленной.
Они вышли на окраину города, и Лизочка замахала рукой таксеру. Подъехал новенький тарахтящий Удраблеры, и девушка забралась в кабину с плюшевыми сиденьями, установив корзинку с грибами на коленях.
– Придете? – спросила она через окошко.
– Непременно, – пообещал Генрих Иванович и еще некоторое время смотрел на отъезжающий автомобиль.
Он стал часто бывать у Лизочки. Ему как-то ловко удалось оттеснить молодых поклонников своей неторопливостью, умными, непривычными для ушек девушки речами. И в один из вечеров, когда все гости разошлись и они остались одни, произошло то, чего так боится и так ждет каждая молодая особа, достигшая определенных лет.
На узкой девичьей постели Лизочка незаметно потеряла невинность и уже через несколько минут, закутанная в большое мохнатое полотенце, справившись с дрожью в теле, делово говорила о предстоящей женитьбе.
– Так я же женат, – вспомнил полковник.
Это известие Лизочка перенесла стоически. Она полчаса молчала, не шевелясь, а потом еще раз отдалась Генриху Ивановичу, причем владела инициативой и неожиданно проявила способности, удивившие Шаллера.
Полковник рассказал девушке о своей жене, Елене Белецкой, которая вот уже несколько месяцев не отрываясь пишет роман.
Больше Лизочка никогда не заговаривала о женитьбе.








