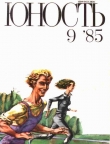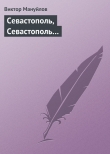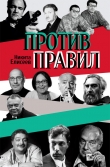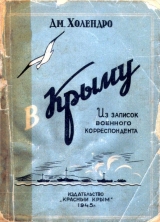
Текст книги "В Крыму (Из записок военного корреспондента)"
Автор книги: Дмитрий Холендро
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Анатолий Пушкаренко

Это был день большой радости. Кончились муки керчан – обитателей Аджи-Мушкайских катакомб.
Одна женщина, говорившая с нами, неожиданно шагнула вперед и сказала с изумлением, перехватившим дыхание:
– Толя, ты никак?
Потом поправилась с трогательной русской застенчивостью:
– Вы ли это, Анатолий Павлович?
– Я, – ответил ей майор, как и все десантники, одетый в ватник. Широким шагом он подошел к женщине. Его энергичное лицо и прямой взгляд выражали большую волю.
Гвардии майор Анатолий Пушкаренко был среди своих земляков. Здесь, в Колонке, он вырос и жил с матерью и сестрой. Здесь, на металлургическом заводе, он работал. Сюда он рвался. И вот он пришел.
Где они, мать и сестра?
Немцы угнали их.
На Кавказе, на Кубани думал майор Пушкаренко о Крыме. Военная судьба вела его к родным местам. Каким-то уголком души верил он все эти долгие месяцы, что застанет мать и сестру живыми. В том, что он скоро вернется в Крым, он не сомневался. Все крепче становилась Красная Армия. Сам Анатолий Пушкаренко сначала командовал взводом, а в Крым привел батальон. Он хорошо воевал. На его груди в день вступления в Крым были ордена Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени и медаль «За отвагу».
Этот день… Он запомнит его на всю жизнь.
Запомнит, как катер подошел к родному берегу и как нельзя было разглядеть первый клочок крымской земли за столбами воды. Били немецкие пушки, и снаряды поднимали над морем звенящие брызги.
Здравствуй, родная земля!
Пушкаренко крикнул:
– Десант на берег!
Он первым прыгнул с катера и пошел к берегу, разгребая воду. Идти было все труднее, потому что ватник тяжелел.
С катера усатый черноморский капитан следил за майором. Пули просвистели над палубой, катер начал отваливать.
– Эх! – с досадой на себя сказал усатый капитан. – Вот майор молодец! Я бы и сам автомат в руки взял и пошел за ним! Теперь держись, немец!
На берегу Пушкаренко с группой своих бойцов атаковал немецкую батарею. И вот он стоял уже у немецких пушек:
– А ну, кто умеет стрелять?
Какой-то пехотинец торопливо подбежал к орудию. Пушкаренко улыбнулся:
– Освоенный трофей!
И теплее, и веселее стало от этих слов, и от улыбки майора, и оттого, что он был рядом.
Пушки развернули. Открыли из них огонь по немцам.
Немцы еще удерживали высоту. Но скоро гвардии майор Пушкаренко сообщил, что высота находится в его руках. Командир дивизии велел передать гвардейцам – хорошо дерутся.
Здесь, на берегу, особенно проявились военный талант и настойчивость советских офицеров. Они собирали десантные отряды, отбивали все немецкие контратаки и быстрыми ударами с разных сторон сами теснили врага.
… Заводская дорога. Рельсы узкоколейки. Только как они заржавели! Огромные заводские трубы. Разбитые корпуса. Знакомо все, как знакомо! Вот и белые домики Аджи-Мушкая. Радостная встреча с земляками. И горькая весть: немцы угнали сестру и мать.
Хмуро сдвинулись брови майора. Жесткая складка легла меж ними. И казалось, не сойдет она, пока все ожесточение души не выскажется в бою, пока он не расплатятся с немцами за то, что они вырвали у него из души последнюю теплую надежду увидеть мать, семью.
Было тихо. Но Пушкаренко хорошо понимал эту тишину. Он вошел в блиндаж. Тяжело опустился на ящик. Вызвал командиров и приказал проверить связь, чтобы была надежной, а кто подведет – головою ответит. Приказал раздать бойцам – своим гвардейцам – больше гранат. Он ждал немецкой контратаки.
В небе гудели «Хейнкели».
«Хейнкели» сбросили бомбы неподалеку. Потом еще и еще. Внезапно загремела, забесновалась немецкая артиллерия. И вот уже сообщили – немцы атакуют правый фланг, роту Колосницына.
Пушкаренко руководил боем спокойно, послал к Колосницыну автоматчиков. Они выбежали из штольни, и вскоре сумерки наполнились дробным стуком автоматных очередей.
Связь с Колосницыным прекратилась. Тогда Пушкаренко выскочил из блиндажа и кинулся туда, где в траншеях вторая рота вела рукопашный бой.
Наконец, бой затих. Гвардии майор, весь в следах траншейной земли, пропахшей пороховою гарью, вернулся в блиндаж. Санинструктор Нила Найчук привела командира роты Колосницына.
Он был в крови и с трудом держался на ногах. Он сказал негромко:
– Комбат, все-таки ничего у них не вышло… Вы вовремя подоспели…
Пушкаренко подошел к Колосницыну, взял за плечи, помог сесть.
– Теперь у них, конечно, ничего и не выйдет.
Повернулся:
– Почему не докладывают, исправлена связь или нет?
…Батальон отбил еще одну отчаянную контратаку немцев. Катакомбы казались уютными и теплыми. Усталые бойцы и офицеры спали на полу – в шинелях и ватниках. Но Пушкаренко не лег отдыхать. Он пошел к людям из Керчи и Колонки, которым бой не давал еще возможности вернуться к родным домам. Он пошел к людям, которых не отдал врагу, которых вырвал из немецких лап навсегда.
…Через несколько дней поздним вечером в блиндаже майора запищал зуммер телефона. Майор Пушкаренко взял трубку, а потом положил ее на аппарат осторожно и бережно и встал, переживая волнение. Командир полка поздравил Пушкаренко со званием Героя Советского Союза.
Бойцы знали, что Родина не могла дать их майору другой награды. Но с новым уважением смотрели они на своего командира.
Правду говорят, что храбрые познают счастье. Веселыми дымками занимается жизнь над Керчью, над шумным заводом. Это радостно знать гвардии майору Анатолию Пушкаренко, который видел потом, как горели города Германии.
Мать и сестра Пушкаренко оказались живы. Когда Керчь была освобождена и гвардейцы Пушкаренко ворвались в крымские села Булганак и Катерлез, там, в штольнях новых каменоломен, Пушкаренко встретил мать и сестру.
Затрепетала от радости старая мать. Не сдержала слез и прижалась к груди сына, к его шершавой шинели. Это был он – сын-герой, на родной земле, близ родного дома, в Крыму.
Первые пушки
Когда туман наплывает с моря и клубится, как дым, в его космах исчезают керченские высоты. Их много.
И каждую высоту враг изрыл траншеями.
Если перелезть через колючую проволоку, спрыгнуть в траншею, только что отбитую у врага, и пойти по ее змеевидной щели, то через каждые десять шагов встретишь пулеметную площадку, увидишь много дзотов с пустыми глазницами амбразур.
Нелегко все это было брать. Нелегко было разрушать немецкую оборону, глубоко вросшую в нашу землю цепкими, крючкастыми корнями.
Когда кипел бой, перед этими высотами лежали наши пехотинцы. Они смотрели на траншеи и дзоты, в которых сидели немцы.
Пехотинцы готовились к атаке. И знаете, о чем думали они тогда – бойцы в мокрых шинелях и ватниках, сжимающие винтовки? Они думали:
– Эх, если бы пушечку… Хоть одну, голубушку, чтобы она заговорила вдруг сзади. Она бы согрела, силы прибавила. Повеселело бы сердце. Ее бы подхватили на руки, поволокли по скатам: бей, прокладывай путь через эти гадючьи немецкие норы.
Сколько героизма нужно было проявить артиллеристам, чтобы в первых десантных группах высадиться на крымский берег вместе со своими пушками! Мне рассказывали, как высаживался один расчет.
Балиндер, на котором было установлено орудие, не мог пристать к берегу под ураганным огнем немцев.
– Наше дело – не назад везти! – крикнул командир орудия. – Наше дело – идти вперед. А ну, взяли!
Пушку сбросили в воду.
Волны раздались, швырнув тяжелые брызги на борт и на палубу балиндера, и прокатились над исчезнувшей пушкой. А артиллеристы прыгали вслед за ней и боролись с водой.
Это было в ноябре, в такую ночь, когда даже легкий ветер с моря леденит все тело.
В неистовом порыве работали люди. Они ныряли под волны и, нащупывая руками колеса орудия, цепляли за них лямки. Потом, напрягаясь до отчаяния, тянули орудие к берегу. И вот он, наконец, твердый берег под ногою с клочьями пены, которую впитывает песок. Вот она – крымская земля. Она еще занята врагом и объята боем…
Пушки сразу вступали в бой, прокладывая путь десантникам, отбивая немецкие контратаки. На рассвете пехотинцы помогали расчетам вытаскивать из воды ящики со снарядами.
– Тащить можно, – говорил весело расторопный пехотинец. – Было бы их там, на дне, побольше… Побольше бы мы их туда набросали.
На берегу он припал к земле: немцы начали огневой налет. Боец закрыл собою снарядный ящик…
Среди первых пушек на Керченском полуострове были орудия ныне Героев Советского Союза старших сержантов Никандра Васильева и Георгия Малидовского. Оба они командовали взводами, у каждого было по два орудия.
В первые же часы боя пушки Васильева разбили пять немецких пулеметов. Десантники взяли еще одну высоту.
Усатый командир взвода прилег под шинелью у камня, но немцы не дали ему хоть немного согреться в этот мучительный предрассветный час. Гитлеровцы пошли в контратаку.
Может быть, больше всего удивило немецких солдат то, что их встретили яростным огнем русские пушки, уже установленные на высоте. Беспощадным огнем их встретили советские артиллеристы. Васильев говорил мне, вспоминая этот бой:
– Они не ждали… Для них это непонятно, как артиллеристы могут с пушками высадиться в десантном отряде. Но зато у нас хорошо получилось. Мы сожгли у них ведущий танк и остановили атаку.
Васильев ничего не рассказал – рассказали другие: когда немцы подошли близко, он оставил у пушек по два человека, а с остальными бросился навстречу врагу. И он сам в рукопашной схватке уничтожил несколько вражеских солдат.
Атаку немцев отбили, наша пехота пошла вперед. И за ними вслед покатили на руках свои пушки артиллеристы Никандра Васильева. А когда пушки перекатывали через траншеи в которых в разных позах валялось немало немецких трупов, то мосты делали из балок, разбирая перекрытия разбитых дзотов. И пушки послушно взбирались на эти мосты колесами, оставляя траншеи позади.
Вскоре синева пролива совсем скрылась с глаз за сопками. Через несколько месяцев на одной, из дорог наступления, в крымском селе, я встретил старшего сержанта Георгия Малидовского. Он ехал на высоком коне. За ним нетерпеливые шестерки лошадей в упряжках тянули орудия, и они, громыхая, катились по крымскому шоссе. Женщины, старики, дети с радостными лицами стояли у обочин, приветствовали артиллеристов. Какая-то старушка, может быть, мать бойца, держала в руках портрет Сталина и смахивала слезинки уголком платка, и вместе с другими приветственно протягивала руку к старшему сержанту.
…У Георгия Малидовского на фронте погибло два брата. Он говорил, что должен сражаться за них, и так он сражался – настоящий русский артиллерист – твердый, как гранит, поразительно бесстрашный потомок бородинских пушкарей, которые не оставляли пушек и били врага даже тогда, когда он хватался за стволы.
Такой бой выдержал Малидовский на Керченском полуострове с немецкими танками.
Пушки его взвода стояли на небольшой, израненной снарядами высоте. Заботливо окопали расчеты свои орудия – эти маленькие полковые пушки, которые потом с любовью называли «десантниками». Их надо было беречь.
Может быть, сейчас не найдешь этой высоты среди других. Тогда немецкие танки полезли на нее, потому что немцы хотели смять первые наши пушки, не успевавшие остывать от стрельбы.
Пехоты не было впереди орудий Малидовского.
Немцы сосредоточили на них весь огонь своей артиллерии, снаряды рвали землю. Малидовский приказал:
– Не стрелять!
Бойцы смотрели: почему не стрелять? Ведь танки уже близко. Нет, он упрямо ждал – пусть они подойдут еще ближе.
– Теперь только не робеть, – сказал он наводчикам. – Команды исполняйте спокойно, чтобы наверняка бить!
Танки подошли на двести метров. Малидовский повысил! голос:
– Огонь!
Оба орудия заговорили. Загорелось два немецких танка. Но пушки выдали себя, и немецкие снаряды стали еще чаще рваться возле самых орудий. В расчетах ранило бойцов. Малидовский крикнул наводчику Винникову, чтобы тот сам выбирал, в какой танк бить удобнее, и кинулся ко второй пушке. Винников поджег третий танк, затем сделал пробоину в башне четвертого.
В таком бою некогда говорить. Винников только бросил взгляд в строну старшего сержанта. И показалось, что глаза его грели весело и команды раздавались звонче: старший сержант одобрял наводчика.
Немецкие танки не прорвались к высоте. В короткую передышку раненых укрыли в ровики, перевязали. Они теперь начали стонать – раны пекли.
А пока шла схватка, бойцы молчали! И все поняли – это потому, что они хотели, чтобы тем, кто остался у пушек, было легче сражаться.
Малидовский распределил боеприпасы. Наводчик Винников спросил:
– Наверно, еще пойдут немцы, товарищ старший сержант?
– Не то, что наверно, а обязательно, – ответил Малидовский. – А ты что говоришь так громко, прямо кричишь?
Винников улыбнулся виновато:
– Это так… Видно, оглушило малость.
– Надо до конца устоять, – сказал Малидовский.
– Так ведь это ясно, товарищ старший сержант, – ответили бойцы. Они знали: с таким командиром устоят.
Мне хочется сказать, что в этом бою победила не только доблесть. Огонь по немецким танкам был убийственно точным. Это – высокое мастерство. У Малидовского сохранился потертый листок с наивными рисунками высоты и курчавых кустиков, и домика, что был впереди, и железнодорожного полотна. К рисункам протянуты стрелки, мелкие цифры написаны возле них. Это – карточка противотанкового огня, составленная Малидовским. Это – нити смертельной сетки, в которую попались немецкие танки.
Танки пошли еще раз. Но немцы ничего не добились, только два новых факела обагрили сумерки. После боя настала необычная тишина.
– Фрицы никак не могут понять, – удивленно сказал Винников, что зря лезут.
Командир орудия Макагон ответил с укоризной:
– Нашел у кого искать понятия…
К высоте подкатил юркий «Виллис», перегруженный ящиками со снарядами.
– Чей? – удивился Малидовский. Шофер подмигнул:
– Командира дивизии!
Генерал был на этом берегу. Его машина, одна из первых на Керченском полуострове, возила снаряды на батареи прямо с борта катера. Генерал продолжал наступление, не давая закрепляться немцам, которые лихорадочно опоясывали наш плацдарм траншеями и колючей проволокой.
Командир полка подъехал к позициям, пожал руку Малидовскому и сказал, с гордостью глядя в уставшее лицо артиллериста:
– Молодец, Малидовский!
Малидовский прищурил глаза, улыбнулся:
– Как же, товарищ командир полка, немцы хотели нас в море, а мы сами хотим их – туда же.
И вышло так. Пушки Малидовского добивали немцев на мысе Херсонес, с которого были выброшены в Черное море остатки немцев из Крыма.
* * *
…Последние часы на Керченском берегу в дни этой первой своей поездки я провел в блиндаже командира полка гвардии полковника Героя Советского Союза Петра Георгиевича Поветкина. На его столе лежала пачка писем. Он перебирал их, придвинув к себе коптилку, и с грустью говорил:
– Этого нет… Вот письмо Марунченко. Погиб при высадке. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Нет и Михайличенко…
Лунной ночью катер вез меня через пролив к Большой Земле.
На борту закричали:
– Человек в море!
Это был труп. Кверху лицом, раскинув руки, он покачивался на волнах.
Кто он? Может быть, наш безымянный герой, бессмертная слава которого влита сейчас в обелиски памятников на освобожденной крымской земле? Или это немец, получивший то, что должен был получить во имя справедливости. Пришел он незванным из проклятой Германии, пришел убийцей и вором. И качается на волнах его труп, размоет его вода, растащут рыбы, и не останется следа.
Катер скользнул вдоль трупа и резко отвернул. Кто-то крикнул:
– Немец!

НА «КРЫМСКОМ ПЯТАЧКЕ»
Медленно ползут минуты.
Мы в заснеженном окопе
Ждем сигнала, мерзнем люто,
Для атаки злобу копим.
Вьюгой, стужей, минным воем
В феврале богаты ночи…
Путь к победе с каждым боем
Все короче и короче.
М. Соболь
Ноябрь. Декабрь 1943 года.
На плацдарме под Керчью Отдельная Приморская Армия вела тяжелую борьбу.
Командующий, Военный Совет, штаб с первых дней высадки были вместе с бойцами.
Шли бои за Керчь.
Немцы, захлопнутые на полуострове со стороны Перекопского перешейка войсками 4-го Украинского фронта, отчаянно сопротивлялись.
1944 год.
Сталин приказал: воевать и учиться…
Иногда на переднем крае было тихо, а близ Оссовин у пролива гремели выстрелы. Здесь, на полях учебы, осваивали опыт прорыва.
Январь. Февраль. Март. Апрель.
Радостные вести: Ленинград полностью освобожден от блокады, Красная Армия – на границах Румынии и Чехословакии.
До 11 апреля в сводках Совинформбюро ничего не говорилось о борьбе за Керчь.
Здесь текли напряженные будни войны.
Это были будни
Ветер гонит поземку. Снег сухой, как песок. Белые буруны расходились по проливу, беснуется море. Сковало грязь на дороге, протянувшейся вдоль берега от причала к причалу. Повозка ковыляет по ней, как на ходулях.
Баржи прижались к берегам. Никого не видно в море. Мечется одиноко наш белый санитарный катерок, приближаясь берегу. Вот его захлестнуло волной. Потом вновь взмывало на гребень.
Идет катерок, бросаясь от волны к волне, как чайка в полете.
Наконец он подобрался к причалу.
– Эй, на пирсе!
– Есть на пирсе!
– Держи концы!
Раненые, кто с подвязанной рукой, кто с забинтованной головою, потянулись к катеру из госпитальных домиков, приютившихся под скалой. Им помогают всходить на палубу по шатким мосткам.
Что это, ветер или свист снаряда? Свист нарастает.
Бах! Столб воды подпрыгнул к небу. Но никто не обращает внимания. Привыкли. Немцы методически обстреливают причалы и берег, на котором в огромные штабели сложены ящики со снарядами, мешки с продовольствием, тюки прессованного сена для лошадей.
Вновь нарастает свист, и еще один столб воды поднимается вверх.
Шофер у причала прогревает мотор. Он потирает красные обветренные ладони, прячет их в перчатки и хлопает руками. Он доволен морозом – окрепла дорога. Закончилось мученье водителей, не будут больше машины застревать в вязкой непролазной грязи.
Мы сбежали с причала и устраиваемся на машину.
Путь знаком. Столько раз по нему хожено. Всю зиму линия фронта почти не менялась. Бои велись на изматывание врага – за высоты, за траншеи, иногда даже за отдельные окопы, за воронки.
Немцы рыли траншеи – им не давали рыть. Строили проволочные заборы – их разрушали наши артиллеристы, саперы. Немцы подтягивали батареи – их разведывали и подавляли…
* * *
В эти будничные дни войны совершил свой подвиг красноармеец Василий Рыжов.
Круглолицый девятнадцатилетний паренек из таманской станицы, Василий оказался настойчивым и смелым бойцом. Он скоро стал на редкость опытным сапером-разведчиком.
Я видел однажды, с каким вниманием слушали его в землянке товарищи. Казалось, он рассказывал забавный случай, и он сам, может быть, не замечал, что многому учит товарищей.
– Подполз я к колючей проволоке, – говорил Рыжов. Забор обычный, немецкий, перепутан весь так, что сам черт не разберется. Такую проволоку резать – морока. Лучше всего – подложил заряд, и на воздух! Хотел я под забор нырнуть. Э, стой, говорю. Вижу – ниточки идут от проволоки колючей в разные стороны, как паутина. Связали немцы проволоку с минам, сделали ловушку для саперов. Так я сначала мины обезвредил, а потом проволоку подорвал. На войне старые пословицы на новый лад идут: рта не разевай, не то пуля влетит.

Герой Советского Союза красноармеец В. Рыжов.
Рыжов отличался тем, что всегда умел перехитрить врага.
Вот Василий лежит в воронке и видит: немцы ночью выдвигаются на линию боевого охранения – метров на двести впереди своих траншей. Но идут как-то странно, гуськом, точно по бревну, перекинутому через реку.
Как это понять?
Молодой разведчик смекнул: вокруг – минное поле, а для себя немцы оставили узкий проход. И идут по нему. Дерзкая выдумка родилась в голове сапера. Он переполз в другую воронку… Перед рассветом немцы так же гуськом, торопясь, направились к траншее. Этого и ожидал Рыжов терпеливо, не смыкая глаз. Он приложил к плечу автомат. Короткая очередь – и два солдата, идущих впереди, упали. Остальные залегли, озираясь: откуда стреляют. Рыжов выпустил еще очередь. Фрицам деваться некуда, вокруг их же мины! Они поползли по тропинке, потом вскочили и бегом – к траншее. Тогда Рыжов разрядил весь диск. Только двум из восьми удалось скрыться.
По Рыжову открыл огонь гранатомёт. Вернее, по воронке, где Рыжова уже не было…
Кто бывал на «крымском пятачке», кто дрался за Керчь, тот хорошо знает высоту 133,3 – ту самую, у которой на вершине отвесный срез. Около этой высоты долгое время стоял обгоревший танк, и наши наблюдатели и снайперы просиживали в нем целыми днями, выискивали уничтожая гитлеровцев.
Эту высоту за зиму атаковали несколько раз. Раза два она переходила из рук в руки.
В один из таких дней Рыжов и совершил свой подвиг. Перед штурмом он получил приказ сделать проход в проволочном заграждении немцев.
Настала ночь. Над высотой и над всем передним краем тревожно мерцали ракеты. Кое-где стреляли орудия.
Рыжов полз к немецким позициям с зарядом взрывчатки.
У самой проволоки расположилось немецкое боевое охранение. При свете ракеты Рыжов увидел над бруствером окопа ствол пулемета. Рикошетом по земле полоснули пули. Над окопом приподнялся немец, потянулся, что-то пробурчал. Показался второй немец, оба осмотрелись вокруг, один взялся за пулемет, выпустил очередь. Так немцы стреляли часто – от страха, на всякий случай. Рыжова это не беспокоило. Но он лежал не дыша и думал о том, где удобнее подложить заряд. И решил: заложить у самого пулемета. Знал отважный сапер, что слева и справа склоны, насквозь простреливаемые немцами. И пехотинцам будет удобнее и безопаснее идти по этой балочке, которую охраняет немецкий пулемет, если сделать проход именно здесь.
«Конечно, только здесь: ведь заодно можно взмести на воздух и пулемет».
Пушки били где-то за высотой.
Хорошо, когда враг тебя не видит! Но вот Рыжов оставил воронку. Проползет ли он этот десяток метров до колючей проволоки с тяжелым зарядом, не выдав себя врагу?
…Немцы не заметили Рыжова. Но, очевидно, шорох встревожил их. Пулемет застучал.
Рыжов отполз и вновь оказался в своей воронке. «Все равно доберусь и подорву, подорву!»
Он начал подползать стороной, невзирая на пули. Колючки проволоки коснулись спины, Рыжов пробрался под ними. Выждал. Немцы угомонились и не подавали никаких признаков жизни.
В двух-трех метрах от немецкого пулемета Василий заложил под проволоку заряд. Пальцы работали быстро. Распущен и протянут шнур. Через несколько минут шипящая искорка побежала к заряду.
Взрыв был неожиданным и сильным. Он разорвал на клочья мрак. Рыжов вскочил на ноги: «А ну, что стало там, интересно посмотреть на свою работу!»
Он побежал к тому месту, где взрывом разбросало проволоку вместе с кольями в разные стороны. Проход был не меньше десятка метров. Окоп засыпало. Одного немца не видно, завалило, а изуродованный труп другого выбросило наверх.
«Пулемет цел!» – удивился сапер.
Немцы в траншее на высоте были разбужены взрывом и открыли беспорядочный огонь. Но Рыжов добрался до пулемета, взвалил его на плечи и принес в часть.
– Наш Вася, – говорили бойцы, – что захочет, сделает. Главное: всегда сделает, и живой останется.
Штурм высоты прошел с успехом.
…Так шаг за шагом войска приближались к полной победе в Крыму.
Далеко еще было до весны. Почти без дров (на каменистой почве «крымского пятачка» – ни деревца, а топливо из-за пролива и с окраин Керчи едва успевали подвозить для кухонь), без хорошей воды (во всех колодцах на полуострове вода солоноватая и горькая) зимовали войска. Но в этой обстановке все готовились к решительному удару.
Когда войска шли с мыса Херсонес, полностью очистив Крым, я узнал, что Василию Рыжову присвоено звание Героя Советского Союза. Мы встретились на фронтовой дороге. Вернее, на бывшей фронтовой дороге. Не было уже в Крыму врага.
Я поздравил Рыжова. Спросил:
– Что пишут из дому?
– Ох и пишут, – опередил Василия товарищ, – все девушки со станицы пишут! В особенности – одна.
– Ну тебя! – отмахнулся Рыжов.
* * *
…В окопах тогда, когда вьюга свистит всю ночь, тянет к думам о родных и близких. Сидят бойцы, разговаривают медленно, мечтательно. Пишут письма в землянках при свете коптилок, а то и поют не смело, но задушевно.
Не знаю, кто автор этой песни, но ее часто пели под Керчью в те вьюжные долгие дни:
«В дальний путь меня уносит эшелон,
День и ночь стучит колесами вагон,
И в вагоне фотографию твою
Из походной гимнастерки достаю».
Может быть, известный поэт ее написал, может быть, боец – и не один. Слова простые, а мотив еще проще. Но не потому ли заставлял он замереть и задуматься?
«…Пятый день идут жестокие бои,
Отстояли мы позиции свои,
Только некогда, родная, мне в бою
Посмотреть на фотографию твою».
Кто о девушках вспоминал, а кто о семьях своих. Но все связывали эти мысли с одним – с победой.
Песня была грустной. Но неправду говорят, что такая грусть мешает солдату. Нет. Он становится злее, он очень хорошо знает, кто стоит на его пути к счастью: заклятый враг, которого надо уничтожить. Уничтожить ради своей жизни, ради своих родных и близких.
Ради тех, кто был еще за чертою фронта – в Крыму. Воевали под Керчью бронебойщики – старшие сержанты Григорий Щеглов и Иван Травкин. Оба пожилые, степенные. Оба вспоминали о семьях.
Я встретил их в гарнизоне левого фланга, в группе бойцов майора Головатюк. Они обороняли скалистый бугор, в который билось Черное море. Брызги залетали в окопы, когда море было сердито.
Бойцы жили в землянках, связанных ходами сообщения, и все это вместе напоминало город, укрывшийся в землю.
Траншея – улица, переулком попадаешь в дзот, из узкой амбразуры которого видны море и Керчь.
В этот «город» приходили письма из всех уголков нашей Родины.
Григорию Щеглову – с Урала.
Прочитал он письмо из дома, задумался и сказал:
– Крепко держится немец за Керчь… Крепко…
Керчь была сердцем немецкой обороны. От нее ведут главные дороги в глубь полуострова, в глубь Крыма. Возьми Керчь – и получишь выход в тыл высотам, господствующим над морем южнее города и севернее – над выступом земли, который был в то время занят нами, над «крымским пятачком».
– Скоро и Керчь станет наша, – ответил Щеглову его товарищ Травкин. – В прошлом году вон где был левый фланг – под Новороссийском! А сейчас там, читал, наверно, завод восстанавливается.
Старшие сержанты Щеглов и Травкин славились, как меткие бронебойщики. Вероятно, степенность помогала: в любой обстановке делали они все без суеты, спокойно.
Внешне они непохожи друг на друга: Щеглов – худощавый, жилистый, Травкин – широколицый, плотный, с мелкими морщинами у глаз. Но характерами сошлись.
Напротив их позиции была у немцев на берегу одна огневая точка. Немцы так завалили этот дзот камнями, что никак не удавалось из противотанкового ружья попасть в амбразуру пулей. И вот Щеглов и Травкин пришли к командиру.
– Разрешите этот дзот все-таки уничтожить, – сказал Щеглов.
– Как?
– Гранатами. Самое верное дело.
– Да, – поспешил поддержать товарища Травкин, – а то как-то нескладно получается. Подумают немцы, что у нас, якобы, слабость…
Командир разрешил. Ночью они оба отправились к дзоту. Пробирались ползком. И уничтожили немецкий пулемет вместе с прислугой.
Рассказывая мне об этом, Щеглов заметил:
– Еще одним пулеметом у немцев меньше.
Из траншеи мне показали осевшую груду камней – там был дзот, метрах в ста от нас. Больше немцы не решались выдвигаться так близко, в нейтральную полосу.
– Какая она нейтральная! – сказал один боец. – Наша она! Снайперы там наши, саперы наши все немецкие мины повытаскивали, разведчики так в ней и живут… Нет ее, нейтральной полосы!
У песни, которую я слышал зимой в окопах под Керчью, хороший конец:
«Отгремели дни тяжелые, прошли,
После боя нас на отдых отвели,
И тогда я фотографию твою
Из пробитой гимнастерки достаю».
Но долго еще тянулись зимние жестокие будни под Керчью, пока тяжелый труд бойца окупился радостью победы, которую принесла весна.