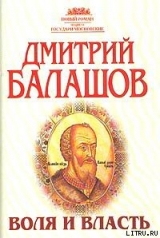
Текст книги "Воля и власть"
Автор книги: Дмитрий Балашов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
* * *
Таковы были дела, когда московская рать вошла в мордовские осенние леса, разыскивая Семена, будто травленого волка-убийцу, за голову его была назначена награда.
Он уходил, мотался с малом дружины, запутывая следы. Татарская помочь, обещанная ему, запаздывала. А как прояснело потом – и вовсе не пришла! И он кружил лесами, укрывши жену и детей в месте, зовомом Цибрица, куда, надеялся, московиты не сунутся. Надеялся зря. И прознали, и сунулись, и одолели засеки, и перебили – перевязали немногую охрану, тут же разграбив казну и товар.
Александра не сказывала потом, как стояла, прислонясь к стволу старой липы, безнадежно взглядывая на невеликую Никольскую церковь, ставленную тут, в лесу, по преданию бесерменином Хазибабой, уж неведомо ради какой благостыни, и с падающим сердцем следила выпрыгивающих из частолесья с хищным посвистом и реготом московлян. И что казалось страшнее всего даже, что нет, не убьют, а изнасилуют их вместе с дочерью на глазах сына и опозоренных отведут в Москву. О том никогда не признавалась мужу. Ждала, прикрывая от страха глаза, и не чуяла уже, как грубо срывают с нее драгоценные цаты, как делят, ругаясь, порты и узорочье, только разорванный ворот сжимая рукой (разорвали, как рвали с шеи янтарь и серебро), все ждала и ждала, уже в забытьи, почти вожделея позора. Не дождалась. Воевода (то был Уда), вывернувшись откуда-то сбоку, строго приказал воинам: «Охолонь!» Роздал своим кметям по связке мехов из захваченной Семеновой казны и, не возвращая, правда, награбленного княгиням, повел их за собою. Дети отчаянно цеплялись за мать, страшась: вот оторвут, отнимут, разомкнувши сведенные персты. Когда посажали на коней, сына Василия, отчаянно вскрикнувшего, отдельно, а их с дочерью на одну лошадь, верхами, безжалостно задравши подол и ноги связав под седлом. Так и скакали, отбивая все внутри. Добро Александра, кочуя с мужем, выучилась в Орде неплохо сидеть на лошади. Вечерами снимали, кормили, давали оправиться, отойдя за кусты, но и здесь караулили – не сбежала б! Отводили ее и дочерь по очереди. Так и везли до Москвы, но хоть стыдно не произошло дорогою! И только уж, когда привезли, когда князь Василий, мельком оглядев полонянок, распорядил поместить их на дворе у боярина Белеута, куда и отвели всех троих, не стряпая, и где наконец дали вымыться в большом корыте с горячей водой, переодеть пропахшие потом, калом и конем, завшивевшие сорочки, и после всего того накормили за господским столом боярскою трапезой, тогда лишь отпустило внутри и в горнице, уступленной ей с дочерью, упала на постель и жарко и безнадежно заплакала. Плакала, вздрагивала в рыданьях, молча винясь перед мужем своим, что не выдержала, не сумела уйти, сокрыться, убежать или умереть, погинуть, давая московитам теперь право требовать сдачи князя Семена в полон.
Семен, узнавши, что княгиня его и дети, и казна попали в руки врагов, выдержал недолго, вскоре прислал челобитную Василию, прося опаса, и когда опас был ему даден, приехал сам. Василий пожелал лично встретить сломленного ворога своего. Узрел седые заплешивевшие виски, потухший взор, услышал сухой болезненный кашель больного князя. Смягчился, раздумав отсылать Семена в монастырь, и приказал отослать на Вятку, под тамошний надзор, с княгинею и детьми. И уже было нечем жить, и незачем жить. Через пять месяцев, впавши в «большой недуг», месяца декабря в двадцать первый день тысяча четыреста второго года от Рождества Христова Семен умер, так и не добыв, ни себе, ни потомкам своим захваченные московитом Суздаль, Нижний Новгород и Городец. Но то было уже потом, уже через лето после того, как Юрий Святославич занял Смоленск, а Витовт тою же осенью приходил под Смоленск ратью, разграбил волость, но града не взял, паки отступив, но отнюдь не отказавшись выбить Юрия Святославича из Смоленска, по пословице: не мытьем, так катаньем. Тем паче, в городе за время литовской осады начались голод и мор, а жестокости князя Юрия отвратили от него многих недавних доброхотов.
В ту и последующую осени небо тревожили грозные знамения. 29 октября 1401 лета затмило солнце, а в начале другоряднего года, в марте, на небе явилась звезда, копейным образом восходившая каждую ночь двенадцать дней подряд, а потом невестимо исчезла.
Знаменья же небесные редко на добро бывают! Чаще к худу, предвещая глады, войны, моровые поветрия и иную неподобь, насылаемую на ны, грехов ради наших. Во всяком случае, летописец XV столетия присовокупляет к сему, что в ту пору «воссташа языцы воеватися друг на друга; турки, ляхи, угры, немцы, литва, чехи. Орда, греки, русичи и иныя многия земли и страны смятошася и ратоваша друг друга, еще же и моры начаша являтися».
Глава 16
Пахло ладаном, нагретым воском свечей, пахло старостью. Михайло, нынешний преосвященный, не велел отворять ставни, и во владычном покое царила мягкая монастырская тьма. Словно в келье отшельника, словно в катакомбах Древнего Рима, где также вот скрывались от императорских игемонов немногие верные, почитающие Христа, при встрече друг с другом они молча чертили тростью на песке изображение рыбы «ихтиус» – Иисус, и по тому узнавали единомышленников.
Михайло, епископ Смоленский, а когда-то, уже многие годы назад, старец Симонова монастыря на Москве, поднял слабеющий взор на келейника, вопросил:
– Витовт опять в городе?
– Отступает! – потряс головою келейник. – С костра видал – пушки увозят уже!
– Селян опять разорят, – без выражения, как о данном свыше, высказал Михайло и махнул рукою келейнику, помогавшему владыке оправиться: – Выйди! Тот тихо прикрыл дверь, унося ночную посудину.
Стояла настороженная келейная тишина. Тихо потрескивали свечи. Потрескивало пересушенное дерево стен, и перед мысленным взором старого епископа проходила жизнь. Он понимал теперь, великое было рядом с ним в те прежние годы, когда покойный Федор, племянник преподобного Сергия, боролся с Пименом, и волны, зеленые волны греческого Понта[73]73
…г р е ч е с к о г о П о н т а… – Черного моря.
[Закрыть] жадно облизывали камни скалистых берегов великого города. Он понимал сейчас и Афанасия, навечно плененного городом Константина Равноапостольного. Но что сейчас там, в далеком Царьграде, одержимом турками, заполненном латинами, с несчастным императором Мануилом, коему достался лишь пепел прежнего величия, и из этого пепла отчаянно пытается он воссоздать, продлить, воскресить хотя бы тень былой власти греческих василевсов[74]74
…г р е ч е с к и х в а с и л е в с о в… – василевс – официальный титул византийских императоров.
[Закрыть]. Великое было в прошлом, не здесь! Не в этих покоях с их тяжелою роскошью и тщательно скрытым убожеством, ибо во всем, даже в полинявшем узорочье занавесов и покровов, в померкшем блеске старого серебра церковной утвари, во всем, решительно во всем, виделась подступающая, подплывающая, незримо грядущая заброшенность и холод, ибо латинская ересь упрямо, настырно одолевала освященное православие в Литве, и кованые дружины ляшских рейтар несли волю римских орденов, волю Пап, земных владык, перенявших власть Господа Сил, все дальше и дальше на Восток, затопляя Русские земли и обмирщая тем самым саму Вселенскую церковь.
Витовт пока не трогает православие, не закрывает православные храмы и монастыри, но все это будет, будет! Грядет! И недавно подписанная уния Витовта с Ягайлой означила тот рубеж – смерть Витовта, – после которой католики учнут всячески теснить православных… Всю жизнь он старался не спорить, дожидал, егда сам созреет плод, который токмо затем и возможно сорвать. Призывал к осторожности и терпению. Но теперь не ведал, прав ли был, и право ли деял всю жизнь? Быть может, да даже и наверняка, пламенный Федор более прав пред Господом, ибо ведать и ждать не то ли самое, что зарывать свой талан в землю? А более всех прав был Сергий, и сейчас перед концом (он чуял, что нынешняя хворь – начало конца), перед концом земной стези своей он пламенно хотел перемолвить с Сергием, послушать его немногословные мудрые глаголы, понять до конца величие этой жизни, перед которой все они, и даже нынешний владыка Руси Киприан, были сугубо мелки.
Да, вот что! Он велит похоронить себя не тут, не в Смоленске, а в далекой Сергиевой пустыни, рядом с преподобным, и там, в горнем мире, их души будут соседить и собеседовать в высях Господних перед престолом Его… Именно так! Он слабо ударил рукою в подвешенное било, несколько мгновений слушал, как замирает, словно ворочаясь внутри, серебряный звон, ударил еще раз. Наконец раздались торопливые шаги келейника.
Сейчас надобно будет попросить себя приподнять, вызвать эконома, секретаря, игуменов ближних монастырей, и составить грамоту, повелевающую перенести его прах в Сергиеву пустынь. Или отправиться самому и умереть там? Как епископ, он этого не волен содеять, но как человек, как инок…
– Уходят литвины? – вновь требовательно вопросил секретаря, вступившего в покой вослед келейнику.
– Уходят! – кратко отмолвил тот.
Жданный синклит собрался к вечеру. Михайло кратко и ясно изъяснил свою волю, подписал составленную и перебеленную грамоту, приложил свою печать к пергаменному свитку, где перечислялось, кому и что передается из имущества епископии (все это, разумеется, было продумано и написано заранее), а в заключение излагалась его последняя воля: похоронить себя рядом с преподобным Сергием в Троицкой пустыне.
Игумен Евфимий, самый близкий ему человек здесь, в Смоленске, поднял было недоумевающую бровь, но вглядевшись в лик недужного епископа своего, помавал головою и опустил взор – понял.
Столица и колыбель православия[75]75
С т о л и ц а и к о л ы б е л ь п р а в о с л а в и я… – Царьград (греч. Константинополь; турец. Стамбул) – столица Римской империи (с 330 г.), затем Византийской империи. Основан римским императором Константином в 324–330 гг. на месте г. Византия.
[Закрыть] пока, во всяком случае ближайшие годы, возможно, десятилетия, дондеже не придут в себя турки, разбитые Железным хромцом Тамерланом, еще просуществует. Возможет ли, к тому неизбежному часу, когда погибнут тамошние святыни православия, достаточно окрепнуть русская церковь? Избегнуть гибельных шатаний, справиться с ересями, укрепить ряды своих епископов? К худу или к хорошу, что в Новгороде Великом архиепископа выбирают по жребию и токмо потом посылают на поставленье, а плесковичи так даже и попов на приходы избирают соборными решениями паствы? А может быть, так и надобно? Может быть, это единый путь противустать ереси латинян, с их Римским Папою, наместником Бога на земле? Да, да, не святого Петра, а именно Бога! Пото и отпущение грехов, возможное токмо на Страшном суде как милость Вседержителя, продают земные, и неизбежно грешные, земные властители римского престола! И тогда прав Киприан, хлопочущий о сохранении православных епархий и охране их от всяческих шатаний, почто и снял с кафедры Луцкого епископа, одержимого латинами? Но от какой причины зависит то, на чем, как на камени, пытается созидать церковную власть владыка Киприан? Почто в одну пору, невзирая на всяческие гонения, сердца разогреваются любовью к Богу, а в иные – невзирая на все церковные прощения, проповеди и неустанную работу сельских пресвитеров – гаснут, охладевают и отступают от Господа Сил? И сколько тут от супротивных, неправду деющих, а сколько от незримого упадка Духа, заключенного в ны? И что должно деять в эти горькие мгновения, времена, иногда годы и даже столетия, ибо почти два века тянулась в столице православия иконоборческая ересь, и сколькие отдали жизни свои в борьбе с нею, и не помогало ничто! И вдруг – ушло, изничтожилось, отступило, выжглось то, что могло сгореть, и угасло само! И наступил новый, теперь уже полный расцвет истинного православия, пока… Пока латины не захватили и не разграбили Царьград, и пока не наступило сущее умаление некогда гордой Византийской империи. Чем измерены взлеты и падения Духа? Чем определены? Что возможет, и возможет ли что содеять тут человек? Сергий – мог. А, быть может, и он мог лишь потому, что Дух возрастал в народе русском и в возрастании своем требовал появленья подвижников? Господи! К тебе припадаем! Творим во имя Твое, но волю Твою невем! Каково назначение жизни христианина? Безусловно – стяжание в себе Святого Духа Божьего! И сие проверить нетрудно, ибо Божья благодать является зачастую как свет, несказанный свет, свет Синая, объявший Моисея после разговора с Богом, свет Фавора, покрывший блистанием лик Его и убеливший ризы Спасителя, яко снег, и повергший апостолов к стопам Его. И этот свет зачастую являлся рядом с Сергием. Ведал ли преподобный, яко ведали древние апостолы, егда Дух Святой был рядом с ним и когда нет? Верно, ведал! А горняя радость неизреченная переполняла ли душу его хотя бы во время молитвы?
Что есть человек, лишенный благодати Духа Святого? Кем был Адам до того, как Бог вдохнул в него дыхание жизни? Был, как и всякий скот, как и всякая тварь, лишенная благодати. Все так! Но и стяжавшим Дух Святой и всем прочим, кто по воле Господней возможет сие, а возможет любой и каждый, подъявший решимость в сердце своем и отвергшийся суеты, но и тот ответит ли, какова тайна творения Божьего? Почто созданы таковы, каковы мы есть, одержимы страстьми и печалями? Почто надобен искус сей, искус сего мира, и почто без того не достичь мира горнего? Тайна сия велика есть! И праведен ли был он, Михаил, и заслужил ли жизнью своею место в рядах праведных душ в мире том? Тяжек крест, но и праведен Твой приговор, ибо ведая волю Господню, конечную цель бытия, и сами стали бы яко Боги, но и не возмогли бы снести ноши той, а воздвигнув новую башню Вавилонскую, потщась достигнуть небес, сравняться с Подателем Сил, надорвались бы и погибли, яко рекомые обры, без племени и остатка.
Михайло оглядел покой. Еще раз глянул на грамоту, которую сворачивали сейчас, обвязывая снурком и запечатывая восковою печатью. Кивком головы отпустил собратию свою. И опять наступила тишина. Снова стало слышно, как потрескивают незаметно оплывая, свечи в высоких кованых стоянцах.
Незримое веяние горних крыл коснулось его лица. Михайло заснул, и во сне продолжал думать и вспоминать. И колыхалось виноцветное Греческое море, и Сергий, такой, как всегда, приходил с торбой своею, в холщовом подряснике и садился у ложа, и говорил, воспрещая:
– Не спрашивай! Надо работати Господу!
– По всяк час? – вопрошал Михайло.
– По всяк час! – подтверждал Сергий. – Ибо жизнь сия лишь временный приют на пути к вечному и от того, что и как сотворим мы в жизни сей, зависит грядущая нам вечность.
Вечность! Повторял Михайло, вдумываясь и усиливаясь понять, и опять колыхалось виноцветное море, дымно плыла по воздуху цареградская София во всем неземном великолепии своем, и старцы прежних великих веков проходили торжественною вереницей в сияющем золотом сумраке, изредка взглядывая на спящего Михайлу и осеняя его летучим движением десницы. Сотворил ли он завещанное ему Господом в жизни сей? Исполнил ли завет Высших Сил? Допущен ли будет к порогу Его, к престолу Славы, стать в ряды праведников, славящих Небесного Отца?
…Он так и умер во сне, не решась ответить на заданное самому себе вопрошание. Умер шестого мая 1402 года по Рождестве Христовом (и, слава Богу! не доживши до нового Витовтова нашествия!). И, согласно воле своей, препровожден в гробовой колоде в далекую Сергиеву пустынь, куда везли его много дней, и куда, несмотря на то, тело смоленского епископа прибыло невережено и нетленно, верно, по молитвам святого Сергия, пожелавшего приветить давнего совопросника своего.
Глава 17
Любутск, захваченный в свое время Литвой, был костью в горле Рязанского княжества, находясь где-то под Калугою недалеко от Рязани, на пути к Брянску. Недалеко от всего, что надобно было защищать, и на что неодолимо, еще со времен Ольгердовых, наползала Литва, съедая земли северских княжеств.
Татары являлись под Рязанью и Любутском единовременно. Олег Рязанский дважды ходил под Любутск с великой ратью и однажды едва не взял города, но ему помешал Василий Дмитриевич, уступавший и уступивший тестю. Теперь, всадив Юрия на смоленский стол, старый рязанский князь замыслил вернуть наконец Любутск и отбить Брянск, – но ему помешало время. Олег был стар, и болезнь свалила его нежданно подобно удару клинка. Рать, долженствующую изъять этот ядовитый шип из тела Рязанской земли и покорить Брянск, впервые возглавил не сам он, а его сын Родослав Ольгович. Во многом и многим похожий на своего отца, но, увы, – не имевший полководческих его талантов.
Не были вовремя разосланы слухачи, надеялись, что Витовт, разбитый на Ворскле и подписавший унию с Ягайлой, не сумеет столь быстро восстановить свою власть и заставить других князей слушаться и подчиняться его приказам. Не уведано о подходе литовских ратей, да что литовских! Большая часть рати Семена-Лугвеня Ольгердовича и приданных ему князя Александра Патрикеевича Стародубского и князя Бойноса Иваныча состояла из русичей, пусть подчиненных Литве, но – русичей! Свои дрались со своими!
Бой произошел под самым Любутском, едва ли не на том самом поле бранном, на котором дрались рязане во время прежних, с князем Олегом, походов воинских и поначалу… Вот именно – поначалу! Кто его оступил, с какими силами – Родослав узнал токмо во время сражения, когда ничего уже сделать было нельзя.
Когда из-за леса вывернулась конная литовская лава, восстал вопль и заколыхались в воздухе тонкие лезвия сабель над головами скачущих всадников, еще можно было что-то исправить, во всяком случае, не бросать встречь свой лучший полк, который уже было не повернуть. А от дальних перелесков отделилась вдруг, высыпая на глядень, и, густея, пошла наметом с далеким «А-а-а-а-а-а!» иная рать, в тылах загомонили вражеские воины, и уже не стало понять, кто скачет, куда и откуда. Крик огустевал, и вот уже со скрежетом, ржанием, копейным стоном сошлись, покатились, топоча высокие некошеные травы, сплетаясь и падая. Воевода Иван Мирославич кинул ему: «Обходят! Уходи, князь!», а сам повел в напуск запасную дружину, и врезались, и замелькали кривые сабли, и крик застыл, пошла рубка, молча и страшно, когда – поводья в зубы, клинок из ножон, подстреленные кони взлетают на дыбы, и лихие рязане все еще в чаяньи победы рвутся вперед, во тьму сабель, в копейный блеск, и когда неясно еще, как повернет бой, но уже яснеет, что началась свалка, что тут решают множества и мгновенья, что запасных дружин уже нет, что надобно уходить, а не уйти, и как показаться потом умирающему отцу, бросив рать, уйдя от разгрома? Как сказать о кинутых ветеранах, что сейчас рубятся, оступив его, и дорого продают свои жизни, падая один за другим… И когда мгновеньями вдруг кажется, что одолеваем, одолели уже! И сам Родослав кидается в сечу, в безоглядный страшный просверк смерти, и рубит сам, и рубятся кмети, а там, со сторон, «А-а-а-а!» – все нарастает и нарастает вражеский зык, и ничего уже содеять нельзя. Битва переломилась уже где-то о полдень: попадали стяги, погиб строй и отдельные ратные уходили в леса, горяча коней, а другие продолжали рубиться, но уже рубиться каждый сам за себя, вертясь волчком на вспененном коне, нанося удары немеющей рукой, и внимая все нарастающему, все более дружному зыку литовских ратей. Дорого далась эта победа и Литве. Отступавших рязан не преследовали, да добычи, полона хватало и без того. Любутск был опять спасен, так и оставшись костью в горле, ядовитым литовским шипом в русской земле.
Родослав рубился до последнего. Переменил двух убитых под ним коней, а когда к исходу дня попытался уйти, понял, что поздно – враги обсели его со всех сторон, что хорты медведя, и потеряв стремянного, опутанный арканом, князь наконец опустил и выронил меч. Его взяли едва живого, трижды раненного и, торжествуя, повели за собою в Литву. «Отец, отец!» – хрипел Родослав покаянно, меж тем как черные круги плавали у него в глазах, и кровь заливала лицо и пробитую бронь…
Три года провел неудачливый сын Олега, несбывшаяся надежда отца, в литовском плену, в цепях, и наконец был выпущен Витовтом не то за две, не то три тысячи рублев окупа.
Олег Иваныч узнал о разгроме рати и пленении сына на ложе смерти. Он лежал бессильный у себя, в переяславском тереме. Столицу Олега, Переяслав-Рязанский, чаще и чаще именовали попросту Рязанью. Городище старой Рязани, разрушенной монголами, оплывшее, поросшее лесом, уже и позабывалось порой.
Князь смотрел в слюдяное распахнутое окошко на Оку, на заречную сторону, где прятался Солотчинский монастырь и где князь завещал себя схоронить, и думал, и знал, что он уже ничего не успеет свершить, не успеет даже выкупить Родослава из неволи, не сумеет отмстить Литве, и что княжество, собранное его властною дланью, рассыплет вновь в прах. Пронский князь опять затеет ненужную прю, подобно тому, как тверские володетели спорят и спорят со своим удельным Кашиным, кто бы там ни сидел. И что, наверное, прав покойный Сергий, и судьбы Святой Руси важнее судеб каждого отдельного княжества… Он уже причастился и соборовался, и теперь токмо лежал, затрудненно вдыхая запах реки, леса и трав, лежал и думал: ни попусту ли прошла его жизнь? Не всуе ли трудился он, упорно бороня рубежи своей земли? Или от совокупных стараний всех нас, даже и во взаимных которах и бранях сущих, все-таки зависит и строится большая Великая Русь? Ему вдруг стало обидно до боли – восстать бы! Сесть на коня! Нежданным ударом разгромить литовские дружины, взять наконец и укрепить Любутск, поставить дружественного князя на брянский стол… А потом отбивать Мстиславль, а потом… А тем часом Витовт опять подступит под Смоленск или под самую Рязань с ратью, которую он сумел добыть откуда-то, собрать и вооружить за столь малый срок!
Нет, прав ты, Господи! Ничего содеять нельзя и надобно верить, что хоть они, московиты, задержат латинов и спасут православную церковь, спасут душу страны… Слишком тяжело умирать, не веря в дальнейшее возрождение! Постельник тихо вступил в покой. Олег показал глазами, что не спит и разрешает входить. Начали собираться бояре. Когда уже все было кончено, прочтена и подписана душевая грамота, умирающий князь прошептал:
– Когда похороните, кольчатую рубаху мою, в ней же ходил в походы и ратился, сохраните в Солотчинском монастыре. Завещаю, чтоб помнили!
Они проходили перед ним, прощаясь, и кланялись земно: воеводы, бояре, боевые соратники князя, иные целовали ему руку, иные, кто имел право на то, припадали к устам. Княжич Федор был растерян и жалок.
– Поезжай… Ярлык… Тебе. К Шадибеку езжай! Родослава скоро не выпустят, и – не оставь брата!
Он шевельнул рукой, отпуская заплаканного сына. Простился, подумал о тех, кого не было. Жену, что осталась у постели супруга до пострижения в иноки, приветил легким движением очей. Прошептал: «Будут постригать, ты уйди!» Уже ничего не оставалось земного, что он мог и должен был исполнить, и токмо это – из князя Олега стать старцем Иаковом и умереть.
Помилуй, Господи, ратоборца, отдававшего душу и труд за други своя!
Тотчас после похорон отца Федор ускакал в Орду, к Шадибеку, за ярлыком на свое княжество. Торопиться следовало, ибо пронский князь поспешил в Орду тоже.







