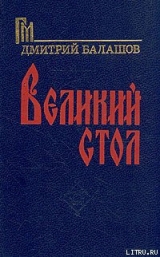
Текст книги "Великий стол"
Автор книги: Дмитрий Балашов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– Почему католики столь успешны? Они и в Литве, и в Орде, и в Цесареграде они! Несите вы слово о Господе! Яко древлии мнихи! Почто не ходят! Ходят! Мало! И не проповедуют слово божие вперекор латинам! Нет! Мало веры! Мало убеждения!
– Истреблены суть философы нашея земли! – сурово возражал Андрей. – Мало людей книжных. Киеву ноне конечное запустение наступает. Волынь… Ростов?
У Михаила едва не вырвалось: «Тверь!» Но не сказалось слово. Подумал: «Прав Андрей!» Хоть и привечает он мужей, умудренных книжному знанию, но не створилось еще нового Киева, не створилось даже и Ростова из Твери. Что-то в деле сем есть такое, чего не достигнуть ни серебром, ни милостью княжою, а токмо преданием и долгими годами старины…
– Некрепки в вере и сами смерды Русской земли! – говорил Андрей, строго глядя в широко расставленные, тяжелые и пронзительные глаза князя, на его начавшие обозначаться залысины в темных, слегка вьющихся волосах. – Букву, но не дух приемлют меря, чудь, весь и литва, служат Господу яко идолам, молебны яко требы творят! Вскую темным сим словеса божественная, надобен пример и время. Годы и годы. Быть может – века! Католикам проще. Прелесть латинская в букве суть. О сем непочто много и глаголати…
Михаил, все так же пронзительно глядючи, слушал епископа не прекословя, но Андрей, начав отвечать князю в твердой запальчивости правоты, все более начинал чувствовать, что тот прав и с горем надобно признать, что не стало должного отпора латинам в землях православных, ниже и в самом Цареграде кесарском… Помедлив, спросил сам о том, что тревожило его как служителя: кто заменит ветхого деньми митрополита Максима, когда придет его час?
– Митрополит еще не умер! – возразил Михаил и вспомнил дрожание старческих рук старого Максима. Воистину, надлежало и ему подумать о восприемнике! Русь должна иметь своего духовного главу. И с новым пронзительным вниманием оглядел он Андрея: не он ли? И что-то сказало: «Нет!» И Андрей, утупив очи долу, тоже отрекся от невысказанного. Осторожно предложил в восприемники владимирского игумена Геронтия. Об этом намекала давеча и Ксения Юрьевна, государыня-мать. Не вместе ли надумали? Мать и последние годы уже не во всем и не всегда оказывалась права, как, с горем, убеждался Михаил, для которого Ксения долгие годы была не только матерью, но и заменяла отца, советуя и направляя в делах господарских. Геронтий! Ну что ж… Как еще взглянет зять! И русских епископов как еще в одно соберешь… Михаил встал, прямой, стремительный. Литва нависала над самым Олешьем, мусульмане умножались в Орде. Без веры (и без вероучителей добрых) не победить. Дай Бог, чтобы они с матерью не ошиблись когда-нибудь в епископе Андрее!
А теперь Новгород. И еще – Москва. И еще – Волынь, гибнущая, сама того не замечая. И мертвый Акинф, который теперь, после смерти, заботил едва ли не более, чем живой. (Неужели потребуют от него похода на Москву!) И ссоры боярские, своих с пришлыми, из-за мест в думе, из-за кормлений, из-за доходных волостей… Вот такой он получил в свои руки Русь. И он обязан высшею волей поднять ее из руин. Воротить блеск древнего киевского стола времен Владимировых… На миг голова закружилась от безмерности бремени, взятого им на рамена своя.
К нему просились немецкие и литовские гости. Велев подождать, Михаил вызвал Бороздина с Александром Марковичем. Долго слушал о делах новгородских, переводя взгляд с сердито брызгавшего слюною Бороздина на немногословного и чем-то озабоченного явно младшего посла. Александр Маркович вознамерился было сказать нечто, и Михаил внутренним чутьем понял, что следовало поговорить с ним наедине, но отослать старика, оставив при себе младшего, было неловко, и он спросил прилюдно, чуть поморщась. Александр Маркович начал сказывать о том, как баял в Новгороде со смердами, и все было не то или же не совсем то, но Михаила торопили иные дела и люди, и он сдался, порешив отпустить послов: «Ну ладно, идите!» Про себя где-то отложилось: поговорить с Александром Марковичем погоднее, и ушло в глубину, в далекое «потом»…
Нахлынули гости. Купеческая старшина Твери; этих обрадовал ордынским договором торговым, и сам обрадован был тем, как дружно и готовно откликнулись на его слова купцы, как возмущены были новгородским непокорством. Конечно, не утесни он новгородского гостя, тверскому не жить, а все же… За ними – гости иноземные, от Ганзы и Литвы и от кесаря кесарские земли. И всем – утвердить старые грамоты, и всем надобе льготы, ярлыки на проезд в Орду и к Хвалынскому морю! После них – свои послы от земель западных, с грамотами волынского князя. Отодвинул. Спросил:
– Юрий Данилыч что?
Послов к нему, как к великому князю владимирскому, из Москвы не было. Ну что ж! Где-то в душе вознамерился было совсем не трогать Юрия, а теперь тот сам напрашивает войну. Тут и Тохта не воспретит! Однако война должна быть малой, для острастки больше. И снова поморщился: такое, с оглядкой, всегда унижало Михаила. Мимоходом, но заботливо вопросил о плененном в Костроме княжиче Борисе. Распорядился кормить за своим столом и держать в вышних горницах. Пущай пленник не чует плена: он гость желанный великого князя, и только, а нелюбие между ним, Михаилом, и князем Юрием Борису ни к чему! Воротится когда, может, не так ретиво станет помогать брату… Тут же и пригласил Бориса трапезовать с собою в ужино. Как жаль, что Данил Лексаныч умер, не побыв на столе! Ну, а тогда? А тогда бы Юрий дрался за стол еще злее и имел бы права, коих нынче лишен. Как был прост, спокоен и мягок Данила при жизни, и как мертвый стал он заботить паче меры, паче Дмитрия, уже позабытого всеми, паче Андрея, чья могила даже и не просохла еще… Паче даже и Акинфовой смерти!
И потом – торжественный ужин с боярами, среди коих дети Акинфа Великого с Андреем Кобылою (обласкать!) и московский пленник Борис (обласкать паки!), и – не обидеть своих, и – быть веселым и щедрым. Он не устал, не заботен, не гневен, нет! Он светел и радошен, глава и отец, а они – возлюбленные чада его.
И уже потом, после гостей, – наконец-то можно хоть немного распустить себя, хоть немного отдохнуть от тяжкого (теперь чуется, насколько тяжкого!) дня – скромный ужин в кругу семьи. Заждавшаяся Анна, дети, что теперь – только теперь! – лезут на колени, цепляясь за плечи и бороду отца, трутся носами о шелк отцовского домашнего просторного нарядного сарафана, накинутого на плеча только что взамен суконного, отделанного парчою и жемчугом княжеского зипуна. Митя так прямо и зарылся мордочкой в большую ладонь отцову.
– Скучал по тебе! – говорит Анна грудным, с лебедиными переливами, трепещущим голосом и отклоняется, выгибаясь, полураскрыв полные губы. И Михаил невольно скашивает глаза: не увидели б слуги отуманившихся на долгий миг, пока не справилась с собою, глаз княгини.
– Скучал, баешь?
– Батя! А я на кони ездил! А Сашок еще не умеет! А мы подрались с дворовыми, а я мамке не пенял, вот! – Сын гордо оглядывается на мать. Теперь о давешней драке и сказать мочно, при бате ничего никому не будет! И снова: – Батя, а ты Тохту видел? Какой он? А у нас привезли рыб, осетра большого-большого, больше коня! Я тебе покажу! Грамоте я уже выучил! (торопится упредить отцов вопрос).
– Ну, напиши: аз, буки, веди.
Митя, высунув язык, старательно водит писалом по вощанице, буквы ползут врозь, прыгают и все же получаются уже! Уезжал в Орду, сын еще ничего не умел.
– И счет учил?
– Ага! – Загибая пальцы и мимоходом легонько отпихнув сестренку, что, молчаливо сопя, лезет на колени к отцу: – Раз, два, три, четыре, пять, семь… нет, шесть, семь… Батя, а тебе когда будет сто лет? Через шестьдесят шесть?
– Верно. Сам счел?
– Сам! – И застеснялся, опуская голову, покраснев, признается отцу: – Мама помогла немножко…
– Ну, а пению учат тебя? – спрашивает, подхватив сына на руки, Михаил. Митя кивает головой. – Ну, покажи! – говорит он, посадив первенца на колени.
– «И научи мя оправда-а-нием твои-и-им!» – немножко сбиваясь, пропевает сын.
– Не так! – И красиво, низким глубоким голосом, Михаил пропевает (а Митя подтягивает тоненько, во вса глаза глядя на отца): – «И научи-и мя о-о-правда-а-а-нием твои-и-им!» Ну, идите спать! – Все трое прижимаются личиками к отцу, не хотят уходить. Кормилица кое-как отрывает их от отца по очереди и уносит в постелю. Последнего – Митю, и он еще успевает спросить то, что намерился прошать с самого начала, да как-то совсем и забыл:
– Батя, а ты теперь на войну поедешь?
– С кем?
– С московским князем Юрием!
Михаил усмехается, глядя на сына.
– Сам выдумал?
– Да-а, все бояре бают, что будет война с Москвою и с Новым Городом тоже!
– Не будет войны, сын! Постараюсь, чтобы не было войны… большой войны.
Нянька уже ухватила Митю, понесла в постель. Михаил вылез из-за стола, ступил в изложню благословить детей на ночь. Подошел к широкой кровати, где на взголовье уже уместились все три детские рожицы.
– Батя, а ты теперь самый-самый сильный? – задает Митя вечный детский вопрос, ухватив отца за палец и не отпуская от себя.
– Батя самый сильный, спи! – подсказывает Анна из-за плеча мужа.
– Сильнее Тохты?
– Нет, сын, Тохта сильнее!
– Почему? – разочарованно и капризно тянет Митя. – Почему не ты?
– Вырастешь – поймешь, а пока спи, сынок!
И – ночь. Скинув сапоги и ополоснув руки, он помолился; сам, не вызывая слуги, задул свечи. Анна ждала, истосковавшаяся, неистовая. Молча ласкала, молча, со сжатыми зубами, прижималась губами к его губам, коротко стонала (подумалось самой: «Беспременно понесу с этой ночи!»), тихо плакала потом от счастья, от долгих, пережитых наедине, запрятанных страхов. Никогда допрежь не боялась за него так безумно, как в нынешний его отъезд в Орду. И он уснул с мокрыми от ее слез губами, а она еще долго, бережно, стараясь не будить, целовала бугристые руки и широкую, твердую, в темнеющих завитках грудь своего князя, любимого, болезного, родного, великого – для всех теперь великого князя Владимирской земли!
Глава 15
Московская рать, посланная по настоянию Юрия в Переяславль, простояла без дела. Михаил, как и предрекали Протасий с Бяконтом, пошел, минуя Дмитров, прямо на Москву, обложил город, разграбил посады и, после нескольких, неудачных для москвичей сшибок, заставил-таки Юрия «поклонитися себе»: подписать мир, признать великокняжеское достоинство Михаила, выдать переяславскую дань (город оставался за Юрием, но на правах держания, а не вотчины) и обещать урядить с Рязанью и рязанским князем Константином, полоненным покойным Данилою. Последнее грозило потерей Коломны и было всего тяжелее. Скрепя сердце, Юрий решил сам ехать в Рязань, к сыну Константинову, Василию, надеясь лестью ли, златом или угрозами, а оставить Коломну за собой.
Княжича Бориса, захваченного на Костроме, вместе с остатками его разгромленной дружины, Михаил, по миру, без выкупа возвратил Юрию.
Пока воеводы московских полков, разоставленных на Нерли и под Переяславлем, спорили, мочно ли, нарушив княжой приказ, идти на выручку своим, к Москве (бросить Переяславль не решились-таки, опасаясь гнева Юрия), начали доходить вести о переговорах, а потом и о мире. Дни шли за днями, ратники изнывали без дела, и бояре, сами истомившиеся пустым стоянием, нестрого смотрели на отлучки из полков: знатьё бы только, где искать ратника, коли нужда придет.
Мишук, сын Федора, пользуясь воеводской ослабой, к вящей родительской радости, дневал и ночевал в родимом терему, в Княжеве. Помогал отцу перекладывать анбар и хлев, перегостил у всей родни, таскался со старыми дружками на рыбалку и охоту, к гордости Федора, самолично рогатиной свалил сохатого, а в сумерках шастал по беседам, разбойной широконосой рожей бередя сердца кухмерьских и криушкинских девок.
Феня заговаривала уже не раз, что сына нать оженить. Мишук отмахивался. Федор пожимал плечами: пущай погуляет ищо! Сам он по-новому приглядывался к сыну, заботно, а то и с удивлением обнаруживая в нем неведомые себе и часто чужие черты. Рубили анбар. Мишук, посвистывая, стоял поодаль. Когда Федор, потный, соскочил с подмостей и хотел было обругать сына за безделье, тот, отмахнув несказанные отцовы слова, показал кивком:
– Батя, глянь! – Федор, всмотревшись, пошел бурыми пятнами. Плотники, без его догляду, пользуясь тем, что хозяин сам сидит на лесах, испортили прируб. – И там еще! – Мишук подошел к стене, ткнул перстом, указав иной огрех древоделей. Две головы свесились сверху.
– Ну-ко! На глядень рядились али на работу?! – прикрикнул Мишук. Головы скрылись, и тотчас злее затюкали топоры.
– Хоть перелагай прируб! – выругался в сердцах Федор.
– Всё Яшка твой!
Федор смолчал. Сын чего-то крепко невзлюбил литвина. Яша глядел на парня как на своего: когда-то спас мальца с Феней от смерти в московских лесах. Как на своего и покрикивал порою. Мишук прежнего не помнил, на покоры литвина кривился, а раз как-то зло осадил Якова, напомнив, что холопу на господина голоса лучше не подымать… Яшка-Ойнас ушел после в клеть, плакал от горькой обиды, нанесенной жестоким мальчишкою, и Федор топотался около, не зная, как помочь, что содеять. Яша-то, и верно, холоп, а Мишука за холопа не накажешь – наследник! Про себя решил тогда же непременно на духу написать Якову вольную. Не ровен час помру, не изобидели бы старика… Кое-как уладилось. Яков замолк, и Мишук не огрызался больше, но при случае нет-нет и укажет отцу на иной огрех, и все выходило, что Яков виноват: того не сделал, иного недоглядел… Вроде бы этот прируб, и верно, при Яше клали! И еще одно повернулось в голове, когда стоял плечо в плечо с сыном, глядючи на испорченную работу: помене надо бы самому ломить, поболе работников строжить. И слушают ведь парня! Вона: крикнул – тотчас за топорища взялись! Постоял еще, подумал. Полез на подмости. Обложил мастеров, велел раскидывать прируб. Те заворчали было, но поглядев на свирепое лицо Федора, с неохотою полезли вниз. И не полезли бы! Да опять Мишук прикрикнул и – проняло.
«Вырос сын! Прошло мое время, уже не понимаю чего-то! – думал Федор, глядя, как сперва с затрудненною скукой, потом яростно, а там уже и весело, играючи, раскатывают мужики бревна, добираясь до испорченного угла. – Когда-то сам за шивороты таскал таких вот… У князя Ивана Митрича. И ведь тоже слушались! А все, вроде, инако было. Не по-нынешнему. Да у них, на Москвы, безо крику да безо страху, може, и нельзя! Народ-от сборный, паразный народ… Себя утешаю. Не боярин, дак! А сын уже как и боярчонок, «детский». Его бы дани собирать послали, не постыдился, как я в еговые лета…»
А другого разу и самого Федора крепко обидел Мишук, сам того не хотя. Попросил:
– Я возьму Серка проездитьце! С боярчатами надумали в Купань сгонять.
– Гнедого возьми! – ворчливо отмолвил Федор. Гнедой был добрый конь, малость тяжеловат на скаку, зато вынослив на диво и не пуглив. Такого гоняй того боле – не запалишь. Но Мишук, выслушав отца, надул губы. Возразил:
– Будет Данило Протасьич, Ощерин, да Окатьевы, да рязански боярчата – у тех-то кони добры! Мне на Гнедом – стыдоба перед ими! И над тобою, батя, смеятьце учнут!
Федор пожевал морщинистым ртом (последние годы, за болезнями, многих зубов стало недоставать), помедлил:
– Ну, бери Серого, что ж… – Он еще помолчал, затягивая чересседельник, – дело было на дворе, и Федор ладил сгонять в Маурино, обменять воз свежей рыбы на говядину (с говядиной нынче, за хоромным строеньем, просчитались чуток, а забивать свой скот до осени не хотелось). Думал сказать безразлично: «Ну, чего там, в сам деле, парни все одинаки, первое у их – похвастать конем!» Да вдруг всего, как горячею волною, облило стыдом и гневом: – Рязански боярчата меня засмеют, баешь? – И, срываясь в голос, зная, что лишнее, но не в силах остановить себя, закричал: – На добрых, видно, конях с Рязани на Москву сбежали! Конечно, каки поместья у нас! А только и у меня несудимая грамота есть! Конь, вишь, плох! Мы зато николи своим князьям не изменяли! Я Ивану Митричу служил до последнего часу! Може, без меня-то и Юрий Переславля не получил! – Выговаривая все это, Федор рвал сыромятный ремень, и оттого, что ремень не поддавался, ярел еще более. – И дед твой на рати погиб, под Раковором, честно главу свою приложив, с князь Митрием, Ляксандры сынком, так-то!
Сын слушал молча, и только когда Федор утих наконец, задышался, сбрасывая пот со лба, сказал:
– Ты, бать, не обижайсе, ты того не знашь! Оны, може, и слыхали слыхом про тебя, дак у тя свое и у их свое! Поместья у кажного набираны. Мне носа-от драть перед има, дак много надо! Дядя уж и то помогат, чем может.
– То-то, что носа драть! – пробормотал Федор, остывая и уже совестясь, что так сорвался при сыне. Помедлив еще, предложил сам достать праздничное оголовье с отделкою серебром. Видно, и тут Мишук оказался прав. Себя не покажешь, засмеют, да и места не дадут большого… Сам-то не с коня ли службу начинал? (На которого сменял дом отцов под Новгородом.) А тоже: так, да и не так! Инояко было. Казал себя на деле, не на проездочках молодецких!
Поздно вечером Мишук, счастливый, – потеха удалась, и Серко, и сбруя родительская не подвели! – забрался на анбар, залез к отцу в постелю, под ряднину. Федор молча обнял крепкие плечи сына, притиснул к себе со сладкою, чуть печальной нежностью, о которой когда-то и думы не было (старею, верно!). Заговорили шепотом, сдерживая голоса, – не разбудить бы мать, что, уходясь за день, спала мертвым сном, с головою завернувшись в полсть. Федор расспрашивал о брате. Грикша нынче ладил постричься в монахи. «Хочет стать келарем!» – объяснил Мишук. Давненько не видал Федор старшего брата.
– Седой весь, – подсказал Мишук. – Не как ты, а совсем, в празелень. Ему бы уж и пристало в монахи. Ноне и то, стойно монаха живет!
– Все в той же хоромине?
– Зимнюю горницу летось перерубали.
– Раскидало нашу семью! – хрипловато выронил Федор. – Еще тетка у тебя, може, есь… В Орде, коли жива! Параська. Сестренка моя. Бабушка-то все сожидала, что воротитце домой…
– А ты про то, батя, мало и баял, расскажи!
Федор, прокашлявшись и умеряя голос, стал сказывать про детство, про приятелей прежних: дядю Прохора, Степку Линя, Прохорова сына, что ушел в заволжские леса… И, сказывая, чуял: сын слушает не вполуха, а вдумчиво, жадно, слушает и запоминает, а оттого и сказывалось складно, может, даже и лишку где добавлялось само собою, для-ради яркости былого-давнего, о котором и сам-то позабывал порой… И сын дышал рядом и жадно слушал, и было хорошо, справно. Феня посапывала в глубоком сне, и тоже было хорошо. Хоть и прожили вместе жизнь, а сейчас хотелось поговорить с сыном в особину, как мужику с мужиком, об ином пожалиться, что и вспомнить такое, о чем при женке не скажешь…
– А коли воротится тетка-то?
– Параська? И не узнаю, пожалуй. Теперя ей… да в Орде… старухой, должно, стала! Коли жива… Я не верил, а матка, баба твоя, и умирала, дак наказывала: прими, мол, от порога не отгони! И ты, Мишук, ежели…
Сын промолчал, только приник к отцу, потерся носом о шершавую отцову долонь. Понял.
– А как же, батя, ежели теперя с князь Михайлой ратитьце придет, и ты, выходит, на бою заможешь свово друга стретить, Степку ентово, Прохорова сына?
– Не знаю. Не приведи Господь! При князь Митрии Кснятин брали, дак один у нас так же вот друга свово стретил в городи.
– Ну?
– Отпустил, конешно! Тот ему в ноги пал: «Не губи!» А полон набирали той поры. Ну етот мужик вывел друга за город да и: «Беги!» Свой, дак!
– А как же другие-то?
– Дак и то сказать, все мы християне и православные все! Тот же Окинф. А только пока был Окинф живой, в Переславли никому спокою не бывало. Вота и свой! И я все ждал беды.
– От Козла?
– И от ево, и вообче. Козел бы хоромы на дым спустил беспременно. Я уж после боя его искал-искал, и середи полона, и мертвяков, почитай, всех переглядел… Нету. Должно, утек!
– А воротитце?
– Он ить в моих летах. Скоро и упрыгаетце, поди! – раздумчиво отозвался Федор. При мертвом Акинфе ему Козел и живой уже не казался страшен. Больше тревожил сейчас новый хозяин Переславля, московский князь Юрий. Что-то он измыслит теперь? И сын, будто увидя отцовы мысли, спросил о том же.
– Я князь Михайлу знаю. Служил у ево. И ратились мы с им при Дмитрии, и с им вместях при Даниле Андрея Саныча окоротили под Юрьевом – всяко бывало! Своему князю служишь, дак… А только зря Юрий Данилыч нынче рать затеял. Михайло строгой князь, праведной !
– И у нас иные то же бают… Дак как теперича быть?
– Протасий-то чего думат?
– Протасий за Юрия.
– Ну, а нам с тобою и Бог велел!
– Сам же ты, батя, толковал, что от нас, от кажного, жизня движетца.
– И так верно, и другояк тож… В ино время и от тебя и от меня, а в друго и поделать ничего нельзя! Вон Михайло Нижний суздальскому князю воротил, Михайле Андреевичу, по правде поступил. Дак нонече Михайло Андреич с Орды воротился с ярлыком и вечников, тех, что бояр Андрея Саныча побили, велел похватать да различными казнями казнил: кого топил, вешал, кому языка урезал, кому очи вынимывали, иное и сказать те соромно. Был бы град за Михайлой Тверским, може, и не створилось тово! А суздальский князь свое блюдет: чернь бояр безо суда побила, княжеской власти умаление от того! Кто прав тут? И кто что поделать бы мог!.. Я, сынок, Данилу покойного как тебя вот видел. Другом был ему. И Ивану Митричу служил при палате княжеской. Пото и грамоту передал.
– А кабы князь Иван Михайле Тверскому город подарил? Ты бы отвез грамоту ту?
– Не знаю, Мишук. Не думал об етом. Чего о том баять, что было бы, если бы да кабы… Отвез я грамоту! Даниле отвез. Не Юрию. Юрию еще бы подумал, везти ли…
– Ну, а мне как? Мне ить жить, батя! Скажи! – требовательно попросил Мишук.
– Не скажу, – глухо и не вдруг отозвался Федор. – Чести своей не роняй. Верен будь. Не робей на борони. То все скажу. А как поворотит жизня – сам понимай. Мое прошло время, сынок, а наперед не рассудишь, не прикажешь, будь ты хоть семи пядей во лбу.
– Стало, драться с Михайлой?
– Стало, так! Чего-то больши бояра думали о себе? Те же Протасий с Бяконтом? Ну, а ты у Протасия служишь…
– Дак коли набольший бесчестен, и тебе тож?!
– Опять не скажу. Не знаю. Прости меня, Мишук! Стар я стал… Был бы жив Данил Лексаныч, не ратились бы и с Тверью. Женить вот мать тебя хочет!
– Не погуляно вдосталь, батя! Да и… Мне-ста женитьце в Переяславли не корысть. Московску боярышню какую взять с приданым, дак ништо… Ты даве конем укорил, а другой по платью судит, третий еще как-нито… И всем единако нужно, сидел бы ты на добре да на земле, дак и был бы добрым женихом! А на низу мне быть тоже никак неохота. Рази я хуже их?! И батька мой – ты то есть – не хуже никоторого из ихних. Дак почто и низить себя?! Али я плохо говорю, все про корысть да про корысть… думаешь? – промолвил Мишук с неуверенной дрожью в голосе. Федор услышал неуверенность, омягчел. Сказал бы: по любви женитьце нать! Сам-то не по любви женился! Ну, а коли так… Возразил осторожно:
– По породе надо выбирать. Доброго кореня чтоб. Ну, а придано: оно и придет, и уйдет – не увидишь! Война, мор ли… Погуляй ищо, подумай. Жить не с приданым, с человеком! – И добавил словами песни: – «Придано висит в клети на грядочке, худа молода жена на ручке лежит, на ручке лежит, целовать велит, целовать ее, братцы, не хочетце!» Так-то, Мишук!
И Мишук, как давно, в детстве, зарылся лицом в бороду отца. Волоса мягкие у парня еще, в-мать… «Добрый ты у меня, Мишук, гляди, и не наживешь живота-прибытку! Злее надо быть. А и злому не корысть, к старости самого ся скушно станет… Спи, сын, утро вечера мудренее!» Спи и ты, Федор, что мог, сделал ты для сына, а дальше – Бог да судьба!








