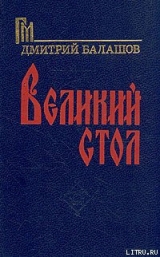
Текст книги "Великий стол"
Автор книги: Дмитрий Балашов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Глава 24
– Мишук! Медведь! Медвежонок курносый! Ужотко проснись! Прочнись, соня! А я-то опять ноне всю-то ночку с тобой глазоньки не соткнула… Заря уж, полно, полно, желанной мой!
Мишук потянулся, еще не размыкая глаз, весь еще в обволакивающем тепле бабьего щекотного запаха, потянулся, попытался прижать ее снова к себе, но женка, уже сердито выставив твердые локти, не далась и отревоженно торопила:
– Вставай! Старик вызнает! Мне тогды и не жить!
Было, и верно, пора. За окном уже посерело. Не вздувая огня, Настюха нашаривала одежку, подавала парню то и другое, приговаривала:
– Ступай задами, через тын перелезь и по тому проулку… Свекор и то даве баял: не к тебе ли, мол? Я ему: «Коли увидашь, дак за волосы мои женские из постели выволоки, тогда и бей! А баять неча попусту, мало ли чего соседи сбрешут!» Сына цельный год нет, как угнали с ратью под Коломну, так и глаз не кажет, а старик и бесится. Куда пойду – ждет меня, что ворон крови…
Про мужика своего Настюха редко вспоминала, и всегда так, походя, на расставаньи, как сейчас, торопливо заматывая косы округ головы и отводя глаза. Она стояла перед ним в мятой рубахе, босая, но уже чужая, неприступная. И – пора было уходить. Скосив глаза вбок, будто нехотя, молвила:
– Завтра вовсе не приходи, гости будут у нас, и про корчагу не забудь. Не увидишь на тыну никоторой посудины, ступай прочь с Богом и не стучи, не ходи по заулку, как того разу. Ну, прощай! – И задохнулась, забросила руки на плечи ему, до боли, почти укусив, поцеловала и тотчас выпихнула за дверь.
Мишук тенью пробрался вдоль стены, прыгнул, потужась, одна глупая жердина хрустнула под ногой, и соседский пес – тотчас залился брехливым, хриплым спросонья лаем. Ругнувшись про себя, Мишук свернул за анбар и, пробежав по зыбко чавкающей, оттаявшей черноте, остоялся. Лезть в грязь в единственных своих тимовых сапогах страсть не хотелось, но псы за спиной уже заливались вовсю. Ославить бабу, мужик которой того и гляди мог воротиться и затеять смертоубийство, Мишуку совесть не позволяла. Пришлось-таки петлять межулками, прыгая по случайным мостовинкам, выбирая твердые, не оттаявшие еще, с кромкою темного льда закраинки и поминутно проваливаясь в лужи. Сапоги погибали. Впрочем, кого винить! Сам же пошел хвастать обновой. А ей – что сапоги! Стянула, не поглядела, – кинулась обнимать… Долговато уже это у них повелось, а все Мишуку будто в первый раз. Ох и баба, ну и баба! Похвастал бы сотоварищам в палате молодечной, а и похвастать нельзя…
Ночная прохлада едва трогала его разгоряченное лицо, и всего переполняло ликованием. Он шел, уже выбравшись на наезженный путь, пьяный от недосыпа и счастья, осклизался, спотыкался и подпрыгивал, чуя, как невесомо сейчас его тело: разбежись – и можно полететь! На мосту через Москву-реку его окликнули сторожи:
– Стой, парень! Откуда? Чей, молодец?
Ждать бы до утра, да, к счастью, попался знакомый ратник.
– А, Протасья, тысяцкого кметь! Проходи, проходи! Хороша баба-то небось? До зари додержала!
Мишук покраснел в темноте, отшутился. Перейдя мост (вот-вот его должны были снимать, лед уже потемнел, потрескал и весь покрылся разводьями), Мишук, огибая кремник, полез в гору. Миновав еще одну сторожу, выбрался наконец на угор и, уже подходя к дому, подумал, что худо, ежели дядюшка ныне не заночует, как обычно, в монастыре. Просунув руку, отомкнул щеколду, отворил калитку. В сенях нашарил запор, толкнул разом подавшуюся дверь и – остоялся. Дядюшка, как на грех, пожаловал домой и, видимо, давно уже ожидал племянника. На стук отворяемой двери он пошевелился в кресле, отложил, заложив кожаным снурком, книгу и, отведя покрасневшие глаза от одинокой свечи, хмуро и недобро уставился на Мишука.
Дядя был в лиловом подряснике, камилавке и суконном коче, наброшенном на плечи. В горнице, со вчера дня не топленной, было прохладно. («Вот принесла нелегкая!» – невольно посетовал Мишук.) Сейчас бы сунуться носом в постель, под овчинный тулуп, и заснуть, а тут отвечай – что да зачем… Не маленький!
Дядя оглядел Мишука всего, задержавшись на изгвазданных сапогах.
– За рекою был? – сказал, не столь спрашивая, сколь утверждая. – По бабам шастаешь все, удержу нет… – Примолвил сурово: – Смотри, гулящую девку в дом приведешь – выгоню!
Мишук вспыхнул, промолчал, сдержался.
– От батьки ничего?
– Ничего…
– Давно вестей не шлет… – сказал Грикша задумчиво, поглядев на огонь свечи. – Эх, Федя, Федя!.. Садись, племяш. Оголодал, поди, бегаючи? – спросил он уже не сурово, а устало. У Мишука и впрямь засосало в животе. Дядя кивнул на кувшин с квасом, хлеб и половину сушеной рыбы, и Мишук, ожидая разноса, но не в силах справиться с собой, начал жадно жевать, отрывая крепкими зубами куски судака и крупно откусывая от краюхи.
Дядя смотрел, как он ест, пригорбившись, молчал, чуть покачивая головой. Видно было, какой он уже старый, и Мишук, насыщаясь и добрея, уже со смущением и раскаянием за недавнюю злобу свою поглядывал на дядюшку, соображая, что, пустив племянника к себе в дом, дядя вправе требовать от него и поведения, пристойного своему сану и должности, как-никак келаря Данилова монастыря.
– Схиму принимаю, – вдруг сказал дядя устало, без выражения, как о давно решенном. – Пора.
– Дак как же, келарем-то?.. – не понял Мишук.
– Ухожу. И из монастыря ухожу из Данилова, в Богоявленский перебираюсь, в затвор… Пришел проститься с тобой, а ты, вишь…
– Прости, дядюшка! – вымолвил Мишук, теперь только начиная понимать, как не вовремя пришлась нынче его гульба. Дядюшка был и придирчив, и занудлив порой, а все ж остаться без еговой обороны, одному совсем на Москве… Струхнул Мишук. Даже и есть расхотелось. Дядя уйдет в затвор, дак его и в монастыре не навестишь! А отец далеко, в Переяславле, да тоже хворает. Подумав об отце, Мишук испугался того боле: показалось – уйдет дядя, и с отцом беспременно стрясется какая беда…
Дядюшка поворотился, поднял усталые глаза от огня, вздохнул, вымолвил:
– Имя наше не позорь. Не марай. Мы с батьком твоим чести своей не теряли. Тебе одному дале нести надобно. Вот и хочу прошать у тебя: как жить будешь? По бабам век не набегаисси. Ожениться тебе нать. Може, отец присмотрит невесту, а то здесь, на Москве… – Он, не договорив, замолк. Спросил про другое, без связи: – Служба-то каково идет? Век в молодшей дружине тоже не проходи! Протасий, слышно, ныне у князя не в великой чести…
– Дядя! – решился Мишук. – Скажи! Вот княжичи наши к Михайле Тверскому отъехали. Дак, може, они-то и правы? Нам-то как? Сумненье у нас большое – и сказать неловко, и не вымолвить грех – Юрий-то Данилыч не больно ли круто забрал? Михайле ведь великое княжение Тохтой дадено! Чего ж мы с Тверью и с Ордой ратиться учнем?!
Грикша вскинул седую мохнатую бровь, поглядел на Мишука строго:
– Князя свово судить не смей! Князь от Бога ставлен. О своих грехах молись. Иной князь за грехи людские дается!
– Дядя! Ты –тоже грешен? – перебил Мишук.
– И я грешен.
– Дак как же жить, дядя! По правде али как?
Грикша совсем нахохлился и поник, видно, что разговор вызывал в нем безмерную усталость. Да, верно, и не хотелось ему теперь, перед концом своих земных трудов, решать все это неразрешенное жизнью и суетное кишение страстей, ничтожное перед лицом вечности. И только то, что разговор этот был, возможно, последний, заставляло его отвечать Мишуку:
– Ты, стойно батьки своего, мыслишь, что вот – зло, а вот – добро. Одно убери, другое ся останет… А жизнь, она как окиян, и добро и зло – волны на нем. Возвысь волну, западинка ниже упадет. Данило Саныч добрый был князь, Юрий Данилыч злой, настырный. На нем то и воротилось, чего в отце не было… А дале опять волною подымет, после Юрия-то. Так и прочее в жизни. И все предназначено, из веков в веки. А люди глупы, мыслят, что могут сами ся управить, тщатся изменить жисть! Остареешь – поймешь. А то и не поймешь, как батька твой: о сю пору верит, что ему свободная воля дадена!
В голосе Грикши что-то дрогнуло – отзвуком давнего раздражения, старого, так и не решенного когда-то спора. Дрогнуло и угасло. Давно, видно, спорили, давно отошло…
Мишук медленно опустил глаза. Далекий батька был ему все равно ближе, чем дядя. Но и батька не мог сказать, как ему быть теперь. Одно знал Мишук твердо: задумай Протасий отъехать с Москвы, он, Мишук, поедет вместе с ним. Но Протасий оставался. И служил Юрию. И он, Мишук, не знал, что делать и как жить дальше. И хоть нынче ночью он совсем и не вспоминал о том, да и в иные времена далеко не всегда вспоминалось – то играли в зернь, то боролись с приятелями, то балагурили, хвастали успехами у баб, то были ученья, там тоже не до мыслей: гляди, как бы не отрубить ухо коню да не промазать из лука по чучелу, – а все же нет-нет да и приходило. И в разговорах между своими ратниками тож нет-нет и возникало: кто шумно одобрял Юрия, кто помалкивал. И, видно, многим хотелось, чтобы свой стал великим князем; многим, да не всем… Дак как же все-таки жить?
Дядюшка тяжело поерзал в кресле, поглядел отрешенно, как бы издалека. Вымолвил негромко:
– Так вот, племянник. Жизни своей не порушь. А Князеву заботу сложи на Вышнего! Все одно, что бы ты ни сделал, все предназначено искони. Сосни теперь. Ляжь тамо. Поди, ночь-то не спал совсем! А я посижу. Напоследях. Дом заберешь себе, грамотку я выправил. Серебра малую толику оставляю. Не мотай без дела, лучше зарой на черный день. А там, как знаешь… Может, и по моей стезе пойдешь, с годами-то! Спи.
Грикша замолк, и Мишук, укрывшийся шубой, подумав еще, что ради прощального дня можно бы и не поспать и еще поговорить с дядей, хоть бы и лежа, тут же начал проваливаться в сон.
А Грикша сидел над книгою, не читая, и задумчиво глядел то перед собой, то на племянника, который, хоть и непутевый был, в общем сильно скрашивал ему старость и чем-то, незаметно, помогал жить. Может, самим присутствием своей радостной щенячьей молодости…
Глава 25
Новгород грозно шумел. С утра разом собрались три вечевых схода: в детинце – перед Софией, на Торгу – у вечной избы, и у Сорока мучеников на Щерковой, в Неревском конце. Толпы вскипали и пенились с говорливым волнением, подобно рассерженным водам Ильменя. Бояре, верхами, сновали с Софийской стороны на Торговую, от вечной избы к архиепископским палатам, проталкиваясь среди горожан, что хватали их за стремена и полы, требуя к ответу: что порешили господа вятшие? Где посадник? О чем мыслит владыка? Верно ли, что княж-Михайловы наместники сидят в Торжке? Верно ли, что идет татарская рать на город? Что Михайло хочет прежних княжчин и грозит отобрать суд посаднич? Что тверичи закроют немецкий двор? Что великий князь требует черного бора по всей Новгородской волости? Закамского серебра? Торжка и Бежичей? И тут же прошали: «Послано ли уже к вожанам? Где корела, идут ли двиняне? Готова ли рать плесковская в помочь Нову Городу?»
Бояре успокаивали, как могли: в Торжке наши, и новгородская рать стоит на устье Тверцы. Княжчин не дадим Михайле, и суда тоже. Немецкий двор не закроют, а о черном боре идет пря с великокняжескими боярами досюль. Про рать татарскую невестимо кто и брешет! А слы даве были московские, то князь Юрий Данилыч хочет нас боронить!
И под радостный рокот толпы отпущенный боярин опрометью скакал по гулкому настилу Великого моста, опасливо поглядывая на готовый двинуться, посиневший и волглый волховский лед. Весна гнала ручьи, точила сникшие сугробы, и уже просыхали рудовые неохватные бревна новгородских городень. Хоть бы и рать татарская, а в распуту и они не сунутце!
Проваливаясь в снежную кашу, торопились по весенним дорогам верхоконные посланцы Великого Новгорода и Твери, везли в калитах трубки скатанных грамот. Сталкиваясь на разъездах, недобро озирали друг друга. Рати ждали с часу на час. Впрочем, передавали, что Волга уже тронулась, на время разделив ледоходом враждующие волости.
Сплошною кашей, налезающей на берега, с редкими промельками быстробегущей воды, шел лед. Разом остановилось все. От усланных на Тверцу воев не было ни вести, ни навести. Поддавшись тяжкому, беспричинному гневу, Михаил, рискуя жизнями своих бояр, отправил очередное посольство на тот берег, через ледоход, и, опомнясь, долго молча смотрел с высокого костра, как отчаянная лодья пробивалась среди сверкающего на солнце крошева, сто раз заваливаясь и кружась, пока наконец каким-то отчаянным усилием гребцы не прибились уже под самый Отроч монастырь. Муравьиные отселе фигурки промокших и чудом спасшихся людей разом попрыгали на берег, а пустую полузатопленную лодью тут же утянуло в бешеную круговерть стечки Тверцы с Волгою, мгновенно раскрошив в щепы и перемешав с битым льдом. Больше подобных опытов Михаил не повторял.
Слишком поздно узнал он, что и в этом затянувшемся упорстве Новгорода виноват князь Юрий. Дать волю страсти – тут же бы и поворотить полки на Москву. Но ледоход и распута, заставив ждать, заставили и помыслить путем. Опомнясь, Михаил уступил новгородцам ежели не все, то многое, пригрозил татарскою ратью и добился наконец почетного мира. В мае Великий Город принял его своим князем. Уже отовсюду буйно лезла молодая трава, уже копали огороды, когда по чуть просохшей земле конный княжеский поезд – сам Михайло тоже скакал верхом, с дружиною, – зеленым берегом Тверцы двинулся на Торжок. Новгородские слы ждали его на подставах со сменными конями, старосты без задержки выдавали корм и обилие, и князь, покинув Тверь пятого, в канун Троицы уже подъезжал к Новгороду.
Благовестили колокола. Укрощенный (или укротивший Михаила?) город готовился к торжественной встрече великого князя владимирского. Юрий Московский, столько сил вложивший в новгородскую прю, как кажется, проиграл и на этот раз.
Город, любимый с детства! Родина матери, великой княгини Ксении. Город, который нужно, необходимо, подчинить, чтобы платить Орде новгородским серебром. Точнее, заморским серебром, которое текло из-за моря в обмен на дорогие меха, воск, хлеб, лен, мед, сало морского зверя, рыбий зуб, коней и многоразличную узорчатую кузнь, что продавал тороватый Новгород гостям иноземным. Серебряные ворота Руси! Вечный соперник Твери. Великий, воистину великий город! Город, упорно не хотевший принять его, Михаила, на принадлежащий ему по праву стол. Дерзко выставивший рати к самым тверским пределам. И два года упорно не принимавший его, великого князя владимирского! За спиною которого стояла как-никак неодолимая сила Орды!
И все же он настоял на своем. Без войны. Без татар. Невзирая ни на что: ни на козни Юрия, о коих еще предстоит досыти уведать в Новгороде, ни на упрямство владыки Феоктиста (пока нет нового митрополита, архиепископ новгородский мнит себя первым духовным лицом на Руси!), невзирая ни на что… И без войны. Спасибо ледоходу, остудившему голову князя. Тверской тиун не безделицу давеча толковал: на войну надобно серебро, и на помочь ордынскую паки серебро надобно, а коли война, с Нова Города ни товаров, ни серебра. Откуда ж и взять? Так-то вот!
В споре с новгородцами Михаил упорно возвращался к тому, что было при покойном отце, Ярославе Ярославиче. Андреевых послаблений городу, сделавших великокняжескую власть совсем призрачной, он упорно не хотел принимать. Пото и тянулась столь долгая пря с новгородцами. И – не будь Юрия Московского – он бы и добился своего, но нынче приходилось признать, что переупрямили новгородцы.
Город, любимый с детских лет! И как же все изменилось, расстроилось, похорошело! Розовые тела новых соборов, и венец каменных стен у детинца, новые ополья, и терема, терема! И в дерзких лицах новгородских смердов удаль какая-то новая, небылая, словно чуют, как силы прибыло. Вон тот, черный, или этот, белокудрявый купец со смешливым зраком, или эти, что стоят обнявшись, вольготно, мол: поглянь, княже, на нас! Отвычно. Тревожно. И как-то словно бы молодо, словно бы все впереди и ничто не завоевано еще. Не видел ты, Тохта, этой синеглазой вольницы, не знаешь ты, почем достается твоему русскому князю собирать татарскую дань! А там уж, в Сарае, верно, не один и донос лежит от Юрия: мол, великий князь утаивает выход ордынский…
Вот и Торг, и собор Николы на дворище Ярославовом, ныне захваченном горожанами. Что ж! Дед и отец правы были, что ушли на Городец, за три версты от города, от торговой толчеи, вечевых сходбищ, от рева и угроз черных людей. Князь не должен жить в постоянной осаде толпы. А все же ушли, не сладили… Да! В Твери все иначе. Там и купцы свои, и бояре свои. Для всех князь – защита и оборона. А тут?
Он еще надеялся, где-то в глубине души, что с материною родней на Прусской улице будет легче. Слишком много Ксения насказывала сыну своему про родню-природу. Да и сам он смутно помнил еще старика деда, приезжавшего на погляд к дочери, в Тверь. Да и когда учился в Новгороде Великом, родня наперебой привечала юного княжича. Где теперь они! Иные умерли, других – не узнать даже. Вырван корень, и не осталось ничего от прежних полузабытых времен. Больше помнили давнюю прю с его отцом, Ярославом Ярославичем, – до его рожденья еще, а помнили! Видел по глазам, по речам чуял. «Сын в отца», – не говорил, а думал едва ли не каждый из них… И как ошиблись его бояре! Как ничего не поняли в делах градских! (А он понял бы преже?) Это нынче, после торжественного дня с богослужением и принятием венца в Софийском соборе, после трапезы в палатах архиепископских, после того, как увидел обоих братьев Климовичей, Андрея с Семеном, и Юрия Мишинича с ними заодно, после того, как Андрей, стоя и жестко поглядев на князя, поднял чару и серебро блеснуло в его руке, стойно оружию… Только после того понял Михаил, что да, верно, совет посаднич и вот они – господа Великого Новгорода, а он, он – принятой гость…
А Семен с Андреем были истинные господа. Он, великий князь, должен был это признать. И что-то было в них, и в Семене, и в Андрее, что объясняло, почему город столь долго находится в их руках и, видать, не думает восставать противу. Глаза были не жадные – гордые. Значит, не за себя только, а и за город весь! И – жестокость, бестрепетность гляделась в них (у Андрея больше – воин!). Мысленно вспоминал блеск чары, и чуяло сердце: раньше, позже, а станет, очень станет битися с ним!
А вот тут теперь вспоминать. Юрий Мишинич, глава неревских бояр, и Михаил Павшинич, глава бояр плотницких, – оба в родстве с московскими боярами покойного Данилы, что служили еще Александру Невскому по Переяславлю. Вот кто поднялся! Вот где корень зол: опять Москва! Хоть и то сказать, что ж молчит ихняя, «тверская» родня? Нет, не ищи виноватого, великий князь владимирский! Ты сам виноват. Виноват в силе и славе твоей. Виноват в том, что хочешь собрать Русь в единый кулак, а она того не хочет и разбредается на уделы. Виноват, что ты упорен и талантлив, что тебя полюбила земля, и она же теперь капризно мстит тебе за любовь свою. Мстит за то, что ты не оказался хуже, чем про тебя думали…
Что происходит с тобою? Вот они, руки, способные сжать меч и проложить дорогу сквозь тьмы врагов. Ты сидишь в тесовых палатах, на высоких сенях княжого терема. Отсюда, сквозь слюдяные окошки, видны Юрьев и Аркаж монастыри на той стороне Волхова, а ежели встать и подойти к гульбищным окнам палаты, откроется в летнем прозрачном северном сумраке громозжение Великого Города, ныне увенчавшего тебя достоинством своего господина. Тихо светит волховская вода. Белеют башни детинца. И главы, и кресты, и островатые вышки теремов рисунчатым изломанным прочерком окружили мерцающее небо. Словно нет конца городу! Словно вся земля – Новгород Великий, и над ним, в голубом сумраке, неслышные разговоры звезд…
Нет Анны. Она бы успокоила теперь. Взглянуть бы на спящие рожицы детей, почуять мягкие руки жены, прикоснуться к земному, уйти от вечного холода звезд, от холода вышней власти!
В изложнице ждет князя раскрытая постель. Пуховые полосатые подушки круто взбиты, и легкое беличье, крытое шелком одеяло откинуто. Постельничий поставил на невысокий столец кувшин с выдержанным ржаным квасом (князь любит кислое питье). Заботно, уже дважды, заглядывал в палату. Но Михаил, словно тело налилось тяжким бессильем, не мог встать, не мог выйти, хоть и многотруден должен был быть его завтрашний день, день новых, теперь уже княжеских, пиров и приемов…
Два гонца, в грязи и пыли дорог, промчавшиеся сотни поприщ и давеча вручившие ему измятые грамоты свои, – один из Волынской земли, от тамошних доброхотов, другой из самой Кафы, от далекого Русского моря, через степи и Сарай много месяцев добиравшийся к нему и по смешному капризу судьбы поспевший единовременно с первым, – два гонца и две привезенные ими грамоты лишили князя сил на исходе торжественного дня. Из Кафы сообщили, что Геронтий, посланный им ставиться в митрополиты, отвергнут патриархом и кесарем (и, значит, византийский двор отворотился от него!), а с Волыни – что князь Юрий Львович таки исполнил угрозу давнюю, поставил на Русь митрополита из своей руки, игумена Ратского монастыря… И теперь что ж? О чем только думают там, на Волыни? Неволею склоняют его к союзу с Литвой! Будут рвать Русь на части к вящей радости католического Рима. Дождет волынский князь, подарит Галичину с Волынью польскому крулю или великому князю литовскому – тому, кто одолеет из них! Как быстро изветшало наследие великого Даниила Романыча! Передают, при дворе волынском шатания в вере, давно сие передают… И кого мог найти для своей услады бывший шурин? Какого-нибудь тайного католика или ханжу! Бают – праведной жизни… Иная праведность такое прикрывает, что предпочтешь ей блудодея и бражника, был бы бесхитростен сердцем! И жесткие лица Климовичей… Два брата, что держат Новгород. И город хочет того! Все четыре конца градских, даже утесненная Славна, все в единой воле, все в кулаке. Противу князя. Против него, Михаила.
Господи! Он ведь тоже хочет соборного правления на Руси! «Каждый да держит отчину свою». Видит Бог, он не порушил этого древнего завета! Порушил Юрий…
Быти всем заедино, всей Руси, всему языку христианскому, всем православным, наконец! А византийский кесарь ликуется с латинами и отвратил лицо свое от него, Михаила, предав Владимирскую Русь. И волынский шурин спешит туда же, отдавая Западу веру и землю свою. И вот – тоже вверг нож, поставя на митрополию своего игумена… Так вот и гибнет соборное правление на Руси! Чья-то злая воля, кто-то не придет с полками в тяжкий час, кто-то перебежит к врагу, изменит святыням. Юрий Данилыч, кажется, способен Магометову веру принять, лишь бы получить власть… Над чем? И зачем? Что даст ему власть, кроме животного ощущения власти, раболепства низших, необузданного утоления страстей, капризной раздачи направо и налево жадным лизоблюдам, случайным людям из холопской черни народного, родового достояния, добытого тяжким трудом пахарей и ремественников? Что кроме?! А к какой соборности может он призвать новгородских бояр?
Или уж надо установить общие правила, законы, жесткие настолько, что любую непокорную выю склонят долу, и соборно блюсти их… Но такие драконовы законы сами отменят всякую соборность, погубят всякое народоправство, ибо каждому укажут от сих и до сих, и уже не будет жизни, не будет свободного творчества мастера, пахаря или купца, не будет смелости и удали, не будет вольной наживы и торга. Все станут холопы перед законом, и худшее насилие воцарит…
К тому же интересы общего дела требуют порою – или всегда? – временных жертв. Так, Новгород должен поступиться доходами ради Руси Великой! И задача верховной власти – его, Михайлова, задача и долг – блюсти обчее, где сдерживая, а где понуждая, у иных отбирая, ради того, дабы не изгибло все. Его вышний долг – блюсти Русь и православную веру как духовную опору Руси. И вот почему невозможны соборность и народоправие, почему нельзя позволить Новгороду отделить себя от Руси и нельзя позволить Юрию Московскому безнаказанно подрывать великокняжескую власть! Так что же, его долг – подавление? А ежели на престол владимирский когда-нибудь сядет такой вот Юрий?
Сумерки меркли, сгущались и начинали редеть. Постельничий опять заглянул в палату – князь не спит, он, постельничий, в ответе за то перед княгиней! Михаил шевельнулся, увидел, понял немой зов. Вопросил, помолчав:
– Что Александр? (Старшого из Даниловичей он привез с собою в Новгород.)
– Даве ездил по городу, баял с горожаны… А ныне спит, уездилсе… Поздно уже, княже! – с укором добавил постельничий.
Что ж! Ежели не будет опоры во власти духовной, нужно укрепить власть княжескую. Иного пути, кажется, нет. Слышно, и в иных землях укрепляет себя королевская власть! Надобно разузнать погоднее у гостей торговых, что створилось у короля франков Филиппа с его божьими рыцарями?
Надобно вызнать наконец, кто из бояр новгородских явно поддерживает Юрия? Что получают новгородцы по торговому суду? Любыми средствами нужно заставить Великий Новгород давать серебро на ордынский выход! Без того не стоять власти (и ничему не стоять на Руси!). И нужно решить наконец, что делать с Юрием. До сих пор он как-то сам не позволял себе… Да и Тохта не одобрил бы новой войны на Руси! А ежели на место Юрия посадить Александра? Сохранив в целости княжение московское?! В этой мысли он впервые так ясно признался себе. Гнал ее, не хотел додумывать до конца. А Александр – нравился. Прямотой. Честью. Даже видом, статью своей. Хотелось бы иметь такого сына! И, кажется, подружились. Вот ездит по Новгороду, бает с гражаны, и он, Михаил, уверен, что не противу него те речи, что не тайный друг Юрия, хоть и брат, а скорее союзник ему, Михаилу…
Поздно. Светает уже. Он заставляет себя встать. Надо соснуть хоть малый час, ради грядущего дня. И поговорить с Александром! И уведать мысли Тохты! И завтра же – послов в Литву! Власть надо усиливать. Надо собирать Русь!








