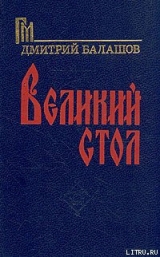
Текст книги "Великий стол"
Автор книги: Дмитрий Балашов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Глава 10
Федор вышел на крыльцо, пошатываясь от слабости. Прошел к сараю. Молодой снег, выпавший за ночь, осветлял двор.
Под жердяным навесом дремали лошади. Из сенника слышался храп старого Яшки-Ойнаса, литвин до глубокого снега все ночевал при конях. Вздыхали коровы. Овцы серою грудой сонно ворочались в загоне. Дворовый пес неслышно подошел сзади, молча, мало не испугав, ткнулся носом в руку хозяина, вильнул хвостом, зевнул и, свесив уши, ушел обратно досыпать свои песьи сны. Федор запахнул плотнее овчинный зипун, поворотил от сарая и остановился, вбирая ноздрями морозное дыхание предутреннего ветра. Прямо перед ним был мягкий обвод соломенной кровли, тын, за которым смутнели избы деревни и дальний лес, неровною грядою замкнувший окоем с той стороны, куда уходили дороги на Ростов и Владимир и дальше, в далекую Орду, и где уже яснело, бледнело и зеленело небо, как будто с ночною темнотой уходящее ввысь от земли.
Родимый дом! Здесь вот, на этом же месте, стоял его высокий терем, спаленный Козлом, терем, которому нынешний только-только что по плечо; а еще прежде был отцов дом, широкий и низкий, из которого Федор выбирался младенем и топал ножками по колкому первому снегу…
Отсюда отец ушел к Раковору и не воротился домой. Отсюда ушла замуж за углицкого купчика сестра Опроська да и пропала потом невестимо в ордынском плену. Здесь он делился с братом Грикшей, что сейчас на Москве, в монастыре Даниловом. Здесь, уже в этом, последнем доме умирала мать. Отсюда уходил он в далекие пути в Новгород и Владимир, молодой, жадный до неведомых земель и больших городов. Отсюда потом отправлял сына в Москву, к брату. Сын теперь служит у тысяцкого Протасия. Рослый сын, выше батьки вымахал! Давно чегой-то вестей не бывало от ево… Здесь была у него та, далекая кухмерьская любовь… Такая далекая уже, что словно и не было ее, а так, во снях приснилось…
Как рвался он, молодым, вон из родимой избы! И вот было все! Были города, языки и земли; служил он двум хорошим князьям, честно служил, до последнего часу. И рати водил, и не робел на борони. Добыл почет и зажиток. Видел Новгород Великий, город своей детской мечты. Все повидал, что просила душа! И возвращался каждый раз снова сюда, в Княжево, в родимый дом, а когда и на родимое пепелище! В этот дом привозил он добро, сюда привел когда-то первого холопа, захваченного на борони, того самого Ойнаса-Яшку. Сюда же привел и жену Феню. И теперь, когда годы пошли под уклон, что осталось ему от походов и странствий, что добыл он в далеких путях? Ничего, кроме этого дома, что стоит на родовой земле покойного родителя, зарытого невестимо где, в чудском краю, на чужбине. Крытый соломою дом, и кони, и овцы в хлеву. Старый Ойнас, такой же старый теперь, как и он, Федор. Да пашня за домом, что надо взорать по весне и вырастить рожь. И, может быть, приведет ему Бог лечь в эту землю, с матерью рядом, на отчем погосте, близ родимого дома, отчего дома своего…
С острой радостной болью понял он сейчас, как все это любит, и потому стоял, ежась от легкой дрожи, медлил и длил мгновения тишины. Будут день и заботы, воротится болезнь, что треплет и треплет его, почитай, вторую неделю, будут ворчание и попреки жены и служебные тяготы, нынче вовсе ставшие неинтересными Федору, и закружат и отодвинут посторонь эту боль и эту любовь… А сейчас… только сейчас и можно стоять, и дрогнуть, и смотреть, как яснеет небо и меркнут звезды и как кровля родимого дома все четче и четче вырезывается на утренней заре.
За изгородой послышались сперва скрип приближающихся саней, затем топот и храп коня.
– Эгей! – донеслось с улицы.
– Кого Бог несет? – недовольно отозвался Федор.
– Не спишь?
Теперь Федор узнал по голосу знакомого мауринского мужика Тимоню и подошел к калитке.
– Беда, Михалкич! Окинф с ратью к городу подошел! Невестимо и как!
– Где?! – выдохнул Федор.
– Уже у Гориц стоят!
Вот оно. Чего ждал, чего боялся все эти годы. Подошло. И, как на грех, занедужил! Да беда николи вовремя и не приходит… Ну что ж, Окинф! Померяемси с тобою напоследях! И Козел, верно, с ним, опеть хоромы на дым спустит!
В доме послышалось шевеление. Феня, раскосмаченная со сна, в криво наброшенном платке, зевая во весь рот, выползла на двор. Завидев за изгородой чужие сани, исчезла.
– Дак я погоню, – Михалкич! – договаривал Тимофей.
– Не зайдешь?
– Недосуг.
– Куда правишь дале-то?
– Теперича в Кухмерь, а оттоле в Купань!
– Ин добро.
Феня, уже прибранная, подошла с квасом.
– Благодарствую, хозяюшка! – бросил Тимофей, торопливо опорожнив посудинку. Он почмокал, подбирая вожжи, послышался охлест и удаляющийся торопливо конский топ.
– Куды зовут опеть? – ворчливо спросила Феня. – Недужного в спокое не оставят!
– Окинф под городом, мать! Ты вот што: собери укладки да серебро. Счас, до свету, и зарой, худа б не было. И с хлебом, Яше накажи…
Федор сперва было намерился ехать в Переяславль верхом, да почуя противную слабость в ногах, велел Якову заложить Серого в санки. Он круто срядился, прихватив саблю, бронь, татарский лук, топорик и каравай хлеба. Наказал, где и как прятать добро, привлек на миг Феню, что молча уродовала губы, дружески кивнул Ойнасу и выехал со двора еще в серых предрассветных сумерках. На полном свету Федор был уже у городских ворот Переяславля.
Еще от Никитского начали ему попадаться торопливые встречные возы, иные шарахались прочь в испуге – видно, бежали из осады. В воротах творилось невообразимое. Месиво людей и лошадей с гомоном, истошными бабьими воплями и ржаньем колыхалось из стороны в сторону. Чей-то конь, как был, в оглоблях и хомуте, встал на задние ноги, мало не приздынув повозку, и рвался, храпя и роняя пену с оскаленной морды. Ратники, чужие, – видать, москвичи, – с копьями и саблями наголо загоняли толпу в ворота, а люди рвались наружу, с матом и воем прорываясь сквозь строй озверелых дружинников. Федор, сцепив зубы, встал на колени и, разогнав Серого, врезался в толпу. Ополоумевший ратник схватил было Серого под уздцы, но Федор, обнажив саблю и пригибаясь лицом к москвичу, проорал:
– Отдай, гад! Развалю наполы!
Тот отпрянул растерянно, и Федор вломился, хлеща наотмашь по конским мордам и людским головам, в низкие ворота, с треском и хрустом проехал по чьим-то саням и, вырвавшись в узкую, запруженную народом улицу, кнутом проложил себе дорогу к Красной площади. Тут тоже творились бестолочь и суетня, но люди были свои, и Федор, перемолвив с двумя-тремя, уже знал, что творится в городе. Заведя тяжко дышащего коня во двор молодечной, он проник боковым проходом в княжеские терема и, расталкивая холопов и молодших ратников, отправился искать боярина Терентия.
Терентия Мишинича Федор нашел в столовой палате, в толпе своих и чужих, видно, московских, бояр, что шумели и спорили, стойно смердам на площади. Бросилось в глаза растерянное лицо юного княжича Ивана, затолканного и забытого боярами. Федор поклонился княжичу, прокашлялся. Тут Терентий завидел Федора, и Федор спросил у него нарочито громко, чтобы слышали все:
– Сдавать град Окинфу не надумали?
– Ты што! – едва не замахнулся на него боярин.
– Я ништо. А в городи молвь такая. У ворот кто?
Из толпы выдвинулся незнакомый московит в дорогом опашне, с надменным лицом. Глянув скользом на Федора, гневно вопросил Терентия:
– Ето почто тут?!
– Уйми людей, боярин! – с угрозой сказал москвичу Федор и, еще возвыся, спросил: – Почто моих ратных убрали со стен?! А ты – повидь, што кмети твои творят в воротах, опосле прошай! – кинул он через плечо московиту. Боярин пошел пятнами, задохнулся гневом, приздынул было кулаки, но юный княжич, что-то поняв наконец, схватил его за рукав и начал торопливо успокаивать. Федор, глаза в глаза, молча вопросил Терентия, тот, едва заметно поведя бровью, качнул головой: уйди, мол, от греха! – и сам, потянув Федора за собою, пошел к дверям палаты.
Уже за дверями старик достал цветной плат, отер вспотевшее лицо:
– Осрамил ты меня! Ето ж Окатий, большой боярин московской!
– С… я на его! – возразил Федор. – Прикажи немедля моих людей на ворота вернуть, не то города не удержим!
Терентий Мишинич вдруг улыбнулся весело:
– Прости старика, Федя! Перепали маненько тута все!
Подошел Михаил Терентьич. Кивнул Федору, как равному, вопросительно поглядел на отца. Терентий тут же велел ему вернуть переяславских дружинников к воротам, а московитов поставить охранять терема. Михаил хотел было спросить еще что-то, видно, про Окатия, по велению коего в воротах были поставлены вместо переяславцев москвичи, но не спросил, махнул рукой, побежал исполнять отцовский приказ.
Терентий Мишинич вышел с Федором на заборола:
– А мне баяли, хворый ты?!
– И сейчас недужен! – отмолвил Федор сурово. – По мне, боярин, вот што: Гаврилыча постеречи не грех, и Онтонова сынка с Еремеем. Те-то, доброхоты Окинфовы, не открыли бы ворота отай!
– Уже послано, Федя, – сказал Терентий Мишинич негромко и оглянулся, не услыхал бы кто. – На то моя старая голова еще сгодилась!
Они поглядели друг на друга, и Федор, оттаивая душой, слегка улыбнулся тоже. Нет, не предаст он старика, как не предал в свою пору покойного князя Ивана Митрича!
– Ступай, Федя! – сказал, помолчав, Терентий. – Наведешь порядок в воротах, ворочайси назад. Мыслю, без тебя вести Протасию передать не мочно. Дороги перегорожены все!
Федор воротился в терема через два часа с большим синяком под глазом. Коротко доложил, что народ успокоен, улица очищена, и городовым воеводам воля забивать в осаду слобожан из рыбацкого окологородья, благо озерные ворота свободны и Окинфовых ратных тамо покамест нет. Долагал он в стольной палате, перед лицом московского княжича, напряженно и неловко застывшего в княжеском кресле, и бояр, что уже не толпились, как давеча, посередь палаты, а чинно сидели по лавкам, кто с любопытством, кто со скрытою улыбкою поглядывая на Федора. Утренняя сшибка его с Окатием, видно, не прошла даром.
Терентий отнесся к княжичу и, получив от него разрешающее наклонение головы, вопросил Федора, сумеет ли тот пробраться мимо Акинфовых застав гонцом от княжича Ивана на Москву? Окатий тут не выдержал, тоже подал голос, предлагая послать с Федором кого-нито из московских ратных.
– Ни! Никово не нать! – твердо отмолвил Федор. – Я один пройду, а с иным и пропасти мочно. Конь надобен добрый и сани.
Бояре зашевелились. По палате рябью прошла говорка, и Федор услышал спрошенное вполголоса одним из московитов: «Верный?» Осуровев лицом, он повернулся к вопрошателю и громко, гася улыбки бояр, отмолвил:
– Мне с Окинфом не сговорить! В те поры, как он к Ондрею Санычу перекинулси, я сотню людей у ево увел! И грамоту на Переславль от князя Ивана Митрича привозил я!
Княжич Иван вопросительно поглядел на бояр, и Терентий Мишинич медленно и веско утвердительно наклонил голову. Тогда Иван, порозовев, приподнялся и звонко сказал Федору:
– Можешь идти!
Федор вышел на площадь. У него вновь, как схлынули напряжение и гнев, ослабли и задрожали ноги. Он остоялся, морщась, стараясь справиться с собою. Без мысли следил, как из собора выносят кресты и толпа ратных и горожан начинает присягать на верность московскому князю, обещая не предатися в руки врагу.
Скоро его вновь позвал к себе Терентий Мишинич, изъяснить словесно, что и как надобно передать Протасию. (Федора, опасу ради, посылали без грамоты.) Терентий, наказав все, помолчал, глянул просительно. Федор понял, сказал:
– Пущай смеркнет! На свету все одно изловят меня, стойно глухой тетере. Мне нынь час мал поспать бы…
Старый боярин захлопотал, сам провел Федора в небольшую изложницу, и Федор с блаженным облегчением повалился на овчины и вытянул ноги. Как оно поворотится нынешней ночью, схватят его или сумеет он уйти от Окинфовых застав, – все это отодвинулось посторонь. Сейчас Федор хотел только одного: спать.
Он проснулся, будто его толкнули. На дворе были сумерки, и Федор на мгновение испугался: не проспал ли он? Прислушался к себе. В теле была отвычная легкость, и в голове чуть-чуть звенело – видно, отступила болесть. Выходя, он столкнулся с Терентием. Старый боярин сам шел будить Федора. Конь, и сани, и припас – все было готово уже.
– Ну, Федюша, Христос с тобою! Не выдай, смотри! – напутствовал его Терентий и перекрестил на прощание.
– Удержитесь тута три дня! – деловито отозвался Федор, забираясь в сани.
Меж тем как нарочито выпущенные из осады вместе с ним два горицких мужика подняли переполох в Акинфовом стане, Федор сразу свернул влево и хорошей рысью проскочил до раменья. Лишь тут его заметили и пустились всугон. Теперь надо было только не оплошать. Спасло его то, что он знал все проселки как свои пять пальцев, а сторожа была, видать, из тверичей и далась на обман: заманив их в частолесье, Федор оторвался от погони, круто свернул знакомой тропой, по которой в зиму возили сено, а вдосталь попетляв по перелескам, загнал сани в непролазный ельник, выпряг коня, наложив на него приготовленные седло и сбрую, и, бросив сани на произвол судьбы, начал чернолесьем и оврагами выбираться к московской дороге. Теперь он одного лишь боялся: как бы и там не напороться вновь на изгонную Акинфову рать.
Земля подмерзла, но снегу было чуть. Конь с хрустом топтал валежник, и топот одинокого всадника далеко разносился окрест. На пригорках Федор останавливался, прислушиваясь. Ночь уже переломилась, и нужно было очень спешить. Сменного коня он мог добыть только в боярском селе под Радонежем.
Федор совсем уже было решился выбраться на прямой путь и скакать в опор, когда, подымаясь по склону, заслышал со стороны московской дороги смутный гул, какой бывает от проходящего коневого стада или большой толпы. Проскочив поневоле открытую поляну, Федор резко остоялся, уже в самой опасной близи от дороги, и замер. Он стоял за кустами, сдерживая дыхание, и молился лишь, чтобы не заржал конь. Вдоль всей дороги шевелилась рать. «Свои али тверичи? – гадал Федор, все не решаясь выступить из кустов. – Коли тверичи, пропаду. Догонят». Холод, не столько от ледяного ветра, сколько от страха, заползал за воротник. Помог счастливый случай. Один из ратников, грубо ломая кусты, отошел от своих и, почти на расстоянии протянутого копья от Федора, начал мочиться. Дождав, когда затихло тоненькое журчание струи, Федор окрикнул негромко и возможно деловитее:
– Эгей, москвич ле?
Ратник ругнулся, шатнувшись в кустах. Не видно было, но чуялось: шарит отставленное оружие.
– Не шуми, друже! – перебил Федор, не сожидая, когда тот закричит. – Я тута один. Чьи вы?
– Чего тоби?! – заполошно вопросил наконец ратник.
– Родионовы, што ль? – повысил голос Федор.
– Ну-у-у! – протянул ратник.
Федор кожей чуял (уже шли от дороги), что ежели… ежели сейчас… Только сейчас он еще мог удрать, да и то выложив из коня все, на что тот был способен.
– Протасья, тысяцкого, нету ли? – спросил Федор, как в воду кидаясь.
– Ратны еговые с нами! – помедлив, отозвался дружинник.
– Позови кого-нито! – сурово потребовал Федор. – Дело есть! Сюда созови! – крикнул он вслед и сам тихонько начал пятить коня. Скоро во тьме замаячили верховые, затопотали кони.
– Кто-е тута?! – грубо окликнули из толпы.
– Москвичи?! – вновь требовательно вопросил Федор. Холодные ветви, прогладив по щеке, заставили его вздрогнуть. («Пропал!» – подумалось где-то внутри.)
– Ты-то чей? – отозвались те, подъезжая.
– Переславской! – возразил Федор. «Все. Теперича не выбраться будет!»
– решил он и, решив, охрабрел. Сам торнул коня, подъезжая.
– Кому тута Протасья нать? – недовольно произнес один, и по голосу учуялось – боярин. И все же было не ясно, не обманывают ли его?
– От княжича Ивана! – бросил Федор, как в ледяной омут въезжая в круг оступивших его людей и коней.
– Грамоту давай! – потребовал боярин.
– Грамоты нету, – отмолвил Федор, и вновь нехороший холодок прошел у него по спине (не поверят!). Москвичи, верно, подумали то же самое, потому что боярин жестко потребовал:
– Тогда вали за мной! Саблю отдай, ради всякого случая!
Лишенный сабли, Федор совсем оскучнел. В лицо его из московских бояр помнил один Протасий, а его-то как раз и не было. Да тут еще кто-то из ратных, спрошенный со стороны, у него за спиной вымолвил весело:
– Тверского доглядчика пымали! К набольшему ведем!
Боярин, оглянувшись, позвал:
– Эй! Кого-нито из Протасьевых покличь! Повести тамо, в полку, може, знают? Как звать-то тебя?
– Федором! Федор Михалкич я, старшой городовой дружины переславской! – торопливо отозвался Федор.
– Ну, где ты тамо старшой, ето мы вызнаем! – отчужденно возразил боярин. Совсем стало зябко Федору. Подумалось: «А ну как и воеводе не доложат?» И вдруг молодой и не сразу узнанный голос окликнул его из темноты:
– Батя?!
Ратник прянул к нему, и уже в следующий миг, поняв, что перед ним сын, Федор (разом как отпустило в черевах) посунулся встречь, и они, с коней, бросив поводья, обнялись и долго не выпускали друг друга из объятий.
– Батя, батя! – повторял, как маленький, Мишук, а Федор молча мял его плечи и трясся, отходя от прежнего страха.
Меж тем, как только Мишук узнал отца, строй москвичей разрушился, все затолкались, сбились в кучу, задевая стременами, боками и мордами коней, затолпились округ Федора, заспрашивали, – тоже, видать, ждали, что чужой и враг, и теперь уже торопили, гомонили разом:
– Из Переславля! Из Переславля гонец! – шорохом потекло по дороге. И уже какие-то бояре, хрупая валежником, пробирались к нему прошать, вести к набольшему, разузнавать, как там, в городе, который – грехом, подумывали иные – не взят ли уже тверичами?!
Федор оторвался наконец от сына и уже с решительною переменою в голосе, в полный зык бросил подъехавшим:
– К Родиону Несторычу веди!
Родион сидел на складном ременчатом стуле, напоминая рассерженного Дмитрия Солунского с древней иконы. Уставясь холодными глазами в лицо Федору, выслушал, кивнул и, не меняя выражения лица, велел накормить и наградить гонца.
Федор, отойдя прочь и тут уже приняв опять отобранную давеча саблю, поежился, – вчуже почуял Родионову злость и не позавидовал Акинфу.
За ночь московские полки подтянулись ближе к Переяславлю и, не входя в соприкосновение с тверскими заставами, остановились в лесах. Родион велел дневать, не разжигая костров, и не показываться. К вечеру он вызвал Федора.
– Сумеешь нынче ночью моих людей провести до города? – Он требовательно глядел на переяславца и, видя, что тот медлит, нетерпеливо добавил: – Двоих!
– Двоих проведу, – сказал наконец Федор. Родион кивнул удовлетворенно.
…Под городом им пришлось бросить коней и последние два перестрела пробираться ползком. К счастью, и тут обошлось, только уже когда было до своих рукой подать, сторожевой крикнул заполошно:
– Кто?!
– Не ори, дурень! Федор я!
– А енти? – спросили из темноты, недоверчиво разглядывая скуластые морды двоих киевских торчинов: Сарыча и Свербея, поднявшихся за спиною Федора.
– Со мною. От Родиона Несторыча посланы. Московская рать подошла! – проговорил он, быстро подходя и рукою отведя нацеленное на него лезвие рогатины. – Чо, не узнал ле?!
– Прости, Михалкич! Свят Господь! – перекрестился ратник.
– То-то, что Господь! – возразил Федор, тут только почуяв, до чего он устал за эти полтора дня. – Громче бы кричал, нас бы, глядишь, и похватали под городом Окинфовы холуи…
Терентий Мишинич с Окатием не спали оба и тотчас, обрадованные, вцепились в Родионовых посыльных. Федор подоспел как раз вовремя. Минувший день прошел в переговорах и конных сшибках, а из утра сожидали приступа всею Акинфовой ратью, и, сметя силы, воеводы уже не надеялись долее удержать города.
Глава 11
Утро встало морозное, чистое. Все уже было готово к приступу, и Акинф, досадовавший в душе, что дал переяславским воеводам лишний день на укрепление города, отдал приказ полкам изготовиться к бою. В двух местах к городской стене уже был сделан примет из бревен и хвороста, и, озря из-под ладони деловитую поспешливость и четкий строй своих полков, Акинф остался доволен. Он разослал вестоношей с приказами и сам в блестящем панцире и граненом посеребренном шеломе во главе личной дружины начал спускаться с горы, держа в руке воеводский узорчатый шестопер.
Зять Давыд, разгоревшийся на холоде, румяный, подскакал, поехал бок о бок, чему-то смеясь. Давыду Акинф вручил вчера воеводство правой руки и сейчас приветно улыбнулся, покивав перьями шелома. Давыд ускакал вскоре к своему полку.
Ратники шли ходко, предвкушая добычу. Уже не завтра, сегодня, еще до вечерней зари, въедет он в свой – теперь уже свой! – город, подумалось Акинфу, и это была последняя сторонняя его мысль перед боем.
Начали подъезжать и отъезжать гонцы от разных полков, уже у ворот началась свалка: московские воеводы, видать, решили выйти в поле и принять бой у городских стен. «Вот дурни!» И Акинф тут же велел стрелкам несколько отступить (чтобы дать возможность противнику вывести своих ратных), а кованой коннице передвинуться (дабы потом нежданным ударом отсечь москвичей от ворот).
Скоро крики ратных с той и другой стороны, посвист стрел и конское ржанье наполнили воздух – начинался бой.
Акинф шагом ехал, в сопровождении знамени и дружины, продолжая следить и отдавать приказы. Уже полезли по приметам на стены, уже вышедшие из города москвичи вспятили, и Акинф готовился ринуть наперерез им кованый полк, когда к нему подомчал ратник с побелевшим лицом и кругло вытаращенными от ужаса глазами. Акинф, нахмуря чело, не успел еще понять и взять в толк, о чем тревога, как сзади, с Горицкой горы, излилась, раскрываясь веером, конная сверкающая лава и донесся далекий грозный зык: «Москва-а-а!»
У Акинфа невольно вздернулась десница – перекрестить лоб. Он всего ждал, только не скорой московской помочи. «Остановить! – вспыхнуло в мозгу. – Как, чем? Кем?!» «Давыд!» – крикнул он в голос и, опомнясь, пихнул вестоношу:
– К Давыду скачи! Пущай повернет полк встречу! Скорей!
«Что еще? Убрать ратных с приметов, поворотить!» Акинф отослал новых гонцов и, коршуном, окинул поле: «Кованую рать ко мне!» (Лишь бы успел Давыд!) Вот на правой руке началось движение, вот, вытягиваясь нестройною чередою; все быстрее и быстрее Давыдовы кмети поскакали встречь московлян. «Ужли не остановят?» – тревожно подумал Акинф и, кинув последний взгляд на городские ворота, поворотил дружину встречу вою, треску и грохоту, что валом катил от Гориц. Полки сшиблись, и все, что створилось дальше, стало уже не сражением – убийством.
Родион, швыряя удары впрямь и вкось, пробивался к тверскому знамени. Акинф рычал по-медвежьи, грозя воеводским шестопером, гнал вспятивших ратников опять и опять, заворачивая пляшущего скакуна. Давыд, врубившийся было в полк московлян, погибал. Смятый строй его дружины прорвала кольчужная конная лава Родионовых кметей. Новая волна переяславцев, излившись из городских ворот, с неслышным в грохоте и стоне сшибающегося железа ревом разверстых глоток, ринула в сечу, уставя копья. Пешцев гнал перед собою боярин, тоже с разверстым над сбитою ветром бородою ртом, тоже с оперенным шестопером в руках. Плотная толпа вокруг Акинфа редела, уже отдельные москвичи прорывались сквозь нее, и дважды уже Акинф, рыкая, вздымал шестопер и гвоздил им по вражеским головам и конским оскаленным мордам, отшибая от себя врагов. Он продолжал медленно пробиваться в сторону Весок, надеясь тут собрать своих, и если не победить, то хоть отступить в порядке, не теряя всей дружины. Только вот Давыд, Давыд! Как скажешь дочери, что бросил зятя в беде, спасая свою голову, как посмотришь в глаза и дружине Давыдовой? На миг показалось было, что счастье повернулось к нему: у переяславцев, что наступали, случилась какая-то замятня, а из леса прихлынули к нему пробившиеся от Никитского ратники. Взыграв духом, Акинф бросил их всею кучею на выручку Давыда. Но наспех сплоченная, уже дважды разбитая и усталая дружина, налетев на Родионовых воев, как расшиблась о них. Кони, закрутясь, пятились, строй распадался, как разъятый сноп. Акинф сам бросился в сечу, и сплоченные им ратники сдавили было московлян. Но тут из засады вылетел плотно сбитый остатний Родионов отряд и врезался в еще не порушенный строй тверичей, и разом что-то произошло назади, у стен, какой-то пожилой переяславский ратник в простой кольчатой броне остановил вспятившее ополчение и повел его снова в бой, и хитро повел: ратные крупно пошли, сбиваясь кучей, уставя и уложив копья на плечи друг другу, ощетиненным гигантским ежом наваливаясь на тверских конников, тут же поваливших назад. Акинф слишком поздно понял, что пропустил миг, когда еще можно было вырваться и искать спасения в бегстве. Последнее, что сделал он, это, бешено озрясь, схватил за плечо стремянного и, прокричав тому прямо в ухо: «Сынов, сынов спасай!» – пихнул холопа в мятущуюся толпу своих и чужих, конных и пеших, крутящихся в сумасшедшей рубке людей; и тот, полураскрывши рот, выпученными глазами ткнувшись в глаза боярину, понял, кивнул и, прикусив губу и прижмурясь (понял, что оставляет господина на плен или смерть), ринул под клинки и мимо клинков, увертываясь от молнийно падающих сабель, уходя от скользящих острых копейных тычков, увеча бока и губы коня, ринул туда, туда, и снова туда, и все-таки туда, и с промятым шеломом, весь в кровавых подтеках и ссадинах под кольчугою, на ополоумевшем, обезумевшем коне, вырвался наконец из сечи, пройдя сквозь Родионову рать (помогло, что не в боярском платье, не то бы не уцелеть), и поскакал заворачивать, уводить остатки прижатого к озеру тверского полка, где оставались оба Акинфова сына.
Выпихнув стремянного, Акинф, созвав остатних людей, обрушился в лоб на Родиона. Он был уже весь мокр под панцирем и хрипло дышал, когда прыгающий хоровод людей и коней вдруг разорвался перед ним и он увидел прям себя усатое оскаленное яростное лицо самого Родиона, уже с полчаса изо всех сил пробивавшегося к Акинфу. Сабельный клинок, проскрежетав, скрестился с шестопером. Кони вставали на дыбы и шли кругом. Акинф не видел, свои ли, чужие вокруг, он уже понял, что перед ним Родион, и сам обрадовался тому: обидно быть взяту простым ратником! Он с новой, облегченной яростью вздел шестопер, норовя обрушить на голову врага, но утомленная боем рука подвела или Родион оказался проворнее, – вся сила удара упала на подставленный щит и пропала впустую, только щит треснул, лопнула красная кожа и раскололось серебряное навершие щита. Родион шатнулся в седле, но тут же, извернувшись, как рысь, косо рубанул, тяжелым клинком проскрежетав по железу. Лопнули завязки панциря, отскочила одна из пластин оплечья, и лезвие со скрежетом прочертило зеркальную сталь. От удара у Акинфа враз онемело плечо. Он бросил коня грудью на врага, с яростью чувствуя, как ослабели пальцы, что допрежь твердо сжимали шестопер. И все же превозмог и, с болью во всем предплечье, вновь поднял оружие, но не поспел, и новый Родионов скользящий удар проскрежетал теперь по шелому и сорвался над грудью Акинфа, слегка зацепив бровь и щеку. «Не сдамся псу!» – подумал Акинф и, зверея, ринул коня, норовя грудью жеребца сбить Родиона на землю. Родионов конь, однако, устоял, шатнувшись, отбросил многопудовую тяжесть окольчуженного скакуна и облитого железом боярина, а Родионова сабля вновь взмыла ввысь и, миг повисев в воздухе, стремительным скользящим извивом устремилась вниз. На этот раз Акинф успел подставить шестопер, но не удержал, не послушалась рука, и получил удар, мало не в лицо, своим же, выбитым из рук шестопером. Паворза лопнула, и оружие, вертясь, полетело под копыта коней. Акинф, рванув повода, поднял скакуна на дыбы заслонясь от очередного удара, и успел выхватить из ножен висевшую на луке седла, про запас, дорогую бухарскую саблю, с рукоятью в гранатах и бирюзе, с узорчатой надписью по клинку, которую не любил в бою за легкость, но теперь, как нельзя, пригодившуюся в беде. Лезвия скрестились в смертном танце увертливой стали, но Родион бил сильнее, а Акинф, уже с хрипом и бульканьем выбрасывавший воздух из запаленных легких, не поспевал отбивать удары слабеющей рукой. Все это творилось очень недолго, но Акинфу казалось, что он бьется с Родионом не меньше часа, и уже что-то как надрывалось в нем, когда чужое копье, видно, кого-то из Родионовых кметей, жестко ударило в бок, видимо повредив кольчугу под панцирем, потому что под одеждой почуялось мокрое, льющееся по телу. Акинф был почти рад скорому концу сечи (о смерти он как-то не думал) и, теряя стремя, заваливаясь, успел только одно подумать еще: доскакал ли стремянный и успели или нет уйти сыновья?
Последний удар Родиона, в который тот вложил всю силу руки и всю скопившуюся ярость своего гнева, пришелся вновь на обнаженное от панцирной скорлупы ожерелье Акинфовой кольчуги, и кольчуга не выдержала, в разошедшиеся кольца под режущим натиском стали ключом хлынула алая кровь. Гикнув на расступившихся ратных, Родион, чуть не в один миг с Акинфом, свалился с коня прямо на распростертое тело великого тверского боярина. Вцепясь в бороду Акинфа, порвав завязки шелома, запрокинул тому подбородок и, обнажив широкий нож, вонзил его в белеющее, с выпяченным кадыком, горло. Кровь ударила струей в грудь Родиону, оросив ему всю кольчугу, и паркий запах человечьего мяса ударил в нос, а он все кромсал и кромсал хрустящие позвонки, пока наконец не отделил Акинфову голову от тела, и встал, шатаясь, не понимая еще толком, что содеял. Свои ратные, обалдев, смотрели на него с коней. Никто не ожидал убийства, и стремянный растерянно держал еще аркан в дрожащей руке – думал, господин станет вязать по рукам великого боярина тверского (какой выкуп пропал!). Озрясь, Родион, вздрогнув весь от острого смысла того, что створил, крикнул, свирепея: «Копье!» И тотчас несколько копий услужливо протянулось к нему. Он поднял тяжелую голову Акинфа, с маху насадил ее на копье и, отдав копье стремянному, полез, пошатываясь, в седло. Утвердясь в стременах, он, не глядя, принял копье с головой Акинфа из рук слуги и, подняв его над собою, с седла оглядел поле. Сеча продолжалась, но уже и заканчивалась. Акинфовых стягов нигде уже было не видать. От города валом валили переяславцы. Подскакавший вестоноша радостно крикнул: «Давыд убит!» – и, ткнувшись глазами в голову на копье, разом острожел лицом. Родион, прихмурясь, тронул коня встречу подъезжавшим переяславским боярам. В толпе дружинников мелькнуло лицо Свербея, что оставался в городе, и осклабилось ему издалека в приветственной улыбке. Еще назади, где-то там, продолжался бой, и Родион, оборотясь к подъехавшему дворскому, велел повернуть половину дружины всугон.








